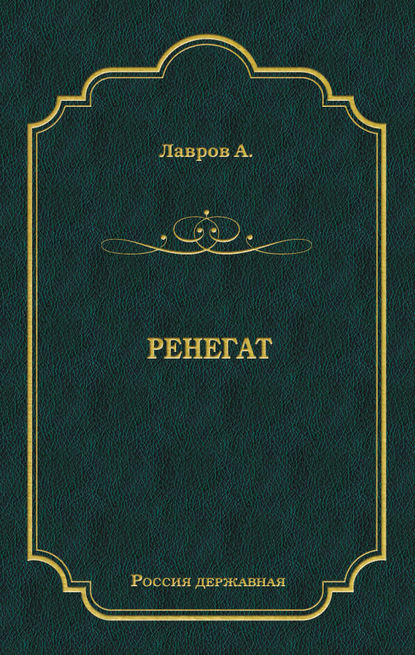 Полная версия
Полная версияРенегат
– О чем спрашивал тебя Куманджеро? – быстро спросил старик.
Молодой человек поспешил передать ему с возможными подробностями весь свой разговор с «железным патриотом».
Тадзимано слушал рассказ, понурив свою седую голову.
– Я почти понимаю, в чем тут дело! – тихо проговорил он, но глаз на сына все-таки не поднял, словно боясь встретиться с его взглядом. – Я думаю, что Аррао Куманджеро в самом деле искренен…
– Ты думаешь так, отец?..
– Да…
– Но тогда что же все это значит? – вскричал Петр. – Аррао – такой человек, что от него можно ожидать всего.
Старик ответил не сразу; он несколько минут понуро молчал.
– Я должен тебе сказать еще вот что! – произнес он усталым, спавшим голосом. – И то, что я тебе скажу, до некоторой степени объяснит все… Судьба как будто решила, что настало для меня время вспомнить о моем прошлом именно теперь… Твой брат Александр привез к нам из Сан-Франциско этого русского чудака. В совпадении случайностей я вижу не что иное, как перст судьбы. Болтовня этого русского была для вас только забавна, мне же она напомнила мое несчастье, тот ужас, который разразился надо мною и привел меня сюда… многое напомнила – все напомнила…
– Я видел это, отец! – воскликнул Петр.
– Из чего? – поднял на него глаза старик.
– На твоем лице, когда ты выслушивал русского, отражалось изумление, потом смущение… Тогда я не придал этому значения, но теперь ясно представил себе все.
– И ты прав… Но слушай. Из болтовни нашего смешного чудака для меня выяснилось совершенно неожиданно то обстоятельство, что человек, бывший причиной всех моих несчастий, находится в Порт-Артуре.
– Вот как! – удивленно произнес Петр.
– Ты как будто удивился? Чему?
– Я предполагал совсем иное.
– Что?
– Василий Иванов рассказывал о своем друге детства, Контове… Что с тобой, батюшка?
По лицу старика пробежала болезненная судорога, но он быстро справился с собой и вялым тоном ответил:
– Ничего… Продолжай, что ты хотел сказать?
– Я был уверен, что ты почему-то особенно интересуешься именно этим Контовым…
– Да, я интересуюсь им, хотя не знаю его! – в упор посмотрел на сына Тадзимано. – Интересуюсь до того, что твой брат Александр отправится завтра или послезавтра в Порт-Артур, чтобы посмотреть, что это за человек.
– Контов в Порт-Артуре?
– Куманджеро обратил его в свое орудие, – тихо проговорил Тадзимано, – этот молодой человек малоопытен в жизни. Аррао без всякого труда поставил его в такое положение, что он стал в его руках игрушкой.
– Ты очень подробно разузнал все об этом молодом человеке, батюшка! – прервал Петр отца.
В тоне его голоса звучала нотка ревности.
– Да. Когда я услыхал от Василия Иванова, что этот молодой человек предполагал посетить наши острова и должен был прибыть на «Наторигаве», я полюбопытствовал узнать, почему он не явился… Ведь Александр прямо указал ему на нашу семью. Но Александр вместе с тем сказал, что видел его в обществе Куманджеро. Я кое-что сообразил и отправился к командиру «Наторигавы» Ямака. От него я узнал все. Молодой человек вместе с Куманджеро, внезапно прервав свой путь, пересели в открытом море на судно, шедшее в Порт-Артур. Кое-что сказал мне Ямака, потом я встретил майора Хирозе и Чезо Иоки и от них узнал еще некоторые подробности. Тогда я понял все. Кто хоть немного знает Аррао Куманджеро, тот знает, как он умеет овладевать людьми. Молодой человек, повторяю, сам того не замечая, явился в его руках превосходным разведчиком, шпионом, как говорят в Европе… И он для Куманджеро был тем более удобен, что как русский, никогда даже не бывавший в Японии, не может ни в ком из порт-артурских властей возбудить какое бы то ни было подозрение. Понял ты махинацию Куманджеро?
– И ты, отец, посылаешь Александра предупредить Контова об этом?
– Нет, Петр, – отрицательно покачал старик головой, – нет…
– Зачем же тогда едет Александр в Порт-Артур?
– Я тебе в самом начале своего рассказа сказал, что там в настоящее время живет человек, бывший причиной всех моих несчастий… Ты помнишь это?
– Да, помню…
– У этого человека, у этого негодяя Кучумова! – с внезапно вспыхнувшим порывом гнева вскричал Тадзимано. – У этого презренного Кучумова, – повторил он ненавистную ему фамилию, – есть дочь… девушка… Иванов рассказывал, что его молодой друг…
– Контов?
– Он…
– Влюблен в эту Кучумову, в дочь твоего врага?
– Да…
Глаза Петра так и загорелись.
– Отец! – вскричал он. – Теперь я все понял!.. Все! Не нужно мне более ничего знать… Я понял, отец! Твой враг так близко, что ты…
– Постой, что с тобою? Какая причина твоей радости?
Петр Тадзимано действительно весь переменился. Лицо его пылало молодым воодушевлением, глаза искрились, грудь высоко вздымалась.
– Так, отец, так! – не обращая внимания на вопрос старика, восклицал молодой человек. – Наконец настала счастливая для тебя минута! Ты можешь отомстить врагу… Он в твоих руках! Судьба послала тебе этого Контова и отомстит за тебя через него…
– Кто тебе сказал, что я собираюсь мстить, – приподнялся в кресле старец.
Оно со всевозрастающим изумлением смотрел на оживившееся, сияющее лицо сына.
– Кто? Сердце, отец! Ведь месть так сладка!.. Видеть своего врага уничтоженным, страдающим, сторицей выносящим те муки, какие ты когда-то вынес… Да разве это – не величайшее счастье, разве это не высшее наслаждение? О-о-о!
Петр, задыхаясь, рассмеялся, но в смехе его слышались торжество, радость.
«Дикарь проснулся, кровь матери заговорила!» – думал старик, глядя на сына.
– Что ты так смотришь на меня, отец? – вдруг воскликнул Петр. – О, если бы ты мог только знать, какое счастье кипит в моей душе!.. Месть, месть!.. Отчего, отец, ты не пошлешь меня? Почему твой выбор пал на Александра? Александр молод… Пошли меня, отец! О-о-о! Не бойся, я сумею рассчитаться за тебя… Я отомщу, отомщу!.. Ты будешь доволен… Я принесу голову твоего врага, и ты выколешь проклятые глаза, смотревшие на твой позор, вырвешь позорный язык, клеветавший на тебя, ты смешаешь с грязью мозг, задумавший преступление против тебя! Отец, пошли меня!..
– Петр, уйди! – проговорил старик.
Он дрожал всем телом.
– Уйди, Петр, – простонал он, – оставь меня одного!
Молодой человек посмотрел на него взглядом только что пробудившегося человека, пожал плечами, склонился, поцеловал руку отца и вышел.
Оставшись один, Николай Тадзимано несколько мгновений стоял неподвижно.
– Вот оно, вот возмездие, – вырвалось у него из груди. – Что будет?.. Александр уедет… Что будет, когда братья встретятся в Порт-Артуре?.. Полюбят ли они друг друга? А если нет? О-о-о!.. Как тяжело!..
Блуждающий взор старика остановился на лике святого, изображенного на иконе. Он застонал и опустился на колени, ища успокоения в молитве…
13. Братья
Прошло несколько дней после тяжелого разговора между отцом и сыном.
Старый Тадзимано ходил задумчивый, угрюмый, мрачный; сын тоже был расстроен и избегал встреч с отцом наедине.
Петр хорошо понимал, что после того разговора, который произошел между ними, новый разговор был бы уже не под силу его отцу. Молодой человек видел, что страдание надламывает старика, что в душе борются и не могут найти для себя никакого выхода самые противоположные чувства.
Вместе с тем разговор с отцом оставил в душе молодого человека странный осадок.
Старик был вполне искренен с сыном – это Петр чувствовал, в этом он был уверен, но вместе с тем словно какой-то голос говорил ему, что отец был искренен не до конца, что осталось еще нечто невыясненное и это нечто было весьма существенное, что могло впоследствии оказать несомненное влияние на всю их жизнь.
Петра мучило сознание, что между ним и отцом залегла тайна, отделившая их друг от друга, поколебавшая их любовь.
Еще более увеличивало его душевную муку и то обстоятельство, что он ясно видел, как сильно страдает отец, и страдает все из-за той же внезапно родившейся между ними тайны.
Как ни беззаботен был младший из братьев, Александр, но и он видел, что какая-то печаль легла вдруг на всю их семью и недавний еще мир навсегда улетел из их тихого жилища. Александр старался приглядываться, старался наблюдать, но его наблюдения давали слишком мало почвы для каких бы то ни было выводов.
Одно только было ясно молодому лейтенанту – что отец неспроста посылает его в Порт-Артур, что именно там, в этой русской твердыне на берегу Тихого океана, таится разгадка всех тех смутных тревог и волнений, которые постигли их семью в эти последние дни.
Впрочем, Александр Тадзимано относился к своей предстоящей поездке вполне спокойно. Он боялся только одного: как бы не опоздать ему к тому дню, когда окончательно будет решена война.
Молодость всегда пылка. Ужасы битв представляются ей чем-то в высшей степени радостным, каким-то блаженством, открывающим широкий путь к никогда не меркнущей славе. С кем воевать? За что воевать? Об этом молодой лейтенант почти не думал. С русскими ли из-за Кореи и Маньчжурии, с французами ли из-за их индокитайских колоний, с американцами ли из-за Филиппинских островов, – не все ли равно! Молодые силы рвались наружу, впереди улыбалась слава, нужно было спешить к ней во что бы то ни стало, как можно скорее спешить, не обращая внимания ни на какие препятствия, уничтожая на пути все преграды.
Ничего из того, что происходило в семье в эти дни, не замечала лишь Елена. Молодая девушка переживала пору первой чистой любви, и все ее существо было поглощено исключительно этим чувством.
Ее смущало, впрочем, и смущало немало, одно обстоятельство… Ее жених, милый, ласковый, предупредительный Алексей, становился день ото дня все более и более сумрачным: на его лицо легла тень тяжелой заботы, удручавшей его, заставлявшей рассеянно относиться к невесте. Елена понимала, что Алексей много работает, что у него почти не остается времени, которое он мог бы посвятить ей; она не подавала вида, что страдает, старалась быть веселой в те немногие часы, когда молодой человек приходил отдохнуть от своих трудов в их семью. Каждый раз, когда она взглядывала на него, сердце ее сжимало тяжелое предчувствие чего-то неизбежно-грозного, неотвратимого, таившегося пока еще в их будущем, но уже готового выползти из этого таинственного будущего в омраченное предчувствиями настоящее.
Сильно сказывалось в этой молодой девушке ее не чисто японское происхождение. Европейская кровь брала свое. В Елене Тадзимано не было той покорности судьбе, которой отличаются все вообще японки. Она не умела подчиняться без борьбы даже случайностям, и общеазиатский принцип «чему быть – того не миновать» казался ей нелепостью. Молодая девушка никогда не высказывала этого своим подругам, зная, что они не поймут ее, но в то же время всегда во всех случаях своей жизни поступала так, как подсказывало ей сердце, и чаще всего наперекор всему, что создавала вокруг нее жизнь. Это было исключительной чертой ее характера, чертой, переданной ей исключительно от отца-европейца.
Но кто в семье Тадзимано, с одной стороны, был чрезвычайно доволен своим положением, а с другой – чувствовал себя глубоко несчастным, так это Василий Иванов. Он страшно скучал по Контову, и в то же время все молодые Тадзимано всецело завоевали его симпатии, а к старику, их отцу, он чувствовал величайшее почтение.
– Почтеннейший старец – папашенька-то ваш!.. – говорил он не раз своему любимцу Александру. – У нас таких только все больше на картинах рисуют. У меня вот один живописец был в приятелях, он хотя больше по части вывесок прохаживался, но иного художника за пояс заткнуть мог. Так у него для таких почтенных старцев даже старописный трафарет был – из керженских скитов добыл, а там-то в благообразных старцах толк знают. Так по этому трафарету выходило: «Брада по пояс и ниже прозелень на яичном желтке, власы на голове, аки власиевы – угодник есть такой: в деревнях скотину милует, а поле киноварь на масле и все покрыть лаком». Вот он таким манером и творил благообразие. Что ни портрет – то картина. Были бы мы все теперь в России, так я похлопотал бы, уж он с папашеньки такой портрет написал бы, что куда угодно вешай: хоть в гостиную, хоть в кабинет…
Но кроме таких разговоров за глаза Василий Иванович старался выказать свою почтительность и уважение к старику во множестве маленьких услуг.
О своем положении Василий Иванович мало задумывался.
– Эх, что мне о себе думать-то! – говаривал он. – Одна голова не бедна, а и бедна, так одна… Жив буду – сыт буду, зла я никому не делаю, и мне никто никакой пакости не учинит… Вот Андрей Николаевич – это точно. Он, бедняга, страдает, поди, теперь… Скучно ему без меня-то…
Как ни близорук был Иванов, как ни мала была его наблюдательность, но и он уже заметил, что все японцы, каких только ему приходилось видеть, относятся к нему с заметным недоброжелательством. Он, к счастью, не знал языка и не понимал тех насмешек, дерзостей, глумления, которые всегда неслись вслед ему, когда он появлялся – один ли, с Тадзимано ли – на токийских улицах.
Счастливое неведение! Что было бы с Ивановым, если бы он мог понимать весь словесный град, постоянно сыпавшийся на него на всех улицах, на всех площадях, на всех углах, где он только ни показывался.
А показывался он все реже и реже. Братья Тадзимано, оберегая своего гостя от случайностей, перестали брать его с собою на прогулки, а выходить один не решался и сам Василий Иванович.
Все это привело к тому, что Иванов с величайшим нетерпением, которое не смог даже скрывать, ожидал дня своего отъезда в Артур.
Наконец, этот день настал.
Пароход отходил не из токийского порта. Приходилось прокатиться по железной дороге до приморского города Осака и уже отсюда начать морское путешествие.
Накануне того дня, когда лейтенант и русский гость должны были уехать, старик Тадзимано затворился в своей рабочей комнате со своим уезжающим сыном и долго-долго, чуть ли не до рассвета, беседовал с ним. Петр Тадзимано во все время, пока Александр был у отца, ждал его в их средней комнате, заменявшей им и зал, и гостиную.
– Что тебе говорил отец? – подошел он к брату, когда тот вышел из комнаты старика.
– Многое говорил! – уклончиво ответил Александр.
– Ты не передашь мне вашей беседы?
– Нет…
– Отчего?
– Отец взял с меня слово никому не говорить о нашем разговоре, по крайней мере до тех пор, пока я не возвращусь обратно.
– Хорошо, не говори… Я знаю и без твоего рассказа все.
– Откуда?
Александр с изумлением посмотрел на брата.
– Прежде чем беседовать с тобою, отец удостоил меня своим разговором… Он тебе дал все инструкции?
– Да… Это я могу сказать…
– Стало быть, ты знаешь все… Поклянись мне, что ты выполнишь все приказания отца.
– Слушай, Петр, ты меня удивляешь! Зачем тебе это?
– Затем, что по праву старшего я должен был исполнить то, что наш отец поручил тебе… Понимаешь ты – я! Мне неизвестно, почему наш отец выбрал тебя, но я тебе завидую… Впрочем, не клянись… Не нужно! Если ты почему-либо не исполнишь поручений отца, исполню их я… Это наш священный долг пред нашим родителем!
Петр повернулся и быстро пошел из зала, стараясь скрыть овладевшее им волнение.
– Прощай! – приостановился он на пороге. – Помни: воля отца должна быть исполнена.
Александр сделал было движение, чтобы удержать брата, но тот не остановился.
– Не понимаю Петра! – тихо проговорил он. – Что он так волнуется? Отец не давал мне таких поручений, чтобы они заслуживали столь серьезного внимания… Познакомиться с каким-то Кучумовым, сойтись поближе с этим Контовым, попавшим, кажется, в путы Куманджеро, и поприглядеться к тому и другому, увезти сюда при возвращении, если можно будет, Контова – вот и все… Что тут особенного? А Петр волнуется… Из-за чего? Не понимаю! Положительно не понимаю ни волнения Петра, ни даже значения отцовского поручения… Зачем все это понадобилось отцу? Конечно, я исполню все, но, право, что такое у нас творится в семье с того дня, как появился этот Иванов?.. Я очень рад, что его не будет… Быть может, как только он уедет, все войдет в свою обычную колею… Я думаю, что так именно и будет.
Эти мысли совершенно успокоили молодого человека. Он перестал думать о будущем, о загадках, вдруг зародившихся в их семье, и поспешил поскорее добраться до постели, памятуя, что поезд, на котором ему приходилось уезжать, уходит рано утром.
Его маленькая спаленка была отделена лишь ширмой от соседней более просторной спальни старшего брата. Засыпая, Александр слышал шаги Петра: молодой гвардеец все еще был охвачен волнением и никак не мог заснуть в эту ночь.
С рассветом Александр и Иванов уехали. Старик Тадзимано даже не вышел проводить сына. Но Александр видел его у небольшого оконца его комнаты, и почему-то глубоко врезался в память молодого человека полный тоски и страдания взгляд отца.
В тот же день под вечер пришел навестить свою невесту Алексей Суза. Он прежде всего, даже прежде чем пройти в помещение Елены, отправился к старику Тадзимано и сообщил ему о дне, когда должно было состояться собрание по воле микадо не ассоциаций, а только главарей их.
– К какому решению придут на этом собрании, такое примет и правительство великого тенпо! – рассказывал старику Суза. – Слава богу! Ждать недолго. Это проклятое ожидание действует на всех нас угнетающе.
14. Среди японских патриотов
Собрание, вернее тайное совещание, главарей японских политических ассоциаций было назначено в одном из павильонов императорского дворца.
Таких политических ассоциаций, прочно сплоченных, имеющих вполне определенную организацию, в Японии чрезвычайно много, но наибольшим значением среди них пользуются Риккенкенсато – либерально-консервативная и Риккентенсенто – конституционная императорская партия. Затем большим влиянием на политику внутреннюю и даже внешнюю пользовались партии Сампото и позднейшая Кенсенхото. Далее шли уже более мелкие ассоциации, преследовавшие те же задачи, как и крупные, но в мелком масштабе.
Кроме вождей партий по воле императора были собраны многие гичо и даже соп, то есть городские головы и волостные старшины. Они являлись представителями массы народа, выразителями его желаний и вместе с тем должны были возвестить своим сикомин, то есть избирателям, решение, к которому должно было прийти это тайное совещание.
Несмотря на многочисленность собрания, не слышно было ни шума, ни разговора: в просторном зале господствовали полнейшие тишина и порядок. Участники совещания, как тени, неслышно, бесшумно проскальзывали в зал и все, без исключения, войдя, преклоняли колени перед шелковой занавесью, скрывавшей вход во внутренние помещения павильона.
За этой занавесью во время совещания должен был находиться божественный тенпо, которому этикет не позволял присутствовать среди представителей своего народа открыто, но который в то же время хотел слышать сам все, что будет высказано.
Вдоль стен зала были разложены соломенные, но изящные тюфяки, заменяющие диваны и вообще меблировку во всех японских домах. На этих тюфяках сыны Страны восходящего солнца располагались обыкновенно кто полулежа, кто на корточках – любимая поза всех японцев, даже принадлежащих к высшим классам. Кроме этих тюфяков-диванов было расставлено несколько десятков стульев, сидеть на которых почти не находилось охотников.
У стены против занавеси был поставлен невысокий длинный стол, покрытый на европейский лад зеленым сукном. Никаких письменных принадлежностей – чернильниц, перьев, карандашей – не было и в помине, даже незаметно было необходимого на всех собраниях европейцев звонка для председателя. Да и к чему бы он был нужен, если каждый из присутствовавших старался быть ниже травы, тише воды? Все эти люди собрались для великого всенародного дела; в их руках в эти моменты до некоторой степени была судьба их родины, и вряд ли кто-нибудь из них решился бы отнестись не с достаточной серьезностью к поставленным на обсуждение вопросам.
С каждой минутой число участников собрания все увеличивалось, в зале становилось тесно, но тишина господствовала по-прежнему.
Около стола с зеленым сукном стали группироваться люди, стоящие во главе современной Японии.
Резче всех своим бесстрастием и спокойствием выделялся маркиз Ито, творец японской конституции, самый замечательный из всех политических деятелей Японии. Он уже был порядочно стар, но в его темных глазах так и блистали и недюжинный ум, и почти юношеская живость.
Около этого вождя японских консерваторов стоял другой не менее замечательный человек современной Японии – граф Окума, вождь либеральной партии, шепотом разговаривавший с маркизом Сейонцзы, представителем ассоциации Секвай, действовавшей в том же направлении, как и партия маркиза Ито. Эти люди были заклятыми политическими противниками друг друга, что нисколько не мешало им быть добрыми друзьями в частной жизни. Каждый из них по-своему служил своему отечеству, но общественная деятельность была у них у всех строго отделена от их частной жизни.
Здесь же присутствовали не менее знаменитый, чем Ито, маршал Ямагата и один из великих возродителей Японии – сотрудник и Ямагаты, и Ито – граф Инуэ.
Ито, Ямагата, Инуэ, величайшие из государственных деятелей Японии, стояли вне всяких партий, руководя в то же время направлением каждой из них.
Около этих людей собрались министры, составлявшие правительство микадо, и среди них особенно выделялась хитрая, чисто лисья физиономия маркиза Суемацу, занимавшего довольно долгое время пост министра финансов, но потом отказавшегося от министерского портфеля ради каких-то одному ему известных целей.
Несколько отдельно стояла группа людей с суровыми, хмурыми физиономиями. Все эти люди были одеты в европейские штатские сюртуки, носить которые они, очевидно, не умели.
Среди них как-то особенно выделялся своею представительностью толстый, сильно расплывшийся старик с глубоко изрытым оспой лицом. Это был знаменитый в Японии маршал Ояма, а стоящие около него – выдающиеся генералы сухопутных войск и старейшие адмиралы японского флота. В стороне от них, ближе к Ито и Окуме, в одну группу собрались выдающиеся представители дипломатического мира, окруженные журналистами, профессорами университетов и учеными, и, наконец, за ними были выборные от народа.
Поразительна была здесь смесь одежд. Пестрые, с преобладанием желтого цвета, национальные хиромоно были перемешаны с черными европейскими сюртуками – Азия, и Азия древняя, столкнулась и смешалась здесь с современной Европой.
Дальний Восток и европейский Запад накладывали свою печать на сборище этих людей. Но тип выдавал в них азиатов, хотя несколько лиц и приближались к кавказскому типу. Впрочем, таких было очень немного и в общей массе они были почти незаметны.
Совсем отдельно от всех, в уголке зала, стоял с пожилым серьезным японцем в европейском костюме Николай Тадзимано. В руках у него была довольно объемистая тетрадь, в которую он время от времени заглядывал, обращаясь после этого с вопросами к своему соседу. Тот отвечал ему, пожимая плечами и отрицательно качая головой.
Этот серьезный японец был бывший военный министр микадо, генерал Кодама, усердно пропагандировавший идею перехода японцев на материк, но в подробностях своего плана совершенно расходившийся с большинством.
– Нет, нет, любезный Тадзимано, – шепотом говорил он, – наши труды пропали…
– Вы думаете, генерал? – спрашивал старик. – Неужели можно спорить против очевидности?
– А разве вы не видите по общему настроению, что мы с вами останемся в одиночестве?
– Я думаю только, что нам удастся убедить собрание… Все ваши доводы так обоснованны…
– А я думаю, что мы изложим нашу мысль как только возможно короче… Нас вряд ли будут слушать!
– Тс! – остановил его Тадзимано. – Смотрите, сейчас начнется совещание…
Действительно, в зале наступила гробовая тишина. Все, кто только был здесь, в одно мгновение очутились на ногах и, почтительно склонив головы, обратились в ту сторону зала, где была видна слегка колебавшаяся теперь шелковая занавеска. Все эти люди знали, что за шелковой тканью скрывается сам божественный тенпо…
Граф Кацура сделал знак и занял место посредине стола. Рядом с ним поместились налево от него Ито, Окума, Сейонцзы; направо сели все министры, входившие в состав императорского правительства. Остальные собравшиеся кто остался на ногах, кто разместился на тюфяках у стен.
Несколько мгновений прошло в многозначительном безмолвии.
– Мы собрались все здесь, – тихим, ровным голосом заговорил Кацура, – чтобы иметь суждение о ближайшем будущем нашего отечества. Наступают тяжелые времена, когда всему нашему народу грозит бедствие войны, и это бедствие неизбежно, ибо, если не будет войны, наш народ должен будет погибнуть… Много к тому причин, и большинство собравшихся здесь уже знают о них подробности. Но наш великий император желает, чтобы здесь были высказаны все мнения, были высказаны без стеснения, ибо вопрос касается всего народа, и поэтому народ должен знать, что ждет его. Ваша задача – выслушав все, что будет здесь сказано, передать наши решения своим близким и убедить их, что так, как мы поставим, так и должно быть, ибо наши решения имеют в виду лишь благо нашего отечества. Прошу вас выслушать прежде всего следующее.

