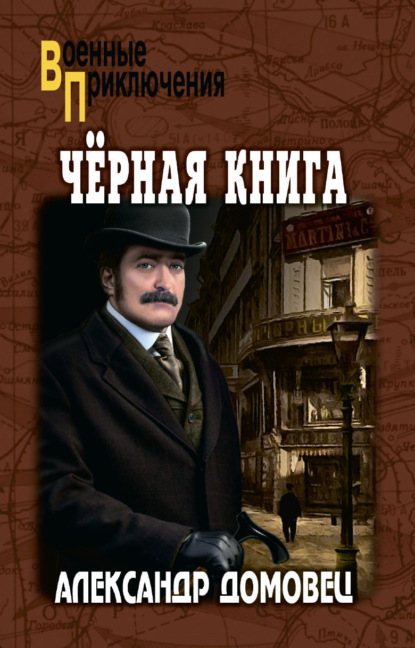
Полная версия:
Чёрная книга
– Сказано изрядно, – охотно согласился человек, – да только не от души.
– Отчего же вы так решили? – натурально удивился Морохин, подхватывая разговор.
Старичок снисходительно посмотрел на него.
– Вы, должно быть, не из наших кругов, молодой человек? Не из научных?
– Да в общем, нет. Мы с товарищем по торговой части. Книги Себрякова читали взахлёб, вот и решили проводить, земля ему пухом…
– Ну, ясно… – Старичок указал подагрическим пальцем на бритоголового оратора. Понизил голос. – Это Саитов, секретарь императорского исторического общества. Себрякову завидовал смертельно, а теперь, вишь ты, соловьём разливается.
– Завидовал?
– Ещё как! Сам-то звёзд с неба не хватает, а покойник был учёным настоящим, крупным. И писал превосходно. Вот вам книги, вот вам слава, вот вам гонорары. И благосклонность царской семьи в придачу. Сам Александр Михайлович на похороны пожаловал, надо же. – Собеседник перевёл дух и вытер лоб мятым платком. – Да тут, почитай, покойнику все завидовали.
– Прямо-таки все? – подал я голос.
Старичок задумался.
– Ну, не все, это я загнул, – признал самокритично. – Я вот ему не завидовал. Всю жизнь при кафедре, студентам преподаю тихо-мирно и место своё знаю, да-с! Хотя в молодости подавал надежды и за монографию о Лжедмитрии получил золотую медаль академии. – Приосанился. – Дерюгин Модест Филиппович, с вашего позволения.
– Арсеньев Иван Алексеевич, – представился Морохин в свою очередь.
– Карпухин, – коротко сказал я, наклоняя голову.
– Так вот, зависть… Она в научной среде очень даже присутствует. Особенно к тем, кто чего-то добился и вперёд вырвался. А Себряков, царство ему небесное, вырвался далеко. Голова светлая и труженик великий. Из архивов не вылезал, за письменным столом дни напролёт просиживал. Что ни статья – взрыв, что ни книга – успех. Этого простить не могли. Исподтишка, само собой. Так-то, по видимости, почёт и уважение, в академию предложили баллотироваться… Попробуй не предложи, если вниманием августейшей фамилии обласкан!
Я скорбно покачал головой.
– Экие страсти… Тяжело, поди, жить, коли все завидуют и никто не любит…
– Ну, кое-кто всё ж любил и даже очень. Студенты, к примеру. Этих от его лекций за уши было не оттянуть. Или вот ещё Варакин. Хотя, конечно, Варакин – случай особый. Уж очень профессору обязан был.
– А Варакин это кто? – спросил Морохин, украдкой глянув на меня.
– Бывший студент Себрякова. Тот его с университета приметил и на кафедру к себе забрал. Тянул посильно. Очень толковый юноша, по Ивану Грозному уже теперь один из лучших в России. Себряков его продвинул на приват-доцента. А Варакин, в свою очередь, помощником у него был, ассистентом, что ли… Да вот он.
Дерюгин показал на высокого, худого человека лет тридцати, стоявшего у изголовья гроба вместе с молодой женщиной в траурном платье и шляпке с чёрной вуалью.
– А женщина, должно быть, дочь покойного? – спросил я для поддержания разговора, хотя и знал, что никакая это не дочь.
– Какая там дочь… Вдова это, Дарья Степановна. Хотя да, по возрасту очень даже соответствует… У Себрякова детей не было и родственников, почитай, не осталось. Лет пять назад схоронил жену, потосковал два годочка, а там и женился на молоденькой. Знаете, седина в бороду… И как его на всё хватало!
Дерюгин неуместно хихикнул.
Между тем панихида закончилась. Гроб заколотили и на верёвках спустили в могилу. Одним из первых ком земли бросил Александр Михайлович. До этого, произнося короткое слово, великий князь воздал должное научным заслугам покойного и сообщил, что из личных средств учреждает стипендию имени Себрякова. Её будут присуждать студентам, которые исследуют жизнь и государственные труды членов семейства Романовых. (Присутствующие студенты оживились.)
Вдова пригласила помянуть покойного, и собравшиеся потянулись к выходу с кладбища. Ушёл и наш словоохотливый старичок, приподняв шляпу в знак прощания. У могилы, засыпанной цветами, остался лишь Варакин. Со стороны казалось, что он, сгорбившись, изучает надписи на лентах траурных венков. «Незабвенному Викентию Павловичу Себрякову от скорбящих коллег по Петербургскому университету», «Профессору Себрякову от благодарных студентов», «Учёному и гражданину В. П. Себрякову от императорского исторического общества»… Подойдя ближе, я увидел, что плечи Варакина вздрагивают.
При звуке наших шагов он оглянулся.
– Что вам угодно, господа? – спросил, вытирая глаза платком. Выражение лица у него было горестно-беззащитное.
– Варакин Виктор Маркович? – вместо приветствия спросил Морохин.
– Он самый. Чем могу?
Морохин коротко поклонился.
– Сыскная полиция. Следователи Морохин и Ульянов. Хотели бы расспросить вас по поводу покойного профессора Себрякова.
– Что, прямо здесь, у могилы? – спросил Варакин мрачно, пряча платок.
– Отчего же здесь? Отойдём на аллею, присядем на лавочку… Впрочем, если хотите, можем проехать к нам в сыскное отделение.
На миг задумавшись, Варакин махнул рукой.
– Уж лучше на аллею. Всё свежий воздух…
Дмитрий Морохин
Присев на скамейку, Варакин вдруг сказал:
– Не понимаю, причём тут полиция.
Мы с Ульяновым переглянулись.
– Что, собственно, вас удивляет, Виктор Маркович? – мягко спросил Ульянов.
– Профессор Себряков скончался от инфаркта. Что тут расследовать?
Действительно, такова была официальная причина, прозвучавшая в некрологах. (В интересах следствия попросил я вдову про труп швейцара и разгром в квартире не распространяться. Профессор скончался, и точка.) И причина истинная – инфаркт случился на самом деле. А вот от чего? Версия судмедэксперта Судакова о предсмертной пытке из-за своей зыбкости даже не попала в протокол. Но, разумеется, убийство швейцара и беспорядок в квартире с якобы естественной смертью профессора никак не совмещались. Во всём этом предстояло разбираться, однако не объяснять же Варакину подноготную начатого расследования.
– Некоторые обстоятельства смерти профессора нуждаются в прояснении, – уклончиво сказал я. – С этой целью мы опрашиваем близких Себрякова. А вы, насколько известно, многие годы были его доверенным лицом, помощником.
– Хочу также заметить, что беседовать мы намерены неофициально, без протокола… по крайней мере, пока, – добавил Ульянов. – И поэтому рассчитываем на откровенный разговор.
Варакин помедлил.
– Спрашивайте, – сказал наконец, пожимая плечами.
А плечи у приват-доцента были широкие. И вообще, несмотря на худобу, производил он впечатление человека вполне крепкого. Упрямый взгляд серых глаз и решительный подбородок указывали на волевой характер. Что, впрочем, не помешало ему разрыдаться у могилы профессора.
– Общее представление о научных заслугах профессора Себрякова у нас есть, – начал я. – А что бы вы могли рассказать о нём как о человеке?
– Как о человеке я могу рассказывать долго, – нетерпеливо сказал Варакин. – Что вас интересует конкретно?
– Хорошо… Правда ли, что коллеги по университету и историческому обществу завидовали ему?
Варакин усмехнулся.
– Завистников хватало, это верно. Со стороны Себряков казался баловнем судьбы, счастливчиком. За что ни возьмётся – всё получается, всюду удача. Чересчур успешных не любят, порой и ненавидят. И плевать, что успех оплачен талантом и каторжным трудом. Сказано же, что люди – порождение крокодилов…
– Стало быть, друзей среди учёных и преподавателей у Себрякова не было?
Варакин, задумавшись, отбросил с высокого лба строптивую прядь.
– В общем-то, не было, – сказал наконец. – Какие там друзья! В глаза улыбались, за спиной шипели. Яду в стакан с чаем не сыпали, и на том спасибо. Исключение разве что Зароков…
– Это кто? – тут же спросил Ульянов.
Выяснилось, что Евгений Ильич Зароков, как и покойный Себряков, трудится в чине университетского профессора истории. Вот у него причин для вражды с Себряковым не было. Во-первых, научные интересы никак не пересекались. Если Себряков специализировался на русской истории применительно к династии Романовых, то Зароков занимался исключительно новой и новейшей историей Франции. Во-вторых, оба профессора приятельствовали ещё со студенческой скамьи. Зароков даже был шафером на второй свадьбе у Себрякова. В общем, ладили и общались. Поэтому одно из немногих прощальных слов на похоронах, произнесённых искренне, было сказано именно Зароковым…
– С этим ясно, – подытожил Ульянов. – А скажите, Виктор Маркович, в чём заключались ваши обязанности как помощника профессора?
Вытянув длинные ноги (я мимолётно отметил, что ботинки стоптанные, да и костюм знавал лучшие времена), Варакин полез в карман за папиросами.
– Так, знаете ли, в двух словах не скажешь…
– Скажите в трёх, – хмыкнул я.
– Были обязанности рутинные. Например, я вёл переписку с издательствами, следил за своевременной выплатой гонораров. На это у меня была доверенность. Подбирал материалы для работ, когда Викентий Павлович сам не успевал, – человек он был занятый. Случалось, решал какие-то бытовые, хозяйственные вопросы… Но это не главное.
– А что же главное?
Варакин помедлил.
– Понимаете, я был для профессора собеседником, оппонентом и рецензентом. Един в трёх лицах.
– Поясните.
– Масштабы у нас, конечно, были несопоставимые. Знаменитый учёный – с одной стороны. Молодой историк – с другой. Но Себряков мою голову… ценил, что ли. – Варакин слегка улыбнулся. – Давал мне читать рукописи, внимательно слушал замечания. Опробовал на мне различные идеи. Иной раз мы с ним спорили до хрипоты.
– Даже так? Покойный был демократом?
– В части науки – да. Здесь он чинов не признавал. И случалось, что с моими замечаниями соглашался, а потом учитывал в работе.
Я наклонился к Варакину.
– А скажите, Виктор Маркович, много ли времени отнимали ваши обязанности помощника?
– Много, – ответил Варакин, не задумываясь. – Человек я одинокий, так что, в сущности, жил больше у Викентия Павловича, чем у себя. Квартира у него просторная, он мне комнатку выделил. Тут же я и к собственным лекциям готовился. Всё-таки приват-доцент. – Выдержав короткую паузу, уточнил: – Вернее сказать, так было до того, как профессор повторно женился.
– А что это изменило? – спросил Ульянов.
Варакин взглянул на него с некоторым удивлением.
– Ну, как же… С молодой женой в доме и порядки поменялись. Понятно, что теперь я не мог, как раньше, запросто приходить к профессору, открывать дверь своим ключом, мыться в его ванне… Дарье Степановне это бы не понравилось. Она женщина своеобразная, с характером.
– А, кстати, как складывались отношения Себрякова с новой женой? – поинтересовался я.
Лицо Варакина выразило неудовольствие.
– Я свечку не держал и в их отношения не лез, – отрезал он. – Меня это не касается. Вы лучше у самой вдовы спросите.
– Так и сделаем, – заверил Ульянов, просияв обезоруживающей, несколько виноватой улыбкой (мол, пардон за бестактный вопрос). – А вот если не секрет… Вы много лет помогали профессору, фактически работали на него. Он вам платил?
Взгляд Варакина сделался ледяным.
– Никогда, – чуть ли не по складам произнёс он.
– Что ж так? – удивился Ульянов. – Покойный был скуп?
Варакин отшвырнул папиросу.
– Какую чушь вы сказали, – бросил сквозь зубы неприязненно. – Себряков скупец… Да если на то пошло, это я ему должен был бы платить, а не он мне!
– За что же?
– За всё! Я же студент его бывший! Он мне и с диссертацией помог, и в университет преподавать устроил, и поддерживал всегда… Родной папаша спился и помер, так Викентий Павлович мне вторым отцом стал. Разве я мог с него взять хоть копейку? – С тяжёлым вздохом добавил: – Эх-ма! Идёшь по жизни, как по полю, а поле-то в надгробных холмиках…
Теперь стало ясно, почему Варакин плакал у могилы. Отец не отец, но благодетелем профессор для него был точно. И то, что для других стало не более чем грустным житейским событием (ну, умер и умер, все там будем), для Варакина обернулось горем.
– Спасибо, Виктор Маркович, у меня вопросов больше нет, – сказал Ульянов доброжелательно. – Вот, может быть, у коллеги…
– Да, есть ещё один, – откликнулся я. – Скажите, Виктор Маркович, над чем перед смертью работал профессор? По какой теме?
Уголки губ Варакина поползли вверх в сардонической улыбке.
– Тема простая: негативные последствия Тильзитского мира для российской промышленности, сельского хозяйства и торговли, – отчеканил он. И тут же уточнил самым серьёзным тоном (с оттенком иронии, впрочем): – Тильзит – это городок такой в Пруссии. Там в 1807 году Наполеон с Александром Первым заключили мирный договор.
– Знаю, знаю, – отмахнулся я. – Присоединение России к континентальной блокаде Англии, признание наполеоновских завоеваний и так далее… Интересная тема.
– Интересная, – согласился Варакин несколько озадаченно (откуда у полицейского чина такие познания?). Поднялся. – Если вопросов больше нет, я откланиваюсь, – буркнул неприветливо.
– Всех благ, Виктор Маркович, – сказал Ульянов. – Вы, должно быть, сейчас поедете поминать профессора? У нас тут за воротами экипаж, можем подвезти.
– Сам доберусь…
И, не прощаясь, пошёл по аллее к выходу, засунув руки в карманы брюк. Мы остались.
– Ершистый молодой человек, – сказал Ульянов, глядя вслед.
– Ершистый – это ладно. Врать-то зачем?
Ульянов засмеялся.
– Вы тоже заметили? – спросил с интересом.
– Ещё бы… Себряков всю научную жизнь посвятил изучению биографий семейства Романовых. И вдруг на исходе шестого десятка переквалифицировался в экономиста. Последствия Тильзитского мира для российской промышленности и торговли, надо же… Версия на простака.
– А поскольку Варакин был ближайшим помощником профессора и в курсе всех его дел, ошибиться он не мог, – подхватил Ульянов. – Значит, сознательно вводит в заблуждение.
– Зачем?
– А чёрт его знает. Непонятно, а значит, подозрительно…
Встав, я принялся ходить по аллее взад-вперёд. Есть у меня такая привычка – думать ногами. Вот и теперь кое до чего додумался.
– Поехали ко мне в отделение, – сказал Ульянову, останавливаясь.
– Поехали, – согласился тот, поднимаясь и разминая ноги. – По пути обсудим что к чему. – Задрав голову, со вздохом посмотрел на небо, с которого раскалённо улыбалось солнце. – Хотя лучше бы за город, на залив…
– Я думаю, надо установить за Варакиным наблюдение, – предложил я, трясясь в казённом экипаже по пути в присутствие.
– А мотив?
– Определённого мотива пока нет, – признался я. – Но есть ощущение, что Варакин чего-то недоговаривает. И враньё это непонятное…
– Пожалуй…
– Пусть наш человек за ним походит, посмотрит, – продолжал я. – Так, на всякий случай. Возможно, выявит какие-нибудь особенности поведения или интересные контакты, которые можно будет взять в разработку.
На том и договорились. Вернувшись в отделение, я получил согласование начальника и распорядился прикрепить к Варакину хорошего, опытного филёра Еремеева. Пока на неделю, а там будет видно. Проинструктировал сотрудника лично.
Что ж… Чутьё следователя, которым я про себя всегда гордился, не подвело и на этот раз. Но, увы, самым неожиданным и трагическим образом.
Спустя сутки Еремеев был найден мёртвым в одной из подворотен Голодаевского переулка, в котором проживал Варакин.
На следующее утро в своей квартире нашли Варакина – бездыханного.
Глава вторая
Дмитрий Морохин
В прозекторской[2] было прохладно и пахло какой-то медицинской гадостью – формалином что ли. Тела́ Еремеева и Варакина лежали на соседних столах, укрытые белыми простынями. Судмедэксперт Судаков уже закончил вскрытие и теперь прилежно скрипел пером, готовя заключение.
– А-а, Дмитрий Петрович, моё почтение! – произнёс, отрываясь от бумаги. – И вам доброго дня… вот не знаю, как обратиться.
– Кирилл Сергеевич, – подсказал Ульянов, хмуро глядя на покойников.
– Коллега мой, прошу любить и жаловать, – пояснил я.
Старик Судаков пользовался непререкаемым авторитетом. Был он замечательным экспертом с большим опытом и невероятной дотошностью. Его суждениям доверяли безоговорочно. Свои неприятные и грязные обязанности он всегда исполнял в белоснежном халате, поверх которого надевал длинный чёрный фартук с нарукавниками, и являлся на службу исключительно в свежей сорочке, подавая пример непреклонной аккуратности.
– Небось, не терпится узнать, что да как? – саркастически осведомился старик.
– Не терпится, – признался я, виновато разводя руками.
– И заключения дождаться не можете?
– Мог бы, – не беспокоил…
Это у нас был такой многолетний ритуал. Мне Судаков благоволил, хотя и считал торопыгой. А я, в свою очередь, приходил к нему, что называется, «на полусогнутых» и смиренно просил поделиться результатами вскрытий, не дожидаясь официального заключения. И получал своё с неизбежным довеском в виде стариковского брюзжания. Расставались до следующего раза взаимно довольные.
Судаков поднялся из-за стола, потянулся и неожиданно сказал:
– Странные дела творятся в вашей сыскной епархии, господа сыщики.
– Чем же странные, Владимир Иванович?
– Помните давешнего покойника, что поступил вместе с профессором Себряковым? Швейцар, кажется…
– Он самый. Помню, и что?
– А то, что вот этих бедняг, – он указал на неподвижные тела́ Еремеева и Варакина, – упокоили точно таким же способом, как и того швейцара.
– То есть вы хотите сказать…
– Не хочу, но вынужден. Обоим шеи сломали, и сломали тупым предметом. Такое впечатление, что убийца носит с собой… ну, не знаю… специальную палку или доску, например, и пускает в ход по мере необходимости. Прямо умелец какой-то.
Установилась пауза, в ходе которой Судаков пытливо смотрел на меня, словно ждал, что я немедленно выну из кармана и предъявлю упомянутого умельца.
– Ну, доска-то вряд ли, – протянул Ульянов задумчиво.
– А это вам виднее, господа сыщики, – сказал Судаков, почёсывая фундаментальную лысину. – Доска там или не доска – разбирайтесь, карты в руки. Но это ещё не всё…
По его знаку мы подошли к телу Варакина. Откинув край простыни, Судаков показал правую кисть покойника.
– Вот, видите? Указательный палец практически выломан. Как тогда у Себрякова, только намного сильнее.
Действительно, у основания пальца был заметен сильный багровый отёк. Да и сам палец торчал неестественно.
– Досталось ему больше, чем Себрякову, – негромко сказал я. – Человек молодой, сердце здоровое, и пытку вынес. Хотя всё равно погиб…
– Вынести-то вынес, но кричать должен был так, что весь дом переполошил бы, – заметил Ульянов. – Боль же невыносимая… Кляп?
– Он самый, – подтвердил Судаков. – Убийца скомкал платок и глубоко засунул в рот, чуть ли не в самую глотку. И руки-ноги связал, чтобы человек не сопротивлялся. А что касается боли, то да…
Он аккуратно стянул простыню с головы покойника. Ко многому я привык за годы в сыскной полиции, но, кажется, никогда ещё не доводилось видеть мёртвое лицо, столь сильно исковерканное предсмертной му́кой. Тёмные волосы, высокий лоб и решительный подбородок безусловно принадлежали несчастному приват-доценту, но в целом узнать его было трудно. Вот и ещё один могильный холмик вырос на поле жизни…
Пожав руку Судакову и попросив прислать заключение как можно скорее, мы отправились ко мне в отделение.
Сказать, что моё душевное состояние было отвратительным, – ничего не сказать. И дело не в том, что визит в мертвецкую всегда не радует. Не стесняюсь признаться, что я был ошеломлён. Четыре трупа за неполную неделю расследования – такого в моей практике ещё не случалось. Дальше-то что?
В кабинете мы сели по обе стороны приставного стола и некоторое время выжидательно смотрели друг на друга.
– Предлагаю заняться дедукцией, – сказал я наконец. Ничего более умного предложить в этот момент я не мог.
– Черлока Хольмса[3] начитались, а? – осведомился Ульянов не без иронии.
Начитался, да. Книги о приключениях английского сыщика и его друга доктора Ватсона пользовались в России бешеной популярностью, а я их, к тому же, изучал с профессиональным интересом. Краеугольный метод Хольмса, заключавшийся в пристальном наблюдении и тщательном анализе фактов, сомнений не вызывал. Проблема в том, чтобы применить общий принцип к частному случаю. К убийству профессора Себрякова, например…
Уже через полчаса в кабинете повисли клубы табачного дыма, пиджаки были сброшены, а стол покрылся листками бумаги, на которых мы делали заметки. Вопросов было больше, чем ответов. Тем не менее кое-что вырисовывалось.
Прежде всего, не вызывало сомнений, что все четыре убийства – дело рук одного человека. Трое из четверых были убиты одинаково (перелом шейных позвонков), а двоих, Себрякова и Варакина, перед смертью пытали однообразным способом, выламывая палец. (Способ необычный, но действенный. Не дыба, конечно, однако чрезвычайно болезненно. Я попробовал на себе – мало не показалось.)
Главный вопрос: что надо убийце? Чего добивается?
Если нападение на квартиру Себрякова с натяжкой можно было объяснить попыткой ограбления (в которую, кстати, вписывался страшный беспорядок, оставленный преступником), то убийство Варакина было явно из другой оперы. Что грабить у бедного преподавателя? Стало быть, убийцу интересовал сам Варакин. Вопрос, почему.
– Исключительно в связи с его работой у Себрякова, – твёрдо предположил Ульянов.
– Согласен, – откликнулся я. – Убийца что-то искал в доме Себрякова, но не нашёл. Бесполезно угробив профессора, переключился на помощника. Вдруг тот знает, где находится искомое? Отсюда, кстати, и пытка. Варакин или ничего не знал, или не хотел говорить.
– А может быть, и знал, и сказал, – произнёс Ульянов, качая головой. – Боль кому только языки не развязывала.
– И так может быть… Бедняга Еремеев, получается, жертва случайная. Убийца следил за Варакиным и обнаружил, что за тем кто-то ходит. И убрал, чтобы под ногами не путался. А потом занялся приват-доцентом.
– Да уж, занялся…
Невесёлая реплика Ульянова вызвала во мне странный эффект. Душу вдруг уколола острая жалость к молодому историку, погибшему страшно и неожиданно.
Вообще-то жалеть жертву преступления непрофессионально. Лучшее оружие следователя – ясная, холодная голова. За многие годы полицейской практики я выработал в себе хладнокровное, можно сказать, отстранённое отношение к делам, в которых довелось разбираться. Но сейчас ничего не мог с собой поделать – жалел Варакина, и всё. Колючего, ершистого, явно жившего нелегко, в стоптанных ботинках и старом костюме, – жалел. И всей душой хотел найти убийцу.
– Между прочим, вы обратили внимание, каким образом Варакин сообщил нам тему предсмертной работы Себрякова? – спросил вдруг Ульянов, постукивая пальцами по столешнице.
– Что вы имеете в виду? Сообщил и сообщил. Тильзитский мир и так далее. Соврал явно…
– Он эту сложную и длинную тему выпалил одним духом, фактически отбарабанил, словно отрепетированный текст, – пояснил Ульянов. – Да ещё слегка ухмыльнулся, – ешьте, мол, добрые люди.
Я прикрыл глаза, вспоминая подробности разговора. Действительно, так всё и было. Но что из этого следует?
– Сдаётся мне, что перед смертью Себряков занимался темой, которую не хотел афишировать, – продолжал сотоварищ. – А поскольку его работой нередко интересовалась пресса, да и коллеги-историки, то и придумал профессор версию, как говорится, для внешнего употребления. И Варакину велел использовать её же – вероятно, не хотел преждевременной огласки. А сам непублично занимался совсем другим.
– Чем же именно? – задал я риторический вопрос.
Ульянов молча развёл руками.
Кирилл Ульянов
Работать с Морохиным оказалось сложнее, чем я думал. И дело тут не в личных отношениях – они-то как раз складываются неплохо. Сложно скрывать, что изначально я знаю о деле Себрякова больше, чем сотоварищ. Приходится где словом, где намёком направлять мысли Морохина в нужную колею, чтобы в полной мере включились его недюжинные сыскные способности.
И ситуация в целом, и особенно моя роль в ней мне совсем не нравятся. Ненавижу кривить душой. Об этом я сразу же откровенно сказал тем, кто организовал моё участие в расследовании. В ответ услышал, что так надо. Морохин – один из лучших столичных следователей. Вот пусть и разберётся в деле… с моей помощью, разумеется. Убийцу надо найти во что бы то ни стало. А главное, понять, кто за ним стоит. Что касается подоплёки дела, то Морохину её знать не нужно. Её вообще никому знать не нужно, ну, или почти никому. «Так что надеемся на вас, Кирилл Сергеевич. Контролируйте ход расследования и дайте нам результат. А мы решим, что с ним делать».

