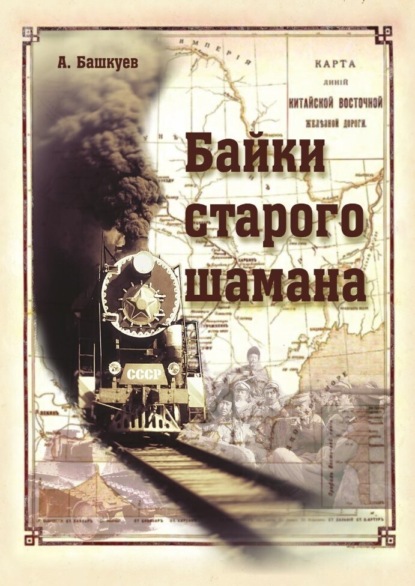
Полная версия:
Байки старого шамана
Это было долгое путешествие, многие в горах и пустынях от голода и холода умерли, но самые сильные добрались до этих краев, и тут нас встретили русские. Было это в правление Михаила Федоровича, который нам очень обрадовался, ибо мы были чуть ли не первым народом, пожелавшим прийти к нему на службу в Русское Царство, и поэтому предки наши были русским государем обласканы. Взамен мы давали русскому царю присягу на монгольский манер (то есть если кто из нас в бою побежит, то после боя казнят весь десяток, а если побежит десяток, казнят сотню и далее), крестились все в православие и стали военнообязанными. За это Царь позволил нам брать местных и делать их своими аратами.
За время пути мы много воевали с аборигенами, ибо они не хотели нас через земли свои пропускать, так что по названию наших бунчуков и тотемных знаков нас звали на тюркский манер «фури» или «бури», что значит – «волки», ибо каждый из наших девяти родов Хонгодоров имеет своим предком Волка. Из этого мы стали называться «бурятами» или «бурятскими/братскими народами», ибо завоеванное нами население тоже стало зваться «бурятами», а самоназвания у нас никогда не было, ведь некогда мы были лишь охраною и обслугою в Ставке Великого Хана, а какое может быть самоназвание у обслуги? А «Хонгодор» всего лишь означает «девять родов» и не более.
Наш тотем Третьего рода – темно-серый речной волк, который некогда водился в зарослях монгольского Керулена. Это был мелкий волк, рыбоед и падальщик. В этом нет ничего удивительного, роды всегда располагались в Степи в виде квадрата три на три. Третий род занимал северо-восточный угол. Север означал Ночь, Холод, Лишения, а Юг – Богатство, Радость и Тепло, поэтому у китайцев по сей день все «южные» цифры почитаются как «счастливые», а «северные», напротив, несут смерть и погибель. Восток означал Мудрость и Хитрость, в сравнении с Западом, который был стороной Силы и Доблести. Это объясняется тем, что Орда всегда изображалась в виде летящей птицы с клювом, обращенным на Юг. У этой Птицы правая сторона всегда считалась на Западе, а левая – на Востоке, поэтому западные Небожители для моих предков всегда числились добрыми и хорошими, а восточные – злыми и очень недобрыми.
Так что если задумываться, то Третий род всегда выглядел самым недобрым среди всех девяти, а волк наш считался самым злым и коварным. Его древнее имя «бабр» – волк-рыбоед, волк-падальщик. Если хотите, вы можете его сегодня увидеть на гербе города Иркутска, правда, там он выглядит скорее как кот, ибо волки-рыбоеды уже давно вымерли.
Вы знаете, как в древности монголы хоронили своих умерших? Люди в основном умирали зимой от голода, холода и лишений. Зима в наших краях – время наименьших осадков, поэтому всю зиму овцы могут жить на подножном корме, сжевывая прошлогоднюю промерзшую насквозь траву. Зато от больших холодов и отсутствия снега земля промерзает насквозь и становится крепка, как гранит. А у кочевников-скотоводов в обиходе никогда ни лопаты, ни узбекского кетменя не было. Стало быть, тело умершего зимой в землю закопать невозможно. Тело невозможно и сжечь, ибо в голой, продуваемой ветрами степи всегда недостаточно дерева. А тело захоронить надобно, ибо иначе по весне оно оттает, загниет и начнет разлагаться, распространяя вокруг себя заразу с миазмами. Поэтому покойника оборачивали в кошму или просто обматывали старыми тряпками, чтобы лошади не пугались, и пускали по телу табун. Лошади измельчали промерзшее тело своими копытами и разносили останки на многие версты. И тогда на раздробленные останки приходили следующие за племенем волки-падальщики, которые могли разгрызть эти малые куски мяса. Вот от этих волков-падальщиков наш Третий род и произошел. Мы совершали последнее омовение умершего, готовили лошадей к ритуалу, успокаивали и опаивали чем-нибудь родственников, ибо в сравнении с иными способами упокоения усопших этот все-таки выглядит совсем варварским. Но раз тело нельзя ни захоронить, ни сжечь, а по причине мороза тело целиком волкам не угрызть, это было самым лучшим решением. Людям говорили, что умерший возвращается к Предкам, что это сами Предки в образе волков-рыбоедов приходят за ним. Смешно. Мой дед как-то сказал, что самыми закоренелыми атеистами обычно становятся служители культа. Не знаю. Наверное. Я часто думал, что многие решения, которые я в жизни принял, тесно связаны с тем способом, которым предки мои избавлялись от тел своих умерших. Пусть грязно, пусть жутко, но иного выхода не было. Любой хороший Шаман знает это. Именно поэтому наш Третий род испокон веков был родом Севера/Ночи и Востока/Злой Мудрости.
А дальше… Когда мы приняли русское подданство и крестились все на православный манер, соборованием и отпеванием покойных занялись русские батюшки. И предки мои утратили прежнее ремесло. Зато мы получили под управление озеро. Выглядело оно так.
Я тогда еще ходил в школу, а после – в гимназию. Отец работал путевым инженером в Иркутске (тот был вполне себе губернским городом, тогда как Верхнеудинск – уездным, и родовитые буряты даже с этой стороны озера в те годы обычно в Иркутске работали). То есть я ходил в школу в Иркутске, но на лето меня с друзьями отправляли домой, в Мысовск, через озеро Ольхон. Каждое лето нас после школы везли сперва на Ольхон, и там мы молились у Камня. Это называлось «Поклонись Духам Камня на Западе». Там, на Ольхоне, приходил день, когда обычный северный ветер «байкал» сменялся на южный «култук» и тающий лед начинал уходить на север. Тогда нас сажали на речной кораблик или буксир – или уж как получится – и мы кто на камбузе, кто в капитанской рубке, а кто и в угольном погребе плыли домой через Озеро. Теплый южный ветер растапливал путь среди льдин, и от этого казалось, что перед нами сам Байкал ото льда очищается. Местные араты всегда выходили нас встречать и думали, что лед тает не от того, что пришел июнь и подул теплый ветер, а потому что это «маленькие шаманы» плывут и лед при этом растапливают. Соответственно осенью, в сентябре-октябре, в Мысовске для нас сооружали баркасы, и мы под парусом с попутным «шелонником» выходили из устья Мысовки, и уже в море сильный «баргузин» нас подхватывал и нес назад в иркутскую школу – на обучение. Это называлось «Доверь судьбу восточному ветру». Наши паруса опять же араты и прочие рыбаки видели и про себя знали, что навигация на священном море закончена. По традиции в июне «маленькие шаманы» с запада на восток по морю плыли, и с этого дня можно было в море идти – ловить рыбу, а в конце сентября – в октябре опять же «маленькие шаманы» с востока на запад назад возвращались, это значило, что на море на лодках в этом году теперь делать нечего. То есть плавать-то можно, но если налетит «сарма» или там начнет тянуть сильный «баргузин», а ты в море, то сам ты кругом виноват, и винить в своей глупости уже некого.
А на том берегу мы с братьями жили у моего деда Софрона Степановича, который и был Хранителем Озера. Жил он в огромной, просторной избе с русскою печкой, сложенной в незапамятные времена, и араты были уверены, что саму избу выстроили именно вокруг печи, которую якобы некогда сложили неизвестные древние колдуны и волшебники. Дед круглыми днями сидел перед нашей избой на завалинке, курил огромную трубку, принимал от аратов нехитрые их подношения и иногда – очень редко – поднимал над избою огромное белое полотнище, которое издали, с озера и Улундинского тракта, было видно, и все рыбаки с капитанами знали, что идет шторм, ибо белый цвет – знак опасности.
Собственно, в этом и состояли обязанности Хранителя Озера – он всегда знал, когда придет шторм и оповещал народ в округе об этом заранее. А откуда он это знал – было неведомо. Одним словом, чародей и волшебник. Я всегда любопытствовал, как дед это делает, а тот отвечал, что обязательно все расскажет, когда придет срок. И вот однажды, когда я приехал к деду на очередные каникулы, тот проверил дневник, расспросил про школу, как я учусь, какие у меня отметки и прочее, а после сказал:
– Ну вот, ты уже и готов узнать тайну Озера.
С этими словами дед отвел меня в свою спальню, где стояли шкафы, набитые огромными древними домовыми книгами. Одна из них лежала раскрытою на столе, и дед предложил мне прочесть то, что там написано. А там русским по белому было проставлено то число и стояла аккуратная запись «06:00. Ясно. Ветер северный, слабый. Температура воздуха 15 градусов. Температура воды 8. Давление 714 мм рт. столба. Склянка – чиста. Тихлон» и так далее (за точность цитаты уже не ручаюсь, но суть вы поняли).
Я этой записью всерьез озадачился, и дед рассказал мне, что в незапамятные времена, когда наши предки только прибыли к озеру из-под Великой Стены, здесь им было все в новинку. Монголы вообще не любят воду, не умеют плавать и не купаются. А тут как раз нашему роду достались в управление береговая черта, магический остров Ольхон и само озеро. Ну и сама жизнь нас заставила полезть в воду. Многие утонули, погибли и без следа в Озере сгинули. Поэтому, чтобы люди не гибли, появился Хранитель Озера. Это был человек, который принялся собирать приметы, легенды и предания местных аратов, прочих тунгусов с эвенками и на основании этих примет стал шторма на море предсказывать. Были тогда первые Хранители Озера, как и все степные буряты, кочевниками, путешествовали они по всему берегу, и приметы были у нас собраны со всего побережья. Так вот именно Мысовка на восточном берегу возле места, где хребет Хамар-Дабан обрывается в Байкал, оказалась тем местом, где эти приметы лучше всего наблюдались и просматривались, и поэтому Хранители Озера стали постепенно оседать именно в этом краю. А приметы были простые и в то же время красивые.
К примеру, считалось, что все они – не просто так, а результат действий духов предков, которые пытаются таким образом связаться со своими потомками и предупредить их о грядущей опасности. Например, вы находитесь на мысе на восточном берегу озера и наблюдаете за закатом. Если солнце садится в синее озеро, все хорошо, и дальше будет такая же ясная погода. А вот если на закате солнце воду как будто кровью окрашивает, то это из моря поднимается кровь предков, которая вопиет о том, что вот-вот будет шторм и надо бежать вывешивать белое полотнище. Ну и так далее.
И вот однажды, когда очередной Хранитель Озера, глава Третьего рода сидел на берегу и курил свою трубку, к нему подъехали русские, спешились, с уважением поздоровались и стали расспрашивать, кто он такой и что именно он делает. Предок все им рассказал, показал свои записи (тогда они были на уйгурском) и… Тут русские замахали руками и сказали, что так дело не пойдет. Записи нужно обязательно перевести на русский и вести их каждый день. По два раза – утром и вечером. А чтобы пухнущие гроссбухи по степи в кибитке с собою таскать не пришлось, приезжие русские засучили свои рукава и построили предку русскую рубленую избу с настоящею огромною русскою печью с одним лишь условием, чтобы он больше никуда с этого места не кочевал, чтобы записи все его были отныне на русском и делал он их регулярно и каждый день. Сам делал, сыну своему приказал, внуку и – прочее. А чтобы никто его при этом не обижал и не трогал, выдали ему грамоту – в дни моей молодости была она уже почти черной от старости, где было сказано, что «…согласно Указу Его Императорского Величества Петра Алексеевича, Илье боярскому сыну Софронову отныне назначена служба Хранителя Озера, которую он обязуется нести честно и вечно, передавая ее по наследству, а в награду за нее он освобождается ото всех податей и имеет право брать со всех проплывающих мимо оброк омулем, чаем, табаком и проч.» (цитата может быть неточна, ибо давно это было, и я ее уже немного запамятовал). А потом долгие годы предки мои переводили исходные тексты с уйгурского на русский, делали в гроссбухи все новые записи, старые записи перечитывали и внимательно анализировали. В итоге обнаруживались новые все более сложные приметы, о которых те же араты были вообще без понятия. Эти приметы становились все более непостижимыми для внешнего наблюдателя, и в итоге араты стали считать нас колдунами, магами и волшебниками, хотя на самом-то деле в шаманском деле не место, вообще, сказкам и суевериям. Учет и контроль. Каждодневная работа, сбор информации, сверка с имеющимися данными, анализ поступающей информации и точный прогноз на базе анализа. Вот и все колдовство! Мой дед говорил все это немного иначе, но я лишь передаю смысл сказанного.
К примеру, я спрашивал – что значит «тихлон»? На это он отвечал, что так говорил ему заезжий русский, который гостил у него целое лето по молодости. Он думал, что «тихлон» от русского слова «тихо». Раз на улице ясно и тихо, значит – «тихлон». Русский рассказывал, что здесь в Сибири каждый год возникает огромный «сибирский тихлон», из-за которого такие холода и зимой мало снега. Вот дед мудреное словцо и запомнил. А русский гость, как безумный, то в эту тетрадь сунется, то в другую – и аж смеется от радости. Все лето гостил, сколько мог из гроссбухов в журналы свои переписывал, а когда назад в столицу вернулся, прислал огромный ртутный барометр с объяснением, как им пользоваться, склянкой в которой перед штормом возникают кристаллы и вертушки всякие, чтобы знать скорость ветра. А потом долгие годы присылал хорошего чаю, вкусный табак и диковины всякие, а взамен дед посылал ему копии своих записей.
Разумеется, просто в чистом поле или, верней, на мысу между огромным горным хребтом и озером отдельная изба стоять не могла. Времена были всякие: места наши каторжные, так что вскоре прапрадедову избу огородили высоким забором с острыми кольями, вокруг нее поднялись дома наших слуг, или родственников. Так как царский патент в наших краях был не у многих, как-то получилось, что младшего сына в роду стали отдавать церкви, а родовое гнездо стало считаться выселками местного монастыря. Так что Великий Шаман отныне был главой рода, сам Мысовск вокруг него управлялся купеческой гильдией кяхтинских купцов, которые в самом Мысовске опять же были все членами нашей фамилии, а рядом стоял Монастырь Старой Веры, где настоятелем был глава одной из младших ветвей нашего рода. То есть в одном месте были и Великий Шаман, и Купеческий Совет, и Настоятель Мысовского монастыря. Причем, в отличие от монастырей у раскольников, мы получали благословение от Православного Митрополита, ибо мы ни с Патриархом, ни с Синодом не ссорились, а преследовать нас проку не было. Один был Православный монастырь в округе, а вокруг сплошные дацаны да шаманские огнища. Вам интересно, что теперь с дедовской избой сталось или с патентом от имени самого Петра Первого? Нынче в той самой избе – современная метеостанция. Я ездил туда, беседовал с метеорологами. Их там жило трое: русская пара и один бурят, который там лишь работал. А сама изба стояла за зданием местной дорожной станции. Ее и не видно теперь между старым пакгаузом и водокачкой. Мне метеорологи не понравились – худые, вертлявые, ни в одном ни виду, ни значимости. Вот и не несут им омуля, а потому и станция сейчас в запустении. Настоящий Хранитель должен быть с виду солидным, красиво трубку курить, умно молчать, уметь людей слушать – а это так… вертихвостки… Люди сами должны Хранителю и омуля, и чай, и табак, и араку нести, да еще просить, чтобы принял. А им бы я и за деньги ничего не принес! А документы пропали: то ли их сдали в архив, то ли попросту выбросили, ибо люди, которые там нынче живут, вертлявые.
Хотите узнать – раз уж я на пенсии – почему я не захотел как дед стать Хранителем? Над этим я много думал. Я всю жизнь то в обкоме, то в министерстве сидел. И ко мне всю жизнь люди шли – кто с проблемой, кто с делами, кто за советом, а кто и спасибо сказать. И вот представьте себе, что тем же самым людям нужно что-то на озере. Приходят они с подарками к Великому Шаману-Хранителю, а там – опять я. Боюсь, это будет выглядеть несколько неожиданно. Да и не солидно сидеть мне в избе меж пакгаузом и водокачкой. Спрашиваете, почему ее при строительстве станции не снесли? Эта прадедова изба и была некогда зданием и правления Мысовского порта, и Дорожной станцией. Именно с нее Дорога на той стороне озера началась. Случилось это при моем деде, который и саму избу, и всю нашу землю вокруг, как православный, железной дороге пожертвовал.
История эта начиналась с того, как однажды к деду моему, сидевшему как всегда на завалинке у нашего дома, приехали посетители. Дед издалека узнал Бориса, главу Шестого рода, который отвечал за подготовку учителей и врачей для народа. Борис даже написал целый справочник по определению лекарственных растений в наших краях и издал его на свои средства в Петербурге. Он обычно жил на западном берегу Озера в Шолотах, где даже построил каменный дом в три этажа с настоящим балконом и после этого перестал кочевать. За это его не любили знатные родовичи с запада, к тому же у него родовая фамилия была Башхууев, что обычно переводили как «чужой человек». Смеяться тут не над чем, если это произносить, то совсем не похоже на то, что вы подумали. Это такая особая буква, которой нет в русском. А само словосочетание к нам пришло из китайского, где оно означает не «чужой человек», а «умник из хууэйцзы». Хууэйцзы – это, по мнению китайцев, люди, которые веками жили на западе в Синьцзяне и исповедовали ислам. А китайцы они потому, что не уйгуры, которые живут в тех же краях. В древних летописях этот народ называли юэчжи и говорили про них, что они не китайцы-хань, не монголы-сяньби, не тюрки-гунны или сюнну, но потом они вроде бы слились с китайцами, но по-прежнему в их краях легко отличить местного хууэйцзы от настоящего китайца с востока. К ним относится целая династия генералов по фамилии Ма, которые в начале этого века даже отложились от Китая в Синьцзяне и назвали себя Синьцзянской республикой. Правда, потом они помирились с Мао, разбив его главного врага среди коммунистов по имени Готао (так как сам Мао не мог воевать со своими же коммунистами), и тот за это сделал их коммунистами и даровал право и дальше править их озером Лобнор и Таримскою впадиной, а потом даже сделал их главными в создании китайской атомной бомбы. По внешности эти самые хууэйцзы сильно отличаются и от китайцев, и от монголов, и от уйгуров с кыргызами, но главная их отличительная черта – это то, что они мусульмане. И так как мы тогда воевали то с енисейскими кыргызами, то с их сродниками якутами (а у кыргызов – ислам), к Башкуевым в народе всегда отношение было чуть настороженным. Почему Башкуевым, а не Башхууевым? Потому что внук того «дяди Бориса», когда стал нашим министром культуры, а потом моим сватом, ибо моя племянница вышла замуж за его сына, в фамилии букву сменил, ибо не может быть министра культуры с такою забавной фамилией. Старые монголы по сей день смеются, что само название озера Байкал переводится с тюркского «большая вода», а в языке у нас нет ни слова «бай»– «большой» иль «богатый», ни слова «куль» или «кель», что означает «вода» (как в названии «Иссык-Куль», например), а это значит, что мы здесь пришельцы. Самое близкое и созвучное, что есть у нас, это слово «гул» – «огонь», но к озеру его применить невозможно. А вообще, с буквы «К» что в бурятском, что в монгольском начинаются лишь три слова – «красноармеец», «колхоз» и «коммунизм». Так откуда же она взялась в древней фамилии? Согласно преданию предок их был бродячим врачом, которого наши предки поймали в степи и привезли тяжело раненного легендарного хана Галдана лечить. Простые шаманы и лекари от него отступились, а этот иноземец его легко вылечил и стал навсегда личным врачом. Не то чтобы у него был выбор, конечно. Вот так полтысячи лет назад некий бродячий лекарь из хууэйцзы и стал нашим главным Врачом и Ученым, а дети его – знатными монгольскими родовичами. Но в память о предке они даже после присяги России и Крещения долго еще носили Крест с Полумесяцем.
Поэтому за глаза весь Шестой род в народе не считали монгольским, и это для простых аратов было серьезно. Именно из-за того, что родовичи из Шестого рода не считались монголами, испокон веков к ним то приймаками, то приказчиками, а то и советниками принимали местных ссыльных, которых особенно много пришлось по итогам восстания в Польше в 1860-х. Поэтому-то врачами и учителями в Шолотах для всех прочих улусов набирали литовцев и евреев с поляками. Многим это не нравилось, однако польские да еврейские советники умели и знали многое, и поэтому Шестой род считался у нас одним из самых богатых. К примеру, сам Борис мечтал наладить поставки колбасы из своего удела в столицу, да не просто колбасы, а с местными пряностями. Ради этого он много ездил то туда то сюда и все искал способ, как доставить в столицу свою колбасу или вяленую баранину. Многие смеялись над этим странным желанием, хоть Борис и умел деньги нажить. Шутка ли – первый каменный дом в три этажа в наших краях. Когда такой человек перебирается для разговора с тобой через Озеро – у него дело есть.
Поэтому дед Софрон встал к подъезжающим, гости спешились, и главы родов трижды облобызались между собой. Где-то засуетилась прислуга, готовя бузы и барашка для встречи гостя, появилась большая тарелка со свежим омулем, посыпанным мелко нарезанным чесноком и черемшой, и обязательная молочная водка – арака. Сам Софрон предпочитал пить обычную китайскую рисовую, но дорогого гостя принимать рисовой выглядело весьма несолидно.
Борис попробовал и такого омуля и сякого, очень хвалил и между второй и третьей рюмкою как бы невзначай обмолвился: не продаст ли Софрон ему омуля бочек сто или двести? Все знали, что Борис любил рыбу, Шестой род столь же черный, что и наш третий, так что и его степной темно-рыжий предок Волк тоже был «рыбоедом», как и все волки-предки «черных» родов, но обычные араты предпочитали баранину и того же омуля ели лишь тогда, когда есть было нечего. Про бурят, как и про монголов, неспроста говорится, что в жизни есть три удовольствия: «есть мясо, ехать на мясе и вонзать мясо в мясо». Собственно, «рыбо-едами» у нас и были всегда три рода Востока – Третий, Шестой и Девятый. Шаманы, учителя да поставщики развлечений. Девятые раньше содержали дома терпимости, балаганы и винокурни, а нынче стали артистами, режиссерами и учеными. Среди моей родни только у них целых три академика. Шестые были учителями и врачами для хана и нойонов, а нынче сват мой, к примеру, профессор, народный учитель. А наш род был шаманским, так мы и занимаемся по сей день идеологией. Вот читаю вам лекции в Высшей партийной школе… И кажется мне, что в жизни мало что изменилось.
Но я отвлекся. Как я уже говорил, монголы едят больше мясо. Рыба для нас скорее в диковинку. Собственно, лишь в трех наших родах, что произошли от волков-рыбоедов, можно увидеть, как подают на стол рыбу. И за это, кстати, прочие родовичи считали нас «черными». С другой стороны, для выпаса мяса нужен кочевой образ жизни, а рыба склоняет народ к жизни оседлой. Поэтому и осели наши три рода лет на сто-двести раньше чистых кочевников, а оседлая жизнь легче капиталы накапливает – вот и получилось со временем, что оседлые роды становились богаче, а те, кто по старинке, «как завещали нам предки», отары гонял, остались как голь перекатная. А из этого в нашей истории вообще все события растут. Простые араты верили, что те, кто продолжает кочевья с баранами, живут по законам Вечного Неба и предков, а значит, наши «черные» роды предали заветы с традициями, не якшались с нами, и из-за этого «черные» рода с «белыми» не женились, не смешивались. А очень плохо жениться меж родственниками, и так как мы внутри «черных» родов – давно все друг другу родня, ничего не осталось кроме как жениться на русских, отдавать за них дочерей, а еще за ссыльных поляков с евреями. Я думаю, именно это смешение крови и стало причиной того, что дети из наших родов были образованнее, смышленее и успешнее, чем у остальных степняков. А может быть, все дело в рыбе и фосфоре. Мне один знакомый еврей, главный врач при нашей поездной армии в дни войны, очень много про фосфор в рыбе рассказывал и уверял, что в древнем Израиле правители были умней, чем у филистимлян, потому что у них там в озере Кинарет рыба с большим содержанием фосфора. Я даже потом заказывал анализ содержания фосфора в омуле, но там не нашли ничего необычного. Так что, думаю, тут было дело в смешении кровей, а не в фосфоре. Ибо ничем другим столь разительного отличия в истории родов «черных» и «белых» я объяснить не могу. А в те далекие годы, про которые я веду речь, разница между сравнительно образованными родами «черных» и обычных «белых» в жизни и достатке была уже очень заметная, и многие думали, что все дело в рыбе. Вот и дед мой Софрон, когда дядя Борис попросил у него двести бочек соленого омуля, решил, что ученый сосед придумал, как из рыбы «зелье мудрости добывать». Ведь хорошо было бы – вытопили из рыбы «зелье мудрости», выпили, и вот уже все – вроде умные. И дед мой сразу решил, что в этом предприятии соседа он точно участвует.
Поэтому Софрон степенно кивнул и отвечал, что рыба у него есть, не вся хороша на стол гостю, но с божьей помощью – к осени нужное количество его люди наловят. На это Борис сразу сказал, что ему не нужна слишком уж хорошая рыба, была бы съедобная. И к зиме ему нужно будет бочек пятьсот. Софрон лишь удивленно приподнял бровь, и Борис рассказал, что в поисках средств доставки его колбасы к столице он встретил нужных людей и те по секрету ему намекнули, что готовится строительство железной дороги от Челябинска на восток, и именно железная дорога будет лучшим способом доставки его колбасы до столицы. Проблема же была в том, что в дело брали только своих – православных христиан Старой Веры. И как раз так случилось, что принимали мы Присягу на Верность России при царе Михаиле Федоровиче, то есть еще до появления никонианцев, а когда произошла эта проклятая Реформа, наши Предки сказали, что дважды Присягу принять невозможно и отказались второй раз перекрещиваться. В те годы в наших краях шла вечная война с курыканами, якутами и прочими кыргызами, а чаще всего с маньчжурами и китайцами. Местные казаки были вооружены пушками, но кавалерию для них поставляли лишь наши предки. К примеру, красноярскую крепость трижды осаждали кыргызы, и все три раза крепость осаду выдерживала до подхода монгольской конницы. Так что настаивать на том, чтобы предки из-за какой-то ерунды перекрещивались, русские не решились, вот и вышло, что по сей день Бурятия считается самым «староверческим» регионом России. А наши братья по Вере, которых утесняли тогда церковники-никонианцы, особо на нашу помощь в строительстве железной дороги надеялись. Борис рассказал, что отдал в общий кошт все свои свободные деньги и спросил, готов ли Софрон для общего дела и истинной Веры всеми деньгами рискнуть, а то и пожертвовать.



