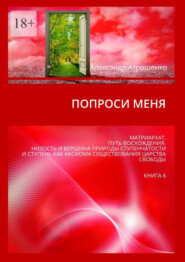скачать книгу бесплатно
Михаил Павлович и предложил заменить командира Семеновского полка генерала Потемкина неким, известным своей строгостью, полковником Шварцем, «чудесным фронтовиком», встреченным им в Калуге. «Известно было, – пишет М. Муравьев, – что он приказывал солдатам снимать сапоги, когда бывал недоволен маршировкой, и заставлял их голыми ногами проходить церемониальным маршем по скошенной, засохшей пашне; кроме того наказывал солдат нещадно и прославился в армии погостом своего имени»[241 - Там же, стр. 45.].
Шварц приступил к своим обязанностям с присущей ему долей изуверства. Генерал Сабанеев в письме Киселеву описывал состояние войска: «Нельзя без сердечнаго сокрушения видеть ужасное уныние измученных ученьем и переделкою аммуниции солдат… Нигде не слышно другаго звука, кроме ружейных приемов и командных слов, нигде другаго разговора, кроме краг, ремней и вообще солдатскаго туалета и учебнаго шага. Бывало, везде песни, везде веселье. Теперь нигде их не услышишь. – Везде цыц-гаузы и целая армия учебных команд. – Чему учат? Учебному шагу! Не совестно ли старика, ноги котораго исходили 10 т. верст, тело которго покрыто ранами, учить наравне с рекрутом, который, конечно, в короткое время сделается его учителем?»[242 - Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II. Том I. СПб, тип. М. М. Стасюлевича,1882, стр. 86.]
Возмутительными казались для всех мыслящих людей, телесные наказания, бессмысленными и очень часто с виртуозной жестокостью. Как нельзя лучше подходила к Семеновскому полку распространенная тогда в армии песенка, в которой «служивый» описывал «жизнь солдатскую»: «Я отечеству защита, а спина всегда избита. Я отечеству ограда, в тычках-пинках вся награда. Кто солдата больше бьет, и чины тот достает. Тем старателен, хорош. Хоть на черта он похож, а коль бить кто не умеет, тот ничего не разумеет»[243 - Русская старина. Т. 108. 1901. №10—12. СПб. Н. Дубровин. Русская жизнь в начале XIX века. С. 475—476.]. Назначенный командиром Семеновского полка полковник Шварц возмутил своим обращением с гвардейцами не только рядовых, но даже и офицеров, но они молчали, чувствуя за Шварцем высокое покровительство. Шварц сумел перещегалять доселе известных свирепостью командиров. «Он бил солдат по лицу, щипал их за нос и губы, пинал ногой в живот, дергал за усы, плевал в лицо и заставлял солдат плевать друг на друга… По показанию ротного командира Левенберга, командир полка велел наказать тесаками солдата за то, что тот кашлял во время учения в манеже, другого рядового за то, что «невесело смотрел». Шварц прямо во время церемониального марша ударил так, что тот «из передней шеренги очутился в задней», третьяго рядлого, который тоже «невесело смотрел, бил собственноручно по лицу во время десяточного смотра. Однажды он ударил солдата в живот ногой и испачкал ему панталоны. Удара показалось Шварцу мало, и он приказал в тот же день представить ему вычищенный мундир. Левенберг при этом указывал, «что не может упомнить» всех наказанных в его роте»[244 - Лапин В. В. Семеновская история: 16—18 октября 1820 года. Рецензент А. Н. Цамутали. Ленинград, Лениздат, 1991, стр. 106.]. Немудрено, что полк не выдержал и взбунтовался, вызвавший сочувствие в других войсках. Бунт не перешел в восстание только верою в царя, что он не знает обо всех притеснениях, и, разобравшись, накажет виновных в происшедшем, а невиновных просто отпустит.
Первым Александру сообщил о бунте в полку австрийский канцлер Меттерних, представив это как свидетельство того, что и в России «неспокойно». Русский император увидел в происшедшем, в первую очередь, заговор против себя. 5 ноября он писал Аракчееву: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокаго обращения с оными полковника Шварца. Он был всегда известен за хорошаго и исправнаго офицера и командовал с честью полком. От чего же вдруг сделаться ему варваром? По моему убеждению, тут кроются другия причины. Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял… Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которыя по доказательствам, которыя мы имеем, в соотношениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау. Цель возмущения, кажется, была испугать»[245 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том IV. СПб, А. С. Суворин, 1898, стр. 185.]. Взошедший на престол по средству заговора и переворота, Александру теперь мерещился заговор и против него. Оппозиционные брожения времени Тильзитского мира, вольные разговоры и революционные события Европы только способствовали укреплению этого вывода. Подозрения Александра только укрепились, когда через неделю после возмущения семеновцев была обнаружена революционная прокламация от имени семеновских солдат к Преображенскому полку, написанная с антимонархических и даже антидворянских позиций[246 - Декабрист Розен пишет: «После происшествия в Семеновском полку началась реакция. В л.-гв. Егерском полку в Вильне разжалован был полковник Н. Н. Пущин. В. С. Норов переведен был в армию, когда бригадный командир, великий князь Н (иколай) П (авлович), сказал ему: „Я вас в бараний рог согну!“ Грубые выходки вошли в моду и принесли плоды худые и довели до насмешек и до презрения» (Розен А. Е. Записки декабриста. Подготов. Г. А. Невеловым. Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984, стр. 92).].
Настоящий переворот в умах людей и в особенности, самих семеновцев, произошел в момент, когда стало известно решение императора по этому делу. Приказ читали по батальонам Семеновского полка и солдаты не верили себе, что слышали.
По приказу Александра Семеновский полк был расквартирован по различным армейским частям, восьмерых «зачинщиков» возмущения прогнали сквозь строй (шесть раз по тысячу человек, зачастую такое наказание означало мучительную смерть для истязуемых, однако, все солдаты его выдержали и были отправлены в лазарет) и сослали в бессрочную каторгу, а остальные солдаты 1-й возмутившейся роты разосланы по Оренбургскому, Сибирскому и Кавказскому гарнизонам. Сам Семеновский полк невозможно было отменить, поэтому он был набран целиком новым составом, с которым другие гвардейские полки долго не могли примириться. Великий князь Константин Павлович после разгона полка упрекал Александра в том, что «не кто иной, как он, заразил всю армию (gangrene I’armee), разослав в ея недра семеновцев, и что это распространит заразу повсюду»[247 - Шильдер Н. К. Император Николай Первый его жизнь и царствование. Том I. СПб, А. С. Суворина, 1903, стр. 319.]. Он был прав, в числе видных декабристов, впоследствии, оказались именно офицеры Семеновского полка.
Следствие не обнаружило, что возмущение инсценировано каким-нибудь тайным обществом, как это изначально предполагал Александр I. Однако после усиления наблюдения Александру I доложили о существовании тайного общества Союза благоденствия. Ознакомившись с его целями либеральных путей к реформам, он решил обойтись без арестов и громкого судебного процесса. Свидетели рассказывают, что он бросил список членов тайного общества в пылающий камин, как бы не желая знать «имен этих несчастных», ибо и сам «в молодости разделял их взгляды», добавив при этом: «Не мне наказывать»[248 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том IV. СПб, А. С. Суворин, 1898, стр. 204. «Mon cher Wassiltschikoff! Vous gui etes a mon service depuis le commencement de mon regne, vous savez gui j’ai partage et engourage ces illusions et erreurs». После длительной паузы Александр добавил: «Ce n’ est pas a moi a sevir». [Дорогой Васильчиков! Вы, находящийся у меня на службе с начала моего царствования, знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения. Не мне наказывать].]. Однако впоследствии члена общества уже без судебной огласки одни были разжалованы, другие сосланы. Александр не захотел делу придавать огласку, привлекать внимание репрессиями известных и заслуженных людей. Позиция организации не представляла угрозы, а в глубине души император был и сам приверженец подобных взглядов. Но предосторожность оказывалась превыше всего.
«Вместе с учреждением общества Сынов отечества, – рассказывает Пестель, – появились мысли конституционныя, но весьма неопределенныя, однако же более склонныя к монархическому правлению»[249 - Русский биографический словарь. Т. 13. Под наблюд. А.А.Половцева. СПб. Пестель. С. 605.]. В январе 1820 г. в Санкт-Петербурге, на квартире Ф. Н. Глинки, собралось совещание 14 членов руководящего органа Союза благоденствия – Коренной управы. На этом совещании Пестель выступил с докладом о формах правления в России после революционного переворота. Он изложил «все выгоды и невыгоды как монархического, так и республиканского правлений»[250 - Там же, стр. 605.]. После жарких споров и под влиянием убедительной аргументации Пестеля все участники совещания высказались за республику; угадывалась атмосфера русского самодержавия, которому необходима была сословность, и только совет избранных от всей земли мог гарантировать неукоснительное проведение реформ. Пестелю и Н. Муравьеву было поручено разработать программные документы. К концу 1820 г. разногласия между умеренными и радикальными членами Союза благоденствия обострились. В январе 1821 г. в Москве состоялся съезд представителей «управ» (ячеек) Союза благоденствия, который принял решение о формальном самороспуске, чтобы освободиться от ненадежных попутчиков, погасить интерес правительства, с тем, чтобы образовать более законспирированное тайное общество и устранить Пестеля, влияние которого на организацию в последние годы существенно возросло.
В марте 1821 г. на основе Тульской, самой многочисленной управе во главе с Пестелем, не принявшего решения Московского съезда, образовалось Южное общество. Почти одновременно в Санкт-Петербурге Н. М. Муравьевым и Н. И. Тургеневым было положено начало Северному обществу. Оба общества тесно взаимодействовали друг с другом и рассматривали себя, как части одной организации. Еще с 1820 г. умами членов тайной организации стала все более овладевать идея «военной революции» – военного восстания без участия в нем народных масс. Они исходили из опыта двух типов революций: французской 1789 г. – «революции черни» с последующим якобинским террором и испанской 1820 г. – «организованной, без крови и беспорядков», совершающейся при помощи дисциплинированной военной силы. С. П. Трубецкой писал, что «язва крепостнаго состояния крестьян располагает Россию к большим бедствиям, в случае внутренних безпокойств, как был тому пример во время Пугачева, нежели всякое другое Европейское государство»[251 - Записки князя С. П. Трубецкаго. СПб, изд. его дочерей, 1907, стр. 80.]. 1821—1823 годы – время становления, численного роста Южного и Северного обществ. Южное общество состояло из Тульчинской, Каменской и Васильковской «управ», возглавлялось Коренной думой, в которой главенствовал Пестель. Его твердая воля, огромная эрудиция, глубокая убежденность в своей правоте и железная логика суждений увлекали и подавляли слушателей так, что, по свидетельству его соратников, «трудно было устоять противу его влияния»[252 - Записки Николая Васильевича Басаргина. Москва, тип. Ф. Иогансон, 1872, стр. 4.]. Эти качества, сделавшие его, по отзывам декабристов, «движущей пружиной» Южного общества, вызывали настороженность у членов Северного общества, подозревавшие его в намерении сделаться «российским Бонапартом». Кроме Пестеля в Коренной думе присутствовали А. П. Юшневский и руководитель Северного общества Н. М. Муравьев, демонстрируя тем единство организаций. Северное общество, как и Южное также имело ряд «управ» – отделений в гвардейских полках столицы. В ее составе находилась и Московская управа. Во главе общества стояла Дума из трех человек – Н. М. Муравьева, С. П. Трубецкого и Е. П. Оболенского. В 1823 г. в ее члены сразу в разряд «убежденных» был принят К. Ф. Рылеев, вскоре занявший ведущее положение в Северном обществе. В 1821—1825 гг. были созданы две политические программы революционных преобразований (каждая имела несколько вариантов) – «Русская Правда» (масона) П. И. Пестеля и Конституция Никиты Муравьева, а также был согласован план совместного выступления. При разработке своих проектов П. Пестель и Н. Муравьев опирались на конституционный опыт других государств – Североамериканских Соединенных Штатов и некоторых стран Западной Европы.
По «Русской Правде», будущая Российская республика должна быть единым и нераздельным (унитарным) государством с сильной централизованной властью (некоторая автономность предусматривала только по отношению к Польше) в административном отношении, делящаяся на области, округа, уезды и волости (без учета национальной особенности края). Высшая законодательная власть принадлежала Народному вечу в составе 500 человек, избранному на 5 лет, а исполнительная – Державной думе, состоящая из 5 человек, избираемой Народным вече таким же сроком на 5 лет. Высшую контрольную («блюстительную») власть должен был осуществлять Верховный собор из 120 человек, избираемых пожизненно. Распорядительная власть на местах передавалась окружным, уездным и волостным наместным собраниям, а исполнительная – окружным, уездным и волостным правлениям, избираемым сроком на 1 год.
Прежнее сословное деление упразднялось, все сословия «сливались в единое сословие – гражданское». Гражданские и политические права получали мужчины, достигшие 20-летнего возраста. Вводилась всеобщая воинская повинность для мужчин в возрасте с 21 года сроком на 15 лет. Крепостное право уничтожалось. Земельный фонд страны делится на две части – общественную и частную землю. Общественная земля передавалась в распоряжение волостного общества, и каждый гражданин должен был приписан к той или иной волости. Земля этого фонда не могла быть ни продана, ни заложена, а предоставлялась в безвозмездное пользование любому, желающему заняться сельским хозяйством. В общественный фонд входили бывшие крестьянские наделы, казенные и монастырские земли, а также конфискованная у крупных землевладельцев (имевших свыше 5 тыс. десятин, или более 7 тыс. га) половина их земель. Частная земля находилась в свободном товарном обращении. Эти земли принадлежать не только отдельному лицу, но и государству и даже самой волости. Являлись своеобразным конкурентом общественных земель, где частная предпринимательская инициатива должна была служить толчком развития всего сельского хозяйства. Военные поселения ликвидировались, декларировалась свобода слова, печати, собраний, занятий, передвижения, вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, введение суда, равного для всех граждан, с гласным судопроизводством и правом обвиняемого на защиту. Вместе с тем, во избежание новой конкуренции созданной системе, предусматривались и новые системы ограничений, в пользовании этими правами: категорически запрещались любые общества и объединения, «явные и тайные», издателя и «сочинителя» могли привлечь к суду за произведения, нарушающие «правила нравственности» или подрывающие т.с. честь и достоинство граждан (т.е. другими словами свобода допускалась настолько, насколько само государство в ней будет заинтересовано).
Конституционный проект Н. Муравьева предусматривал сохранение монархии, ограниченной конституцией. Россия должна стать федерацией из 14 держав (по второму варианту из 13 держав) и 2 областей со своими столицами и самостоятельным управлением. Как у Пестеля, так и у Муравьева административные единицы державы представляли собой не национальные, а хозяйственно-экономические особенности каждого региона, тем самым разрушая тенденции национальных настроений. Столицей федерации должен был стать Нижний Новгород, переименованный в Славянск. Все державы делились на уезды (или повесты), с общим числом по федерации 569, уезды на волости по 500—1500 жителей мужского пола в каждой. Высшим законодательным органом должно было стать Народное вече, состоящее из Верховной думы (верхней палаты) и Палаты «представителей народных» (нижней палаты), избираемых на шесть лет. В каждой державе законодательным органом являлось Державное вече, состоявшее также из двух палат – Державной думы и Палаты выборных, избираемых на 4 года. Избирательным правом пользовались лишь мужчины, достигшие 21 года, имевшие постоянное место жительства, недвижимую собственность на 500 руб. серебром или движимую на 1 тыс. руб., исправно платившие общественные налоги и не находились у кого-либо «в услужении». Для избрания в местные и центральные органы власти, требовался еще более высокий имущественный ценз – до 30 тыс. руб. недвижимого или 60 тыс. руб. движимого имущества. Высшая исполнительная власть принадлежала императору. Он являлся верховным главнокомандующим, мог с согласия Верховной думы назначать министров и судей верховных судебных мест. Император считался «первым чиновником государства», при вступлении на престол он должен был приносить присягу в верности и защите конституции. Ему выделялось «жалование» в размере 8—10 млн руб. серебром в год, на которое он мог содержать свой двор. Его придворные на время службы императору лишались права занимать государственные должности.
Суд объявлялся равным для всех граждан страны. Вводился гласный суд с присяжными, адвокатурой, состязательностью сторон. Высшим судебным органом предполагалось Верховное судилище, в державах – державные судилища, а в уездах – уездные, низшей судебной инстанцией являлся волостной «совестный суд». Проект предусматривал упразднение сословной структуры общества, провозглашал всеобщее равенство граждан перед законом, защиту неприкосновенности личности и имущества, широкую свободу слова, собраний. В отличие от «Русской Правды» проект предусматривал создание различного рода объединения и сообщества. Декларировалась отмена крепостного права, однако помещичье землевладения оставалось неприкосновенным («земли помещиков остаются за ними»). В последнем варианте проекта Н. Муравьев все же счел возможным предоставить бывшим помещичьим крестьянам усадьбу и по 2 десятины пахотной земли на двор. Земли же военных поселян, государственных и удельных крестьяне переходили в их пользование. Н. Муравьев полагал, что в перспективе вся земля, в том числе и крестьянская надельная, должна стать частной собственностью их владельцев.
Таким образом, конституционный проект Н. Муравьева, внешне убирает сословное деление, но тут же закрепляет новое – на буржуазию и рабочих. Мягкостью решением дворянского вопроса, который теперь плавно трансформируется в буржуазию (по существу отдача ему всех властных полномочий, в прочем, к буржуазии были причастны все слои населения, но богатыми в массе по-прежнему было дворянство) его проект можно сравнить с идеями Просвещенного абсолютизма, где старая власть оставалась при своем, провозглашалась свобода низшему сословию и общее равенство перед законом. Изначально Муравьев придерживался настроений крайнего гуманизма и еще в 1820 г. стоял за республику и центральное распределение, лишь после некоторых размышлений он отошел от позиций распределения, решил опереться на состоятельные и активные слои населения – грамотных предприимчивых дворян, от чего пришел к выводу о целесообразности для России конституционной монархии, буржуазной революции.
По-своему гибким во взглядах оказался П. Пестель, взяв наиболее прогрессивные элементы государственного устройства христианских западных стран (как оказалось даже для современного периода). Пестель полагал, что для проведения революционных преобразований, равно как и для подавления контрреволюционных бунтов, необходим 10-летний переходный период. На этот срок власть вручалась Временному революционному правительству, облеченному диктаторскими полномочиями. В число мер, направленных на достижение будущего общего блага в первую очередь предусматривалось убийство царя, а также истребление всей царской семьи, включая детей, поскольку они все равно будут до последнего противиться новому миропорядку. Убийство царя и его семьи должно было стать символом отречения от прошлого мироустройства, где властвовала тирания, и переходом в новое, т.н. гуманное для всех время.
Все ждали перемен, видели за революцией наступление счастливого благоденствия. Предполагалось начать восстание в «Петербурге, яко средоточии всех властей и правлений»[253 - Павлов-Сильванский Н. П. Декабрист Пестель пред Верховным Уголовным Судом. Ростов на Дону, изд. А. Сурат, тип. Донская Речь, 1907, стр. 67.], выступлением гвардии и флота, изгнать царскую фамилию «в чужие края», самого императора взять под арест до решения вопроса о форме правления – конституционной монархии или республики, созвать Сенат, «дабы чрез него обнародовать новый порядок вещей»[254 - Там же, стр. 68.]. На периферии члены тайного общества должны оказать военную поддержку восстанию в столице. Руководство Васильковской управы Южного общества (С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин) выдвигало и другой план революционного переворота: во время царского смотра войск члены тайного общества, переодетые в караульных солдат, должны захватить и убить царя, после чего поднять войска, обнародовать прокламации – к войску и к народу о целях восстания, затем двинуться в двух направлениях – на Киев и Москву, присоединяя к себе по пути другие войска. Считая, что тайное общество еще не готово к свершению переворота Пестель уже дважды (в 1823 г. в Бобруйске и в 1824 г. в Белой Церкви) отменял возможность царского захвата во время смотра им войск. Новый план захвата царя в 1825 г. во время смотра войск в Белой Церкви, уже санкционированный Пестелем, не осуществился потому, что Александр I, узнав из доносов о готовящемся против него заговоре, отменил смотр.
Весной 1824 г. в Санкт-Петербург приезжает Пестель и ведет переговоры об объединении Южного и Северного обществ и о координации их действий в предстоящем восстании. Несмотря на то, что организационного объединения не произошло, по причине различного видения после революционного периода, а также из-за опасения «честолюбивых», «диктаторских» замыслов Пестеля, важным результатом стало договоренность о совместном выступлении, намечавшемся на лето 1826 г., и о выработке компромиссного варианта конституционного проекта. В конце концов, заговорщики согласились на учреждение в России после переворота республики (это была уступка «южным») и созыв Учредительного собрания (это была уступка «северным»).
В 1825 г. члены Южного общества после длительных переговоров без формального договора заключили с Польским патриотическим обществом соглашение о поддержке их выступления польскими революционными силами. Со стороны русского Общества признавалась независимость Польши, «была обещана Польше уступка губернии Гродненской, части Волынской, Виленской и Минской», в другом варианте, «признавая независимость Польши, уступает ей все завоеванные области, Минскую, Волынскую, Гродненскую, Подольскую, Могилевскую и даже Витебскую»[255 - Там же, стр. 111.]. За это Польское Общество обязывалось начать восстание вместе с Русским, задержать членов царской фамилии, которые будут в Польше, и поступить с ними так, как русские поступят с захваченными в России, препятствовать Литовскому корпусу, в случае его попытки выступить против восставших. Впрочем, в этих переговорах уполномоченные больше выпытывали друг у друга о силах Общества, относясь с заметным недоверием друг к другу. Гораздо важнее были для Южного общества встреча и слияние его с Обществом Соединенных Славян.
Начало «Обществу Соединенных Славян» положили братья Андрей и Пётр Борисовы основанием в 1818 г. «Общества первого согласия», переименованного затем в «Общество друзей природы». По существу это был просветительский кружок с общей задачей «усовершенствование себя в науках, художествах и добродетелях». В 1823 г. в Новоград-Волынске братья познакомились с политическим ссыльным поляком Юлианом Люблинским, человеком образованным и имевшим большой опыт конспиративной работы. Своими взглядами он определил будущую судьбу кружка, ставшего теперь тайным «Обществом соединенных славян». В «Клятвенном обещании» и «Правилах» выдвигались требования бороться против крепостничества и деспотизма, создание республиканской федерации 10 славянских государств: России, Польши, Богемии, Моравии, Сербии, Далмации, Кроации (Хорватия), а также причисленных к славянам Венгрии, Молдавии и Валахии (Румыния). Будущее общественное устройство в славянской федерации мыслилось как всеобщее гражданское равенство при республиканском правлении. Осенью 1825 г. «Общество славян» влилось в состав Южного общества, составила в нем особую Славянскую управу, в которой к концу 1825 г. насчитывалось уже свыше 50 членов. Летом 1825 г. к Александру I поступил донос о существовании заговора в войсках, расположенных на юге России. Александр I возложил на Аракчеева план выявления лиц и их ареста, но тот в силу «семейных обстоятельств» не выполнил возложенной на него задачи, а вскоре вообще устранился от государственных дел. Находившись в Таганроге, будучи тяжело больным, Александр I отдает приказ об аресте уже выявленных членов тайного общества. Но его смерть несколько отсрочила начало репрессий.
Уже впоследствии декабрист П. Каховский напишет Николаю I из крепости[256 - Из писем и показаний декабристов. Критика современнаго состояния России и планы будущаго устройства. Под ред. А. К. Бороздина. СПб, изд. М. В. Пирожкова, 1926, стр. 1 – 19, 2 – 25, 3 – 28, 4 – 29—30.]: «Покойный Император, объезжая области, встречал всюду радость и приветствие, но были ли они искренны? Клянус Богом, нет! Некоторые помещики, получа при встрече Его крест или иной подарок, обльщались, и тягость вся падала на бедных крестьян
…Император Александр много нанес нам бедствия, он собственно причина возстания 14 декабря. Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и не им ли она была после так жестоко удавлена, не только в отечестве, но и во всей Европе? Он помог Фердинанду задавить законныя права народа Испании и не предвидел зла, тем причиненнаго всем тронам. С тех пор Европа в один голос воскликнула: нет договора с царями!.. В войну с Наполеоном, что цари не обещали и кто же из них что исполнил?
…Кончилась война с Наполеоном, мы все надеялись, что Император займется внутренним управлением в государстве, с нетерпением ждали закона постановительнаго и преобразования судопроизводства нашего: ждали – и что-ж? Через двенадцать лет лишь переменилась форма мундиров гражданских
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: