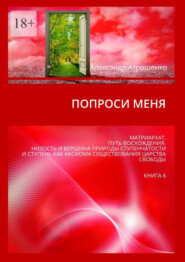скачать книгу бесплатно
От Бородино Кутузов отступал к Москве через Можайск, оставив в нем более 10 тыс. раненных. При оставлении войском весь город сгорел, подожженный по приказу главнокомандующего. Тем временем Кутузов заверял всех изо дня в день в том, что он даст новое сражение для спасения Москвы, и надеялся получить для этого подкрепление от Москвы. В письме от 27 августа Ростопчину он пишет: «После кровопролитнейшего сражения, вчерашнего числа происходившего, в котором войска наши потерпели естественно важную потерю, сообразно их мужеству, намерение мое, хотя баталия и совершенно проиграна [Кутузов все понимал], для нанесения сильного почувствования неприятелю состоит в том, чтобы, притянув к себе столько способов, сколько можно только получить, у Москвы выдержать решительную, может быть, битву противу, конечно, уже несколько пораженных сил его»[61 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 158—159.].
Однако вместо подкрепления Михаил Илларионович получил фельдмаршальский жезл и 100 тыс. рублей (плюс по 5 руб. за каждого «нижнего чина») за Бородинскую битву и царский рескрипт, что подкрепления до Москвы не будет. Получив такие известия, Кутузов, сообразно настроениям наверху, продолжал уверять о необходимости сражения под Москвой, которое решит успехи кампании и участь государства. «Первое свидание графа Ростопчина было в 25-ти верстах от Москвы, в деревне Малсонове, – пишет Военский, – после разных обоюдных комплиментов, говорено о защите Москвы и решено драться под стенами ея; резерв должен был состоять из дружины московских жителей с крестами и хоругвями [это фантастика]. Ростопчин уехал с восхищением и в восторге своем». Но далее Военский приходит к заключению, что Кутузов был не столь наивен, ситуацию трезво оценивал, и лишь вынуждено играл героя, вместе с тем намекая на неизбежные обстоятельства. «Как ни был умен [Ростопчин], но не разобрал, что в этих уверениях и распоряжениях Кутузова был потаенный смысл. Теперь ясно, что Кутузову нельзя было обнаружить прежде времени, под стенами Москвы, что ее оставят, хотя он намекал в разговоре Ростопчину: Au reste la perte de Smolensk entraine celle de Moscou»[62 - Военский К. А. Отечественная война 1812 года в записках современников. (Материалы Военно-Ученаго Архива). СПб, тип. Главн. Управ. Удел., 1911, стр. 69.] [Более того потеря Смоленска ведет к потери Москвы].
То, что у Кутузова было сомнеие в целесообразности драться за Москву указыаает и Ермолов. «1-го сентября рано по утру, вместе с прибывшими войсками к селению Фили, приехал князь Кутузов и тотчас приказал строить на возвышении, называемом Поклонная гора, обширный редут и, у самой большой дороги, батареи, назначая их быть конечностию праваго фланга; лежащий недалеко по правую сторону лес наполнить егерями, прочия войска расположит по их и местам. В присутствии окружающих его генералов, спросил он меня, какова мне кажется позиция? Почтительно отвечал я, что по одному взгляду невозможно судить положительно о месте, назначаемом для шестидесяти или более тысяч человек, но что весьма заметные в нем недостатки допускают мысль о невозможности на нем удержаться. Князь Кутузов взял меня за руку, ощупал пульс и сказал: „здоров ли ты?“ Подобный вопрос оправдывает сделанное с некоторою живостью возражение: я сказал, что драться на нем он не будет, или будет разбит непременно. Ни один из генералов не высказал своего мнения, хотя немногие могли догадываться, что князь Кутузов никакой в том нужды не имеет, желая только показать решительное намерение защищать Москву, совершенно о том не помышляя. Князь Кутузов, снисходительно выслушав замечание мое, с изъявлением ласки приказал мне осмотреть позицию и ему донести. Co мною отправились полковники: Толь и генеральнаго штаба Кроссар»[63 - Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года. Londres, Bruxelles, S. Tchorzewski, S. Gerstmann (https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/S.%20Tchorzewski,%20S.%20Gerstmann), 1863, стр. 92.].
В этот же день приехал к Кутузову Растопчин, и у них был долгий разговор. «Увидевши меня, – пишет Ермолов, – Растопчин отвел в сторону и спросил: „Не понимаю, для чего усиливаетесь вы непременно защищать Москву, когда, овладев ею, неприятель ничего не приобретет полезнаго?“» Все ценное и архивы вывезены, в Москве остались только бедняки, у которых нет другого приюта. И на последок разговора Растопчин высказал: «Если без боя оставите вы Москву, то вслед за собою увидете ее пылающею»[64 - Там же, стр. 93.].
Вечером того же дня Барклай де Толли в беседе с Кутузовым, объясняя, что «надобно выиграть время», высказал убеждение о необходимости оставить Москву. Кутузов «внимательно выслушав, не мог скрыть восклицания своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении, и, желая, сколько возможно, отклонить от себя упреки, приказал к восьми часам вечера созвать генералов на совет»[65 - Там же, стр. 94—95.] (Ермолов).
Вечером 1 сентября в избе крестьянина Михаила Фролова, в подмосковной деревне Фили, где разместился Кутузов, собрались все важные чины армии – 8 участников совета (М. И. Кутузов, Л. Л. Бенигсен, М. Б. Барклай де Толли, Д. С. Доктуров, А. И. Остерман-Толстой, П. П. Коновицын, А. П. Ермолов, К. Ф. Толь). Обсуждался один вопрос: лечь ли костьми под стенами Москвы, или сдать ее Наполеону. Прения были жаркие. Все понимали, что позиция для боя была неудобная. Из семи присутствующих военночальников, которых выслушивал Кутузов, пятеро высказались за сражение, один за изменение позиции, и один за оставление Москвы. После совещания Кутузов взял на себя ответственность заключить прения словами: «Сохранив Москву, Россия не сохранится от войны жестокой, разорительной; но сберегши армию, еще не уничтожится надежда отечества, и война, единственное средство к спасению может продолжится с удобством»[66 - Там же, стр. 95.], поэтому «необходимо сберечь армию, сблизится с тем войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю»[67 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 221.]. «Знаю, что ответственность падет на меня; но жертвую собою для блага отечества. Повелеваю отступить!»[68 - Давыдов Д. В. Замечания на некрологию Н. Н. Раевскаго, изданную при Инвалиде 1829 года, с прибавлением его собственных записок на некоторыя события войны 1812 года, в коих он участвовал. Москва, тип. Августа Семена, 1832, стр. 74.] В эту ночь несколько раз слышали, что Кутузов плакал.
Под утро 2 сентября Кутузов и генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин независимо друг от друга стали готовить город к пожару. Ростопчин «велел выпроводить из города две тысячи сто человек пожарной команды и девяносто шесть труб [насоса] (ибо их было по три в каждой Части) накануне входа неприятеля в Москву. Был так же корпус Офицеров, определенный на службу при пожарных трубах, и я не разсудил за благо оставить его для услуг Наполеона, выведши из города все гражданские и военные чины»[69 - Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре в Москве. Сочинение графа Ф. В. Ростопчина. Пер. с фр. А. Волков. Москва, тип. Университетская, 1823, стр. 19. Ростопчин в записках пишет: «Я распологаю по статьям главнейшия доказательства, утвердившия мнение, что пожар Москвы есть мое дело; я буду отвечать на них происшествиями, известными всем Русским. Было бы несправедливо этому не верить; ибо я отказываюсь от прекраснейшей роли эпохи и сам разрушаю здание моей знаменитости» (Ростопчин Ф. В. Сочинение Ростопчина (графа Федора Васильевича). СПб, тип. А. Дмитриева, изд. Александра Смирдина, 1853, стр. 202).]. Затем он дал распоряжение полицейскому приставу П. И. Вороненко истребить все огнем, что он и старался делать до 10 часов вечера. Главнокомандующий попросил утром 2 сентября проводить его из Москвы «так, чтоб, сколько можно, ни с кем не встретились»[70 - Военский К. А. Отечественная война 1812 года в записках современников. (Материалы Военно-Ученаго Архива). СПб, тип. Главн. Управ. Удел., 1911, стр. 70.], и уезжал одиноко, без свиты, не вмешивался в руководство армией, дав приказ сжечь склады и магазины с продовольствием, фуражом, частью боеприпасов. Он же предписал московскому обер-полицмейстеру П. А. Ивашкину вывезти из Москвы «весь огнегасительный снаряд», задействовав при этом транспорт, бросив вследствие чего громадные арсеналы оружия неприятелю: 156 орудий, 74.974 ружья, 39.846 сабель, 27.119 артиллерийских снарядов, 10.8712 единиц чугунной дроби, 608 старинных русских знамен, больше 1000 штандартов, булав и других военных доспехов. Все дивились брошенному в Москве, особенно памятникам отечественной славы. Торопясь увести «огнегасительный снаряд» в городе оставили 22,5 тыс. раненных. Кутузов 2 сентября приказал начальнику русского арьергарда М. А. Милорадовичу доставить французам записку. Французский генерал Ж. Пеле передает содержание этой записки: «„Раненные, остающиеся в Москве, поручаются человеколюбию Французских войск“. Подписано: Кайсаров, дежурный генерал, и пр.»[71 - Чтение в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 1872. Книга 1. Москва. Бородинское сражение. Извлечение из записок генерала Пеле о Русской войне 1812 года. С. 90.] Характерно, что записка была подписана не Кутузовым. Разумеется, он опасался, что если этот документ предадут огласке, его престиж в армии резко упадет. 4 сентября фельдмаршал рапортовал царю ситуацию иного склада: «Все сокровища, арсенал и все почти имущества как казенные, так и частные вывезены [из Москвы] и ни один дворянин в ней не остался»[72 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 233. В рапорте Кутузова слово «дворянин» зачеркнуто, сверху написано: «почти житель». «О том, что в Москве осталось много наших бродяг, говорят и наши и иностранцы. „Пришедши, говорит очевидец, наш Офицер, по набережной, за Кремль, во внутрь и далее, всюду являлись те горестныя явления, которыя встретили нас при начале. Тут же Офицеры стали сходится в кампании, чтобы вместе горевать и беседовать о настоящем, которое для всех чрезвычайно было непонятно; тут и рядовые, под видом напиться воды, ускользали в ближайшие лавки, домы и оставались там до прихода Французов. Таким образом довольно убыло людей из полков“. Шамбре говорит, что Русские военные бродяги грабили Москву за одно с Французами, и даже вступали с ними в перестрелку, впрочем, скоро прекращавшуюся, по тому что обе стороны не то имели в виду; по его словам, Французскими патрулями собрано свыше 6 тысяч наших бродяг» (Чтение в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 1872. Книга 1. Москва. А. Х. Бородинское сражение. С. 46).].
2 сентября русская армия оставила Москву, выходя из нее через Рязанскую заставу в сторону Боровского перевоза. Солдаты плакали и ворчали: «Лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву!»[73 - Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы Дуровой. Со вступит. ст. К.А. Военскаго. СПб, типо-лит. т-ва Свет, 1912, стр. 52.] Всей эвакуацией распоряжался Барклай де Толли. «Жителя ея, не зная еще вполне своего бедствия, встречали нас, как избавителей; но узнавши, хлынули за нами целою Москвою! Это уже был не ход армии, а перемещение целых народов с одного конца света на другой. Чрез Москву шли мы под конвоем кавалерии, – вспоминает С. И. Маевский, – которая, сгустивши цепь свою, сторожила целость наших рядов, и перваго, вышедшего из них, должна была изрубить в куски, несмотря на чин и лицо»[74 - Руссакая старина. Т. 8. 1873.№7—12. СПб. Мой век или история генерала Маевскаго. 1779—1848. С. 143.]. Вместе с армией уходили жители города. В народе стоял плач и стон. Из 275.547 жителей в городе осталось чуть больше 6 тыс.
Не успели русские выйти из Москвы, как со стороны Поклонной горы, в тот же день, 2 сентября, к 14 часам, в нее вступили французы, хлопая в ладоши от радости с криками: Москва, Москва! Наполеон, будучи под стенами Москвы, возгласил: «Так вот он, наконец, этот знаменитый город!», а затем прибавил: «Давно пора!»[75 - Сегюр Ф. П. Поход в Москву в 1812 году. Пер. с посл. фр. изд. Б. Рунт. Москва, т-во Образование, 1911, стр. 56—57.] Наполеон вошел в Мосву при наступлении ночи, остановившись в одном из домов Дорогомилова. Здесь он назначил губернатором столицы маршала Мортье и наказал ему, главным образом, следить, чтобы не было грабежей. На Поклонной горе французский император прождал полдня, когда к нему явятся депутации от московской знати и поднесет ему ключи от поверженного города. Однако уже через час ему донесли невероятное известие: Москва пуста! Наполеон подумал, что «может быть эти жители не умеют сдаваться; здесь все ново, как для нас, так и для них!»[76 - Там же, стр. 58. «Наполеон призвал Дарю и воскликнул: „Москва пуста! Какое невероятное событие. Надо туда проникнуть. Идите, и приведите мне бояр!“ Он думал, что эти люди, охваченные гордостью или парализованные ужасом, неподвижно сидят у своих очагов, и он, который всюду встречал покорность со стороны побежденных, хотел возбудить их доверие тем, что сам явился выслушать их мольбы» (там же).] Все столицы Европы сдавались с большим многолюдьем, церемониями и ключами от городов. На следующий день Наполеон перебрался в Кремль. «Наконец-то я в Москве, в древнем дворце Царей! В Кремле!»[77 - Там же, стр. 61.] – воскликнул он.
Едва французы разместились в Москве, 2 сентября, как в городе вспыхнул пожар, который бушевал непрерывно целую неделю вплоть до 8-го сентября. Кутузов обвинил в пожаре французов, мародерствующих в городе. Наполеон же, глядя на зарево московского пожара воскликнул: «Какое ужасное зрелище! Это они сами! Столько дворцов! Какое невероятное решение! Что за люди! Это скифы!»[78 - Там же, стр. 65.] Пожар разрушил Москву на три четверти. Из 9158 жилых строений сгорело 6532.
7 сентября Александр получает весть о сдаче Москвы Наполеону. «Голова его седеет в одну ночь после страшной вести о взятии Москвы Наполеоном»[79 - Надлер В. К. Император Александр I и идея Священнаго союза. Том I. Рига, Н. Киммель, 1886, стр. 17.], – отмечает биограф Александра Надлер. Весь царский двор, все его приближенные в панике толкали царя к миру с Наполеоном. Французский император из Москвы «великодушно» предлагает мир Александру в Московском Кремле на пике своего величия. Он не спешит, он хочет показать всей Европе, он медлит, добиваясь согласия на мир у Александра, выжидает 5 недель, сидя в Москве. Александр же остается тверд: «Я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданых. Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать: я научился понимать его, он больше не обманет меня»[80 - Коллектив авторов. Отечественная война и русское общество: 1812—1912. Том III. Ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. М. В. Довнар-Запольский. Отношение Имп. Александра I к Отечественной войне и его роль в ней. Москва, т-во И. Д. Сытина, 1912, стр. 117—118.]. Для Александра этот мир был бы слишком большим позором.
Оставив Москву, русская армия отступала со следовавшей за ней французским авангардом конного корпуса Мюрата, по Рязанской дороге со 2-го по 5-е сентября. В ночь на 6-е около Коломны Кутузов приказал повернуть скрытно основные силы армии на запад к Подольску, а затем по Калужской дороге на юг. Для мнимого же отступления по Рязанской дороге был оставлен один полк казаков. Этот маневр был проделан в ночные часы так скрытно и искусно, что французы на 9 дней потеряли русскую армию и лишь 14-го сентября отыскали ее на подходе к Тарутино.
После сдачи Москвы нравственный упадок и разложение морального духа армии стали проявляться все более и более. Адъютант и биограф Кутузова А. И. Михайловский-Данилевский удостоверял: «Побеги солдат были многочисленны после Бородинскаго сражения, но они весьма увеличились после сдачи Москвы. Мародеры не поодиночке, но целымти толпами, скитались по лесам и по деревням; они тысячами наводнили Калужскую, Тульскую, Рязанскую и Владимирскую дороги, и проникнули даже в Тамбовскую губернию. Строжайшия повеления последовали по сему предмету от светлейшаго к губернаторам, и он даже приказывал убивать мародеров при малейшем сопротивлении, каковое нередко бываало со стороны беглецов, вооруженных ружьями; случилось, что в один день переловили их четыре тысячи»[81 - Исторический вестник. Т. 42. 1890. №10. СПб. Записки А. И. Михайловскаго-Данилевскаго. 1812 год. С. 153—154.].
6 сентября Кутузов докладывал царю: «Заботу немалую делает мне мародерство, которое застал я усиленным до такой степени, что при движениях армии скорых преград сему злу положить трудно, но принимаются все меры. / Зло сие частию причиною и тому, что я, одержав жесткое сражение при Бородине, должен был после баталии отступить назад»[82 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 243.].
25 сентября Кутузов издал указ по армиям в противодейситвии беспорядков: «Главная отвественность генерал-гевальдигера состоит в том, чтобы сберегать деревни позади армии и около, на что он достаточно имеет полицейские команды. Генерал-гевальдигеру дается власть, всех нижних чинов, которых бы они корпусов ни были, поймав в бродяжничестве, наказывают на месте самым жестокими телесными наказаниями»[83 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 377—378.].
Меры принимались строжайшие. Так, 9 октября Кутузов приказал «преступника Тищенко, как незаслуживающего никакой пощады, согласно приговору Комиссии военнаго суда, при собрании войск, разстрелять», а 11 его соучастников «прогнать шпицрутенами каждаго чрез тысячу человек по три раза, лиша их ун.-офиц. чинов и знаков отличия», причем 14 человек «за то, что не старались удержать своих товарищей от сопротивления, прогнать шпицрутенами чрез пятьсот чел. по три раза»[84 - Труды московскаго отдела Имераторскаго Русскаго военно-историческаго общества. Том II. Материалы по отечесчтвенной войне. Подробный журнал исходящих бумаг. Под ред. В. П. Никольскаго. Москва, тип. Штаба Московскаго Военнаго Округа, 1912, стр. 333.]. В предписание Кутузовым фельдмаршалу генералу от инфантерии А. М. Римскому-Корсакову от 29 марта 1813 г. сообщалось «наказывать смертью без всякого послабления» виновных в разглашении «неблагонамеренных слухов», с пометкой, что он уже двоих «приказал повесить»[85 - Русская старина. 1897. №7—9. СПб. Секретное письмо князя Кутузова-Смоленскаго А. М. Римскому-Корсакову от 29 марта 1813 года. С. 682.].
Русская армия 21 сентября расположилась лагерем у с. Тарутино, что в 80 км юго-западнее Москвы. Кутузов привел в Тарутино, исходя из рапорта царю от 23 сентября, 87.035 человек при 662 орудиях, также 23 казачьих полка с численностью примерно 14 тыс. человек.
Стратегия флангового марша от Москвы до Калуги, перпендикулярно к движению противника, стало для Наполеона неожиданностью. Теперь он не мог пойти на Санкт-Петербург, имея в тылу 100-тысячную русскую армию. Кутузову же стало удобно взаимодействовать с другими войсками А. П. Тормасова, П. В. Чичагова, Ф. Ф. Эртеля и готовить наступление. Также своим расположением Кутузов прикрыл от неприятеля Калугу, где были сосредоточены провиантские запасы, Тулу с оружейным заводом, Брянск с литейным двором и плодородные южные губернии.
Подготовка к наступлению это будничная работа по обеспечению снабжения армии всем необходимым, а не достает, как правило, всего: питания, одежды, боеприпасов, снаряжения, людских резервов; и согласование действий всех войск, где тоже большая неразбериха. Война превращается в штабное сидение, где начинают проявляться совершенно различные процессы, походящие все более на искание личных выгод. А. П. Ермолов пишет об этом времени: «Люди приближенные, короче изучившие его характер, могут даже направлять его волю; отчего не редко происходило, что предприятия, при самом начале их, или уже приводимыя в исполнение, уничтожались новыми распоряжениями. Между окружающими его, не свидетельствующими собою строгой разборчивости Кутузова, были лица с весьма посредственными способностями, но хитростию и происками делались нужными и получали значение. Интриги были бесконечныя; пролазы возвышались быстро; полнаго их падения не замечаемо было»[86 - Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года. Londres, Bruxelles, S. Tchorzewski, S. Gerstmann (https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/S.%20Tchorzewski,%20S.%20Gerstmann), 1863, стр. 106.]. Н. Н. Раевский составил такое впечатление о квартире Кутузова в Тарутино: «Я в Главную Квартиру почти неежжу, она всегда отдалена. А более для того, что там интриги партий, зависть, злоба, а еще более во всей армии эгоизм, не смотря на обстоятельствы Рассии, о коей ни кто не заботится. / О своем душевном положении изъясняюсь вам как самому себе, что мне все сие так омерзело, что я ничего нехочу…»[87 - 1812—1814. Секретная переписка генерала П. И. Багратиона. Личные письма генерала Н. Н. Раевского. Записки генерала М. С. Воронцова. Дневники офицеров русской армии. Сост. вступ. ст. и коммент. А. К. Афанасьев, Н. Б. Быстрова, Н. Л. Зубова, и др. Пер. иност. текс. Ф. А. Петров, О. В. Эйдельман, А. Д. Яновский. Москва, Терра, 1992, стр. 228.]
Отношение между Кутузовым и двумя самыми авторитетными после него чинами стали сильно натянуты, и он последовательно избавляется от начальника Главного штаба Л. Л. Беннигсена и бывшего главнокомандующего военного министра М. Б. Барклая де Толли.
Барклай и Беннигсен между собой враждовали, но оба не могли стерпеть воцарившийся в руководстве армии несносную атмосферу, причем каждый от себя написал письмо царю о положении состояния руководства в армии. Не желая оставаться подручными Кутузова, они оба подают прошение освободить их от должности по причине плохого самочувствия. Кутузов удовлетворил их просьбу. 21 сентября Кутузов отдал приказ по армиям об отъезде Барклая «за увеличившеюся в нем болезнию»[88 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 332.]. 15 ноября было предписание Беннигсену об отъезде из армии «по причине болезненных ваших припадков»[89 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 390—391.].
Помимо служебных и личных интриг, у Кутузова в Тарутино появилась еще одна слабость, как похоть. Про эту слабость знали не только высшие чины армии, но и рядовые офицеры. А. А. Щербинин вспоминал: «Вскоре после Тарутинскаго сражения Кутузов получил от государя письмо, которое послона было Бенигсеном Его Величеству. В этом письме заключался донос на Кутузова в том, что будто-бы оставляет армию в бездействии и лишь предается неге, держа при себе молодую женщину в одежде казака. Бенигсен ошибался – женщин было две. Кутузов, тотчас по получении этого письма, велел Бенигсену оставить армию»[90 - 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-Ученаго Архива Главнаго Штаба. Выпуск I. 1 и 2 западныя армия. Главная армия. Сост. В. И. Харкевич. Вильна, тип. Штаба Виленскаго военнаго Округа, 1900, стр. 43.]. Генерал Б. Ф. Кнорринг, обвиняя главнокомандующего, чтоь он спит по 18 часов в сутки, сказал: «Слава Богу, что он спит; каждый день его бездействия стоит победы. Он возит с собой переодетую в казацкое платье любовницу. Румянцев возил их по четыре. Это не наше дело»[91 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том III. СПб, А. С. Суворин, 1897, стр. 120. С другой стороны, генералитет на войне чувствовал себя буквально как дома. К примеру Военский сообщает, что за Чичаговым «перевозится огромный обоз, который всегда следовал в походах за адмиралом, любившим поесть и попить и ни в чем не отказывать себе среди превратностей военной жизни. Поговорку „а 1а guerre comme а la guerre“ [на войне как на войне]. Он мог бы перефразировать: „и на войне как дома“. Эта слабость адмирала была хорошо известна Кутузову, и впоследствии, при первой с ним встрече в Вильне, фельдмаршал ядовито сообщил Чичагову, что его экипажи, сервизы и кухонныя принадлежности отбиты обратно у французов и во всякое время могут быть возвращены его высокопревосходительству» (Военский К. А. Исторические очерки и статьи относящиеся к 1812 году. СПб, тип. Сельскаго Вестника, 1912, стр. 192).].
В Таратутинском лагере появилась еще одна специализация. Это участие войск в карательных акциях против крестьян. В 1812 г. широкий размах приняли крестьянские бунты, охватившие без малого 32 губернии (из, приблизительно, 50 в стране). При этом 20 из 67 восстаний были подавлены при помощи войск и артиллерии. Особенностью крестьянской войны были тогда восстания ополченцев. Осенью 1812 г. бунтовали московские и саратовские ополченцы, но самым грозным оказался вооруженный бунт трех полков Пензенского ополчения 21 декабря одновременно в трех городах: Инсаре, Саранске и Чамбаре.
Пользуясь ситуацией, 5 августа, находясь в Витебске, Наполеон советовался с Е. Богарне о возможности публикации какого-либо декрета для привлечения крестьянских восстаний на свою сторону. Подобное намерение он обсуждал и в Москве. В московских архивах Бонапарт приказал искать документы о Е. Пугачеве, чтобы использовать их для возбуждения крестьян против русского дворянства. Однако, после первых неудачных инцидентов с русским раскрепощением, вылившееся лишь в погромы помещичьих усадеб, Наполеон уходит от этой мысли. Очевидно, способствовало этому и разговор Наполеона в Петровском дворце с г-жею Обер-Шальме, владетельницей большого магазина в Москве женских нарядов, дорогих материй, севрского фарфора и проч. На вопрос Наполеона: «Что вы думаете об освобождении русских крестьян?» Она отвечала, что по ее мнению, «одна треть их, быть-может, оценила бы это благодеяние, а две другие не поняли бы даже, что им хотят сказать». – «Но разговоры, по прмеру первых увлекли бы за собой других» – возразил Наполеон. – «В. В-во, откажитесь от этого заблуждения, – заметила его собеседница, – здесь не то, что в южной Европе. Русский недоверчив, его трудно побудить к возстанию. Дворяне не замедли ли бы воспользоваться этою минутою колебания, эти новыя идеи были бы представлены, как противныя религии и нечестивыя; увлеч ими было бы трудно, даже невозможно»[92 - Коллектив авторов. Отечественная война и русское общество: 1812—1912. Том V. Ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Москва, т-во И. Д. Сытина, 1912. В. И. Семевский. Волнения крестьян в 1812 г. и связанныя с отечественной войною. С. 78.].
Наполеон отказывается от мысли о провозглашении свободу русскому крестьянству, тем более, что положение крепостничества было святая святых российской власти, а как показывают все события, Наполеон искал не свержение Александра, а его переориентацию. В речи, произнесенной Наполеоном перед сенаторами в Париже 20 декабря 1812 г. он сказал: «Я веду против России только политическую войну… Я мог бы вооружить против нея самой большую часть ея населения, провозгласив освобождение рабов; во множестве деревень меня просили об этом. Но когда я увидел огрубление (abrutissement) этого многочисленнаго класса русского народа, я отказался от этой меры, которая предала бы множество семейств на смерть и самыя ужасныя мучения»[93 - Там же, стр. 78—79.].
Показательно, что российские помещики искали спасения от собственных крестьян у французов. Например, в д. Смолевичи и ряде деревень Борисовского повета Минской губернии, на Витебщине и Смоленщине русских крестьян усмиряли, по просьбе их помещиков, французские каратели. Выходило так, что в разных местах страны одновременно подавляли крестьянское движение войска Александра I и Наполеона, еще недавно освобождавшего крепостных в Германии и Польше.
Тем временем против Наполеона повсюду создавалось народное ополчение. Его отряды со всех сторон подступали к Москве. Общая численность народного ополчения в 1812 г. составляла по данным В. И. Бабкина 420.297 человек. В рапорте Александру I Кутузов так объяснял свое тарутинское «сидение»: «При отступлении Главной армии в крепкую Тарутинскую позицию поставил я себе за правило, видя приближающуюся зиму, избегать генерального сражения; напротив того, вести беспрестанную малую войну… В течение шестинедельного отдыха Главной армии при Тарутине партизаны мои наводили страх и ужас неприятелю, отняв все способы продовольствия. Уже под Москвою должен был неприятель питаться лошадиным мясом… Из сего положения наших армий в отношении к неприятельской должно бы полагать неминуемую гибель неприятельскую»[94 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 554—555.]. Партизаны держали французов в постоянном напряжении, в ежечасном ожидании набега, диверсии, засады, лишая их даже в тылу не только покоя, но и безопасности.
Наполеон, через своих военачальников, сначала через генерала Лористона, а затем, уже оставляя Москву, через маршала Бертье «жаловался» Кутузову на то, что россияне не считаются с «установленными правилами» войны. Кутузов 8 октября ответил Бертье: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел, народ, который в продолжение двухсот лет не видел войн на своей земле, народ, готовый жертвовать собою для родины и который не делает различий между тем, что принято и что не принято в войнах обыкновенных»[95 - Там же, стр. 39.]. Коленкур передает восприятие Наполеона подобной позиции: «Император нашел этот ответ исполненным достоинства и, прочитав его, сказал: „Эти люди не хотят вести переговоров; Кутузов вежлив, потому что он хотел бы кончить дело, но Александр не хочет этого. Он упрям“»[96 - Арман де Коленкур. Мемуары. Поход Наполеона в Росси. Москва, Госполитиздат, 1943, стр. 188.].
Понимая, что армию Наполеона не одолеть в открытом сражении была предпринята тактика изматывания противника непрекращающимися атаками неуловимыми по маневренности небольшими отрядами, по-современному – отрядами специального назначения. Кутузов сформировал и задействовал в «малой войне» 11 армейских подразделений, таких, как отряд подполковника Д. В. Давыдова, «партии» капитана А. С. Фигнера, капитана А. Н. Сеславина и подполковника князя Н. Д. Кудашева, генерал-майора И. С. Дорохова, полковников И. Р. Чернозубова, И. Е. Ефремова и князя И. М. Вадбольского, майоров С. И. Лесовского и В. А. Пренделя, поручика М. А. Фонвизина. Кроме этого, М. Б. Барклай де Толи сформировал самый первый партизанский кавалерийский отряд под командованием Ф. Ф. Винценгероде, считающийся вместе с Давыдовым самым значимым партизаном этой войны.
Весьма интересная личность этого времени стала Надежда Андреевна Дурова (1783—1866), родившаяся в семье гусарского офицера А. В. Дурова. В 1806 г., переодевшись в мужское платье и выдав себя за помещичьего сына, назвавшись Александром Соколовым, она бежала с проходившим через Сарапул казачьим полком в Гродно, где поступила в Конно-Польский уланский полк. Участвовала в войне с Францией 1807 г., за храбрость была произведена Александром I в офицеры под именем Александра Андреевича Александрова. Служила в Мариупольском гусарском, а с 1811 г. в Литовском уланском полках. Участвовала в войне 1812 г. (получила контузию в ногу в Бородинском сражении) и кампаниях 1813—1814 гг. Была ординарцем у Кутузова. С 1816 г. в чине штаб-ротмистра была уволена в отставку. Считается, что в советское время Дурова послужила прототипом главной героини пьесы А. К. Гладкова «Давным-давно» Шурочки Азаровой. Пьеса впервые была поставлена в 1941 г. в блокадном Ленинграде. По ней в 1962 г. Э. А. Рязанов снял кинофильм «Гусарская баллада».
Чтобы создать иллюзию подготовки мирных переговоров и выиграть время, Кутузов отправляет в Санкт-Петербург курьера с наказом попасть в руки неприятелю. После этого события обе армии еще 2 недели спокойно простояли друг против друга. С 1 октября Наполеон стал готовить армию к выходу из Москвы. Русские к тому времени завершили подготовку к наступлению. К середине октября соотношение сил армий резко изменилось в пользу России. Наполеон в Москве имел около 116 тыс. человек (из-за дисциплинарного разложения в Москве некоторая часть французской армии была потеряна), Кутузов в Тарутине – 130 тыс. регулярных войск и казаков и, как минимум, 120 тыс. ополченцев. Артиллерии у Кутузова тоже было больше, чем у Наполеона: 622 против 569.
На флангах перевес силы тоже был на стороне россиян. На севере 68 тыс. против 52 тыс. На юге 95,5тыс. против 46 тыс. человек. Прибытие 27 сентября 30 тыс. резервного корпуса «Великой армии», который при необходимости мог помочь любому из флангов французов, не меняло соотношение сил.
Кутузов еще до прихода в Тарутино собирался громить армию Наполеона концентрическим ударом трех русских армий на линии Днепра, при подходе ее к Смоленску, исходя из его директив П. В. Чичагову и А. П. Тормасову от 6 сентября. Но 8 сентября в ставку Кутузова, тогда в селе Красная Пахра, приехал от Александра I его флигель-адъютант А. И. Чернышев с оставленным в Санкт-Петербурге планом разгрома французов на реки Березина. Этот план был подписан Александром I уже 31 августа, как только узнал о Бородинской «победе». Когда Наполеон еще занимал Москву, Александр уже планировал истребление его армии. Кутузов усмотрел лишь «малое различие» между своим планом и царским. 10 сентября он доложил Александру I: «…оставил я план сей, объясненный мне подробно флигель-адъютантом Чернышевым, в полной его силе»[97 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1954, стр. 268.].
Тогда как силы русских выросли, в 6 км от русского лагеря – на р. Чернишне беспечно располагался авангард «Великой армии» под начальством И. Мюрата. 3 октября генерал-квартирмейстер К. Ф. Толь предложил план нападения на него. Другие генералы поддерживали Толя. Кутузов неохотно уступил желанию генералов. Боем руководил Бенигсен. Трехкратный численный перевес россиян обеспечил им победу. Но преследовать неприятеля Кутузов не разрешил, вероятно, чтобы эта блестящая победа не затмила регалии фельдмаршала. Тем не менее, по русским данным, Мюрат потерял 2500 чел убитыми и раненными, плюс 1000 пленными, русские потери были почти втрое меньше: 1204 человека. Кутузов писал жене: «Бог мне даровал победу вчерась при Чернише… Первый раз французы потеряли столько пушек и первый раз бежали, как зайцы»[98 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 22.].
Таратутинский бой отрезвил Наполеона. 7 октября, несмотря на то, что вокруг Москвы буквально роились казаки и партизаны и все дороги из Москвы были блокированы Кутузовым, Наполеон вывел свою 116 тыс. армию, состоящую из 89.640 пеших, 14.314 конных воинов, 12 тыс. нестроевых, больных и прочих, всего 11 954 человек и 569 орудий, из Москвы так скрытно, что лишь на четвертые сутки, 11 октября, казаки из отряда генерал-майора И. Д. Иловайского обнаружили, что: «Москва пуста!» Оставляя Москву, Наполеон приказал взорвать Кремль в отмщении Александру и всем россиянам, но дождь подмочил фитили и ослабил мощь подготовленного взрыва, часть же фитилей загасили русские патриоты. Взрывом были повреждены соборы, разрушена часть Кремлевских башен, стен и палат, взорвано здание Арсенала.
9 октября партизаны отряда И. С. Дорохова обнаружили отдельные, как они предположили, части противника, вступившие в с. Фоминское. Решили их атаковать и попросили у Кутузова подкрепление. Фельдмаршал в тот же день послал к ним 6-й корпус Д. С. Дохтурова с начальником штаба 1-й армии А. П. Ермоловым «дабы на рассвете 11 числа атаковать неприятеле». В ночь с 10 на 11 октября корпус остановился в с. Аристово, чтобы утром атаковать с. Фоминское. Вдруг, в полночь, в с. Аристово примчался капитан А. Н. Сеславин с перекинутым через седло «языком» – пленным французским унтер-офицером. Сеславин доложил, что, у с. Боровска он обнаружил колонны «Великой армии», и даже «заметил самого Наполеона, окруженного своими маршалами и гвардией»[99 - Давыдов Д. В. Сочинения. Предис., подгот. текста и прим. В. Орлова. Москва, Гослитиздат, 1962, стр. 344.]. Пленник подтвердил его слова: «Четыре уже дня, как мы оставили Москву… Завтра главная квартира императора будет в Боровске. Далее войска направляются на Малоярославец»[100 - Русская старина. Т. 18. 1877. №1—4. СПб. А. Н. Попов. От Малоярославца до Березины 1812 г. С. 24.]. Тотчас был послан майор Д. Н. Бологовский к Кутузову с просьбой срочно направить туда же всю армию. Кутузов, выслушав Бологовского, прослезился и, обратясь к иконе Спасителя, сказал: «Боже, Создатель мой, наконец Ты внял молитве нашей, и с сей минуты Россия спасена»[101 - 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-Ученаго Архива Главнаго Штаба. Выпуск I. 1 и 2 западныя армия. Главная армия. Сост. В. И. Харкевич. Вильна, тип. Штаба Виленскаго военнаго Округа, 1900, стр. 243.].
Было очевидно, что французы идут на Калугу. Наполеон впоследствии вспоминал: «Странным, пожалуй, покажется обстоятельство, но, тем не менее, оно совершенно верно, что все мои ошибки сделаны под влиянием утомления, вызваннаго надоедливыми требованиями окружавших меня лиц. Таким образом, вследствие уступки советам маршалов, я погубил армию во время отступления из России. Я хотел двинуться из Москвы в Петербург или же вернуться по юго-западному пути; я никогда не думал выбирать для этой цели дороги на Смоленск и Вильну»[102 - Коллектив авторов. Отечественная война и русское общество: 1812—1912. Том III. Ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. М. В. Москва, т-во И. Д. Сытина, 1912, стр. 31.].
Зная планы Наполеона, 6 корпус Дохтурова не отдохнувши пошел на Малоярославец, ключевой путь на пути к Калуге. В пути, почти не отдыхая, под дождем двое суток, в общей сложности, подойдя до рассвета под Малоярославец с ходу выбели из города неприятельский авангард 4-й корпус вице-короля Италии Евгения Богарне, который затем ответил тем же. До середины дня город четыре раза переходил из рук в руки. Тем временем и Наполеон и Кутузов к Малоярославцу стали подтягивать свои главные силы. Сразу после полудня на помощь русским подоспел 7 корпус Н. Н. Раевского, а французы были поддержаны двумя дивизиями из корпуса Л. Н. Даву. Ни та, ни другая стороны не уступали друг другу.
К середине дня к Малоярославцу прибыл Наполеон, обозрев поле боя, долго всматривался вдаль в сторону с. Спасское, откуда мог появиться Кутузов. Однако Кутузов не изнурял армию форсированным маршем, рассчитав время прибытия. Ермолов дважды посылал гонца к нему, чтобы тот поспешил с силами на выручку, на что Кутузов рассердился и даже плюнул в лицо второму гонцу. К 16 часам, когда Наполеон еще не подтянул часть своих войск, вся армия Кутузова уже закрепилась на высотах, южнее города. Бой продолжался с прежним ожесточением, но ни Наполеон, ни Кутузов не вводили в дело главные силы. По последним подсчетам в сражении принимало участие со стороны французов 20 тыс. человек, со стороны русских 30 тыс. человек. Через некоторое время Кутузов отвел свои войска на 2,7 км к югу и занял новую позицию, преграждая французам путь на Калугу. К 23 часам город, переходивший множество раз (8) из рук в руки остался у французов. Данные о потерях сторон в битве под Малоярославцем разноречивы. Русские потери насчитывают от 5 до 10 тыс. человек, французов от 1,5 до 5 тыс. человек.
На совете в Главной квартире, 13 октября, английский комиссар при штабе сэр Роберт Вильсон, с правом лично информировать о ходе военных действий Александра I, поставил в упрек Кутузову его отступление от Малоярославца. Кутузов же в ответ заявил о том, что у него нет желания уничтожить Наполеона, т.к. он думает о будущем Европы: «Меня не интересуют ваши возражения. Лучше построить неприятелю „pont d’or“ [золотой мост], как вы изволите выражаться, нежели дать ему „coup de collier“ [сорваться с цепи]. Кроме того, повторю еще раз: я не уверен, что полное уничтожение императора Наполеона и его армии будет таким уж благодеянием для всего света. Его место займет не Россия и не какая-нибудь другая континентальная держава, но та, которая уже господствует на морях, и в таковом случае владычество ее будет нетерпимо»[103 - Вильсон Р. Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812—1813 года. Письма к разным лицам. Пер. с англ., вступ. ст. С.Н. Искюля, примеч. С. Н. Искюля, Д. В. Соловьева. СПб, ИНАПРЕСС, 1995, стр. 273—274.].
В ночь с 12-го на 13-е октября Кутузов сказал Александру I: «Завтра, я полагаю, должно быть генеральному сражению, без коего я ни под каким видом в Калугу его не пущу»[104 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 98.]. Численный вес у Кутузова в этот момент было больше, чем у Наполеона: 90 тыс. человек и 600 орудий против 70 тыс. человек при 360 орудиях. К тому же русская армия могла рассчитывать также на поддержку ополченцев и партизан. В донесении царю от 13 октября 1812 г. и рапорте от 9 февраля 1813 г. Кутузов фальсифицировал результат битвы, объявив, что Малоярославец 12 октября остался у русских, и что Наполеон «в ночь с 12 на 13 число совершил отступление к Боровску и Верее», тогда как до 14 октября Наполеон оставался в Малоярославце, а русские в это время отходили к Калуге.
Ночь с 12-го на 13-е октября Наполеон провел в Городце, маленькой деревушке под Малоярославцем. Он советовался с маршалом атаковать ли русских, чтобы прорваться в Калугу или уходить к Смоленску по разоренной дороге через Можайск? Решение под утро так и не приняли. Тогда, Наполеон, едва рассвело, поехал сам с небольшим конвоем на оценку русской позиции. Не успели они выехать из своего лагеря, как на них с криками «Ура!» налетел отряд казаков. Конвой был сразу смят. Генералы плотным кольцом окружили Наполеона, приготовились к жестокой драки. В этот момент подоспели два эскадрона конной гвардии маршала Ж.-Б. Бессьера, которые спасли их от неминуемой гибели и плена. Наполеон, после этого инцидента, сохраняя внешнее спокойствие, провел оценку позиций, вечером же приказал своему лейб-медику А. У. Ювану изготовить для него флакон с ядом, чтобы не попасть в плен живым. После всего Наполеон опять созвал маршалов на совет. Бессьер решительно высказался против нового сражения: «„Для подобнаго предприятия у армии, даже у гвардии не хватит мужества. Уже теперь поговаривают о отом, что не хватает повозок и что отныне раненый победитель останется в руках побежденных и, что таким образом всякая рана была смертельна. Итак, за Мюратом последуют неохотно и в каком состоянии? Мы только что убедились в недостаточности наших сил. А с каким неприятелем нам придется сражаться? Разве не видели мы поля последней битвы, не заметили того неистовства, с которым русские ополченцы, едва вооруженные и обмундированные, шли на верную смерть?“ Этот маршал закончил свою речь, произнеся слово о т с т у п л е н и е, которое Наполеон одобрил своим молчанием»[105 - Пожар Москвы. Мемуары графа де-Сегюра. Москва, изд. Мос. Т-ва «Образование», тип. Русскаго Товарищества, 1912, стр. 77—78.].
Тем временем, одновременно с начавшимся отступлением Наполеона от Малоярославца на север, Кутузов, в 5 часов утра 14 октября, начал отходить на юг, к с. Детчину, за 24,5 км от Малоярославца, и там уже на следующий день, 15 октября, получил известие об отступлении Наполеона. Однако, не доверяя ему, в ночь с 15-го на 16 октября Кутузов отошел еще дальше на юг, к слободе Полотняный Завод, где оставался еще два дня, до утра 18-го. По воспоминанию А. А. Щербинина: «Толь вбежал в комнату Коновницына… и вскричал: „Петр Петрович, если мы фельдмаршала не подвигнем, то мы здесь зазимуем!“»[106 - 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-Ученаго Архива Главнаго Штаба. Выпуск I. 1 и 2 западныя армия. Главная армия. Сост. В. И. Харкевич. Вильна, тип. Штаба Виленскаго военнаго Округа, 1900, стр. 47.] Сам Кутузов, вероятно, предполагал, что противник может пройти к Калуге в обход через Медынь, где были замечены отряды кавалерии. Так, две противодействующие армии отступали друг от друга, французы к северу, русские к югу. Маршал Даву в драме К. А. Тренева «Полководец» в сторону Наполеона замечает: «Случая отступления от отступающего врага не было в жизни ни у одного полководца»[107 - Тренев К. А. Полководец. Москва – Ленинград, Искусство, 1945, стр. 124. «Генералы столпились у стенной карты. Д а в у. Хороших дорог туда нет. Менее других ужасна одна (указывает на карте) – на Медынь – Ельню. Б р у с ь е. Почему именно эта? Даву. Потому что эта – кратчайшая. M ю р а т. Если Даву поклялся на этой кратчайшей дороге в кратчайшее время погубить армию… Даву (грозно). Что?! M ю р а т. По незнакомой дороге вести армию, все время подвергая ее нападению врага с фланга, это значит – погубить ее. Н а п о л е о н. Ваше предложение? M ю р а т. На Можайск – через Боровск – Верею. (Указывает на карте.) Там мы сразу сможем оторваться от неприятеля. Там запасы, которых неприятель у нас не отобьет. Д а в у. Не отобьет, потому что там уже нечего отбивать. Там уже все опустошено, залито кровью, усеяно костями. Б о с с е (тихо Коленкуру). Но ведь в том и другом случае это еще не отступление, не правда ли? H а п о л е о н. Даву, ваш план правилен, но вы должны привести в исполнение ваш план, намеченный в Мос… (Голос его падает.) Д а в у. Слушаю, ваше величество. (Увидев, что Наполеон потерял сознание.) Ваше вели… Его величеству дурно! Б о с с е. Доктора! Общее смятение. Входит в р а ч. M ю р а т. Что с ним? Н е й. Такой головокружительный поворот! Б р у с ь е. В жизни великого полководца не было еще случая отступления. Д а в у. Случая отступления от отступающего врага не было в жизни ни у одного полководца. Б о с с е. Боже мой, какая ужасная, загадочная страна! В р а ч. Отворите окна. Прошу вас, господа, освободить комнату. Все уходят. Наполеон очнулся. Я прошу ваше величество прилечь. Н а п о л е о н. Зачем?! Я чувствую себя превосходно, Юван. В р а ч. Я вам сейчас приготовлю капли. Н а п о л е о н. Вздор! Впрочем, только маленький флакончик. С одной порцией яда. В р а ч. Ваше величество… успокойтесь. H а п о л е о н. Не беспокойтесь, Юван. Это на всякий случай, вроде сегодняшнего с казаками. Я люблю играть с судьбою а большую игру. Она еще впереди. Здесь против меня природа и люди заодно. Вот эту игру я люблю. Неудачи удесятеряют мои силы. Мир еще увидит мою мощь и власть. И этим он обязан будет русским, закалившим ее…» (С. 123—125).].
18 октября Кутузов вывел свою армию из Полотняного Завода и повел вслед за Наполеоном. Наполеон отступал по Смоленской разоренной дороге, Кутузов шел параллельным маршем по Калужской дороге, на которой русское войска всегда находили продовольствие, фураж, место для отдыха и поддержку населения. Ведя тактику параллельного преследования, Кутузов держал Наполеона под постоянной угрозой обогнать его и отрезать путь к отступлению. При этом отряды казаков и партизан то и дело нападали на отдельные части противника, постоянно принося ему урон. «Ничего более от вас не требую, – писал Кутузов атаману М. И. Платову 4 ноября, – как только, что всеми силами преследовать его хвост и вредить сколько можно сим способом»[108 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 299.].
После оставления Москвы русскими партизанское движение приняло широкий размах. Из самой регулярной армии для дезорганизации действий в тыл противника было выделено 36 казачьих, 7 кавалерийских и 5 пехотных полков. Командование снабжало их оружием и боеприпасами. Некоторые из отрядов насчитывало по несколько тысяч человек и имели даже артиллерию, такие как под командованием кадровых офицеров – А. Н. Сеславина, А. С. Фигнера, Д. В. Давыдова (поэта). Армейским подразделениям большую помощь оказывали также и действительно партизанские крестьянские отряды под началом Фёдора Потапова, Ермолая Четвертакова, Герасима Курина, старосты Василисы Кожиной. (Следует учесть одну особенность, что партизанами тогда считались участники вооруженной борьбы на территории занятой противником, а в современное время – действующие в составе добровольных отрядов).
Кроме постоянных партизанских вылазок французы терпели урон и от регулярных частей русской армии. На юге 2-й резервный отдельный корпус Ф. Ф. Эртеля еще 3-го и 4-го сентября успешно провел наступательные операции при Глуске и Горбачеве. П. В. Чичагов в сентябре оттеснил войска К. Ф. Шварценберга и Ж.-Л. Ренье за Буг, в октябре же продолжил наступление в Белоруссии, заняв Каменец и Высоко-Литовск. На севере 1-й корпус П. Х. Витгенштейна 6 октября атаковал объединенные 2-й и 6-й корпуса французов под командованием Л. Г. Сен-Сира и после двухдневного сражения 7 октября взял Полоцк. Все же это были локальные бои, не приносящие большого вреда Наполеону. Тем не менее, запас провианта, взятый из Москвы Наполеоновской армией, частью был съеден, а большею частью потерян или отбит партизанами и казаками. Поживиться хоть чем-нибудь на самой дороге и на окрестности 15—20 км французам было нечем. «До Орши нам приходилось итти по настоящей пустыне, так как направо и налево от дороги вся местность была вытоптана, обглодана и опустошена»[109 - Арман де Коленкур. Мемуары. Поход Наполеона в Росси. Москва, Госполитиздат, 1943, стр. 215.] – вспоминали сами французы. После Малоярославца они по собственному их признанию «питались лишь кониной; иногда им перепадало немного скверной вареной говядины, но доставалась она только тем, кто занимался мародерством, а остальные питались только жареной кониной, т.е. павшими на дороге лошадьми. Их разрубали на части еще до того, как они издыхали»[110 - Там же, стр. 217. «Я никогда не видел ничего более ужасного, чем эта дорога в течение 48 часов после нашего выезда из Можайска. Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки, погубить своих лошадей, изнуренных усталостью и голодом, закрывал чувству жалости доступ в людские сердца. Я и сейчас содрогаюсь, когда рассказываю, как кучера нарочно направляли свои повозки по рытвинам и ухабам, чтобы избавиться от несчастных, полученных в качестве дополнительного груза, и радовались „удаче“, когда какой-нибудь толчок освобождал их от того или иного из этих злополучных людей, хотя они наверняка знали, что упавших раздавят колеса или изувечат лошадиные копыта. Каждый думал о себе, только о себе. Людям казалось, что их жизнь зависит от сохранения их маленькой повозки, в которой находится немного продовольствия, и они приносили в жертву жизнь 20 человек, чтобы уберечь жалкую клячу, которая тащила последние оставшиеся у них „сокровища“. Все тешили себя надеждой, что дальше можно будет найти продовольствие, но, за исключением нескольких крупных городов, вроде Смоленска, где имелись кое-какие склады, продовольствия не оказывалось нигде. Лошадей кормили сеном и гнилой соломой, оставшимися на старых бивуаках, если не отправлялись искать фураж на расстояние по меньшей мере одного лье от дороги с риском быть захваченными и убитыми» (С. 216).]. Французы спешили к Смоленску, где ожидали найти изобилие провианта, возможность отдыха и кадрового пополнения. «На этот город были с надеждой устремлены глаза всех, все горели желанием поскорее добраться до него, в полной уверенности, что за его стенами прекратятся все наши бедствия. Слово „Смоленск“ переходило из уст в уста»[111 - Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. В трех частях. Часть I—II. Сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов; предис., комент., указ. А. М. Савинова. Москва, Задруга, 2012, стр. 571.] – вспоминали ветераны «Великой армии».
Наполеон разделил свою армию на 4 колонны, которые находились друг от друга в полудневном переходе. Первой шла гвардия, замыкающей – линейный корпус Л. Н. Даву. К Смоленску продвигались быстро, 16-го октября – Можайск, 17-го Гжатск, 19-го – Вязьма. Сам Наполеон дивился в разговоре с А. Коленкуром, выходя с гвардией из Вязьмы 20 октября: «Император никак не мог понять тактики Кутузова, оставлявшего нас в полном спокойствии»[112 - Арман де Коленкур. Мемуары. Поход Наполеона в Росси. Москва, Госполитиздат, 1943, стр. 220.].
21 октября сводный отряд М. А. Милорадовича вышел на Смоленскую дорогу в момент, когда по ней еще не прошли к Вязьме 3 корпуса Наполеоновской армии: Е. Богарне, Ю. Пянятовского и Даву. Кутузов рапортовал накануне Александру I: «Отряд генерала Милорадовича усилен так, что почти составляет половину армии»[113 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 176.]. Однако Милорадович не стал вступать в бой с тремя неприятельскими корпусами, а первые два из них пропустил к Вязьме. На рассвете 22 октября Милорадович атаковал в лоб Даву, а Платов с казаками ударили сзади. Гибель корпуса Даву казалась неминуемой. В этот момент Богарне и Понятовский, узнав, что Даву отрезан, повернули свои корпуса назад и пришли к нему на выручку. Милорадовичу пришлось выпустить Даву из своих клещей.
Кутузов в это время с большей частью главной армии находился примерно в 6,5 км юго-западнее Вязьмы и оставался там до утра 24 октября. «Он слышал канонаду так ясно, как будто она происходила у него в передней, но, несмотря на настояние всех значительных лиц главной квартиры, он остался безучастным зрителем этого боя, который мог бы иметь последствием уничтожение большей части армии Наполеона и взятие нами в плен маршала и вице-короля»[114 - Русская старина. Т 105. 1901. №1—3. СПб. Записки генерала В. И. Левенштерна. С. 123.] – свидетельствовал его адъютант В. И. Левенштерн. Все упрекали Кутузова в том, что он не помог Милорадовичу под Вязьмой, отрезать как минимум один, а то и два-три корпуса французов.
К вечеру 22 октября, когда основные силы французов ушли из города, но в городе оставались их части прикрытия, Милорадович начал штурм Вязьмы. Регулярные полки, казаки, ополченцы и партизаны Сеславина и Фигнера ворвались в город, выбили из него оставшихся французов и преследовали их до наступления темноты за р. Вязьму. По данным М. И. Богдановича и Ж. Шамбре под Вязьмой французы потеряли 7 тыс. человек, включая 3 тыс. пленными, против 1800 убитых и раненых с русской стороны. «В Вязьме в последний раз мы видели неприятельския войска, победами своими вселявшия ужас повсюду и в самих нас уважение. Еще видели мы искусство их генералов, повиновение подчиненных и последния усилия их»[115 - Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года. Londres, Bruxelles, S. Tchorzewski, S. Gerstmann (https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/S.%20Tchorzewski,%20S.%20Gerstmann), 1863, стр. 125.] – вспоминал А. П. Ермолов.
Люди и лошади «Великой армии» все больше и больше страдали от голода. Наполеоновский расчет на напечатанные поддельные ассигнации не оправдался. В России была недоразвитость капитализации, преобладания натурального хозяйства, где все закупки в основном происходили на ярмарках в определенные дни в году. Поэтому, когда французы шли покупать продовольствие у крестьян, те, понимая, что они умрут с голоду без этого продовольствия, прятали всё или встречали их с вилами в руках… Кроме голода на французскую армию обрушилась природа. «Ежедневно гибнут тысячи лошадей»[116 - Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. В трех частях. Часть I—II. Сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов; предис., комент., указ. А. М. Савинова. Москва, Задруга, 2012, стр. 526.] – отметил в конце октября капитан Франсуа. В первую же морозную ночь под Вязьмой их пало до 3 тыс. Массовый падеж лошадей, среди которых «ни одна не была подкована так, как этого требовали условия русскаго климата»[117 - Арман де Коленкур. Мемуары. Поход Наполеона в Росси. Москва, Госполитиздат, 1943, стр. 228.], стал бичом армии. Кавалерия превращалась в пехоту. Из-за недостатка лошадей приходилось бросать пушки. Так и артиллерия превратилась в пехоту. Все терзались муками голода. Впоследствии французы вспоминали о своих товарищах: «Они накидывались на павшую лошадь и, как голодные псы, вырывали друг у друга куски»[118 - Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. В трех частях. Часть I—II. Сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов; предис., комент., указ. А. М. Савинова. Москва, Задруга, 2012, стр. 573. «6 ноября. Мы шли к Смоленску с энергией, удваивавшей наши силы. Мы дошли почти до Дорогобужа, отстоявшего от Смоленска всего только в 60 верстах, и одна мысль, что мы придем туда через три дня, наполняла наши сердца неизъяснимой радостью. Как вдруг великолепная до сих пор погода изменилась, поднялся холодный густой туман; солнце, спрятавшись за тучами, скрылось с наших глаз, пошел хлопьями снег, и в несколько минут кругом все потемнело и небо слилось с землей. Ветер яростно дул, и деревья в лесу жалобно скрипели. Темные ели, покрытые ледяными сосульками, гнулись до самой земли. Все кругом было бело и имело какой-то сверхъестественный вид. Среди всего этого хаоса многие солдаты, засыпанные снегом и ослепленные метелью, не могли различить большой дороги от канав, проваливались в них, и они делались их могилами. Их товарищи, почти необутые, в плохой одежде, без еды и без питья, дрожа от холода, с большим трудом подвигались вперед и не обращали никакого внимания на тех, кто падал в изнеможении и умирал вокруг них; боже мой! до какой степени эти несчастные, умирая от истощения, боролись со смертью. Одни трогательно прощались с братьями и товарищами, другие умирали с именем матери и родины на устах, но скоро холод охватывал их окоченевшие члены и проникал до самого сердца. Все они лежали вдоль дороги, и их можно было только различить по сугробам снега, покрывавшим их трупы и сделавшим дорогу похожей на кладбище. Целые тучи ворон, пробираясь на ночь к лесу, пролетали над нашими головами, зловеще каркая, и стаи собак, провожавшие нас с самой Москвы и питавшиеся только нашими кровавыми остатками, бродили, рыча, вокруг нас, дожидаясь того момента, когда мы послужим им пищей. С этого времени армия совершенно утратила свои силы и не имела больше вида регулярного войска. Солдаты не слушались офицеров, а офицеры – генералов; разрозненные полки шли, кто как хотел, сыскивая каждый сам себе пропитание, и все разбрелись по краям дороги, сжигая и истребляя все попадавшееся на пути. Вскоре на эти отделившиеся от нас отряды напали вооруженные остатки народонаселения, желавшие отомстить за все ужасы войны, жертвой которых они сделались; казаки приходили на помощь крестьянам, и на большой дороге вновь появились остатки наших отсталых, избежавшие казацкой бойни. Таково было положение нашей армии, когда мы прибыли в Дорогобуж. Этот, хотя и маленький, городок мог при всех наших бедствиях спасти жизнь многим несчастным, если бы только Наполеон в своем ослеплении не позабыл, что его солдаты первые пострадают от того разрушения, которое он сам приказал учинить. Дорогобуж был сожжен, его магазины разграблены, и водка, которой там было очень много, текла по улицам в то время, как армия умирала от недостатка спиртных напитков. Небольшое количество сохранившихся домов было занято исключительно генералами и офицерами. Оставшиеся еще вооруженными солдаты, которые должны были все время сражаться с неприятелем, были предоставлены произволу мороза; тех же, которые отдалились от своих корпусов, гоняли отовсюду, и они не могли найти даже себе места около биваков. Можно себе представить положение этих несчастных. Умирая от голода, они накидывались на павшую лошадь и, как голодные псы, вырывали друг у друга куски. Утомленные долгой ходьбой и бессонными ночами, они видели вокруг себя только снег и не могли найти местечка, чтобы присесть или лечь. Дрожа от холода, они бродили кругом, ища дров, но не находили, так как все было покрыто снегом. Если же они и находили хоть немного топлива, то не могли зажечь его; едва им удавалось зажечь дрова, как ветер и сырость тушили добытый с таким трудом горючий материал – единственное их утешение в несчастье. Как звери, жались они друг к другу, ложились под березы, ели и телеги, одни вырывали деревья, другие нахрапом кидались на дома, в которых ночевали офицеры, сжигали их и, несмотря на усталость, всю ночь, как привидения, неподвижно простаивали около этих огромных костров…» (С. 572—573).]. Русские очевидцы засвидетельствовали еще до Смоленска поедание французами трупов своих же товарищей. «Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища»[119 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 237.] – писал Кутузов жене 28 октября. Француз А.-Ж. Бургонь допускал в то время среди солдат «Великой армии» каннибальство: «Я тоже, еслиб не нашел конины, поневоле стал бы есть человеческое мясо – надо самому испытать терзания голода, чтобы войти в наше положение; а не нашлось бы человека, мы готовы были съесть хоть самого черта, будь он зажарен»[120 - Бургонь А.-Ж.Б. Ф. Пожар Москвы и отступление французов 1812 год. Воспоминания сержанта Бургоня. Пер. с фр. Л. Г. СПб, А. С. Суворина, 1898, стр. 92. Бургонь также указывает о каннибальстве среди пленных русских: «Я оставался с ними все время привала, больше часу. Тут подошел к нам погреться один португальский унтер-офицер; я спросил, – где его полк? Он отвечал, что полк разсеялся, но что ему поручено с отрядом конвоировать от 7 до 8 сот русских пленных, которые, не имея чем питаться, были принуждены поедать друг друга, т. е., когда один из них умирал, другие резали его на куски и съедали. В подтверждение своих слов он предложил мне посмотреть самому; но я отказался» (С. 71).]. После Вязьмы к ужасу голода прибавились для французов ужасы морозов. В ночь после боя под Вязьмой ударил первый по-настоящему зимний мороз – сразу —18
С. По записям французов, 25 октября на их пути было —22
С, 28-го —12
С, а 1 ноября —23
С мороза. Зима 1812 г. оказалась, как доказал академик М. А. Рыкачев, необычайно холодной.
От Вязьмы Кутузов с главными силами «предпринял диагональный марш» через Ельню и Красный «с тем, чтобы пресечь путь если не всей неприятельской армии, то хотя сильному ее ариергарду»[121 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 307.], – из рапорта Кутузова Александру I от 6-го ноября. Тем временем, партизаны и казаки, а также наиболее подвижные отряды легкой кавалерии из авангарда М. А. Милорадовича преследовали французов по Старой Смоленской дороге. Партизаны Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин и А. С. Фигнер, призвав на помощь казачьи полки генерал-майора графа В. В. Орлова-Денисова, у деревни Ляхово начали операцию силами 3280 чел. с артиллерией. После удачного маневра они заставили противника сложить оружие. В плен было взято 2 тыс. рядовых, 60 офицеров и сам генерал Ожеро. Кутузов, на радостях, преувеличил масштаб операции, доложив императору: «Победа сия тем более знаменита, что при оной еще в первый раз в продолжении нынешней кампании неприятельской корпус сдался нам»[122 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 255.] (т.е. бригада превратилась даже не в дивизию, а в целый корпус).
Кутузов с главными силами, делая «диагональный марш», не спешил. Прапорщик Н. Д. Дурново, служивший тогда при главном штабе, отмечает: 24 октября – «Кутузов вынуждает нас двигаться черепашьим шагом», 28 октября – «Кутузов остается в Ельне», 31 октября – «Мне кажется, что фельдмаршал нуждается в отдыхе и императору следовало бы уволить его в отпуск…»[123 - 1812 год… Военные дневники. Сост. и вступит. ст. А.Г. Тартаковского. Москва, Советская Россия, 1990, стр. 102.] Также и британский генерал Вильсон не останавливался перед критикой Кутузова. Он не только не был согласен с манерой проведения некоторых военных операций, но и не понимал смысла многих действий Кутузова. «Если французы достигнут границы, не будучи вовсе уничтожены, то фельдмаршал, как ни стар ни дряхл, заслужит быть расстрелянным»[124 - Вильсон Р. Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812—1813 года. Письма к разным лицам. Пер. с англ., вступ. ст. С.Н. Искюля, примеч. С. Н. Искюля, Д. В. Соловьева. СПб, ИНАПРЕСС, 1995, стр. 197.].
Вступив в Смоленск французы сразу же разочаровались. Почти никаких припасов не оказалось, не оказалось подкрепления ни людьми, ни лошадьми. Наполеону приходят вести еще хуже, что русские войска с юга – Чичагов, с севера – Витгенштейн, с востока – сам Кутузов подступает к «Великой армии» и грозят окружить ее.
В это время в самой Франции происходили события. Республиканский генерал Клод-Франсуа Мале, с горсткой единомышленников, в ночь с 22-го на 23 октября, распустив слух, что Наполеон умер в Москве 7 октября, оперируя подложными документами, с полуночи до 9 часов утра занял почти весь Париж, арестовал министра полиции Р. Савари, провозгласил Францию республикой, а генерала Ж. Моро, тогда находившегося в Америке, – президентом, и уже готовил заседание республиканского временного правительства. Лишь поутру военные и полицейские власти Парижа опомнились, рассудили, что «покойник не умер», и арестовали всех участников заговора – 24 человека. 14 из них были казнены.
До Наполеона эти сведения дошли 25 октября. Он понял, что в самой Франции «вера в прочность его власти поколебалась»[125 - Сегюр Ф. П. Поход в Москву в 1812 году. Пер. с посл. фр. изд. Б. Рунт. Москва, т-во Образование, 1911, стр. 121.]. 2 ноября Наполеон оставил Смоленск и повел поредевшие, не отдохнувшие, голодные и деморализованные колонны «Великой Армии» дальше на запад. В тот же день, 2 ноября, Кутузов привел свои силы к с. Юрову, юго-западнее Смоленска, и здесь дал им отдых до утра 4 ноября.
К вечеру 3 ноября Наполеон с корпусами Ж.-А. Жюно и Ю. Понятовского подошел к г. Красному. Он увидел, что город занят сильным отрядом русских, в то же время войска Милорадовича вышли к Старой Смоленской дороге у с. Мерлина, отрезая сразу три корпуса главных сил от Наполеона. Сзади преследовали казаки М. И. Платова. Кутузов 4 ноября перешел из Юрова в д. Шилово, не далее 5 км от Красного. Наполеон оказался в опасном положении. В ночь на 4 ноября стремительной атакой дивизии Молодой гвардии он выбил отряд русских из Красного и расчистил себе путь по Старой Смоленской дороге к с. Ляды. Отправив туда корпуса Жюно и Понятовского, он сам с гвардией остался в Красном, поджидая оставшиеся корпуса. За полночь пришел корпус Богарне, Наполеон и его отправил к Лядам. Выяснив, что русские не собираются вступать в генеральское сражение, он оставил в Красном маршала Э.-А. Мортье с Молодой гвардией дожидаться корпусы Даву и Нея, сам же вместе со старой гвардией и конницей Мюрата ушел в Ляды.
Командующие, Даву и Ней плохо взаимодействовали друг с другом. Даву 5 ноября, теряя обозы, пушки, отставшие части, с боем прорвался к Красному. Ней с корпусом отстал и был окружен русскими со всех сторон. Он имел по французским данным 6 тыс. бойцов пехоты и 6 орудий, из кавалерии взвод охраны. Ценою невероятных усилий и больших потерь Ней сумел вырваться из русского кольца, перешел в ночь с 6-го на 7-е ноября Днепр по тонкому льду у Сырокоренья и привел к Наполеону в Оршу 800—900 человек. За три дня боев под г. Красным с 4-го по 6-е ноября французы потеряли, по данным штаба Кутузова, 19,5 тыс. человек пленными, 209 орудий и 6 знамен. Д. П. Бутурлин называет цифры: 10 тыс. убитых и 26 тыс. пленных. М. И. Богданович – тоже 26 тыс. пленных, но 6 тыс. убитых. Русские потери составили 2 тыс. человек.
Кутузов представил царю бой с 4-го по 6 ноября, как генеральское сражение. За это упрекали командующего и Н. Н. Раевский, представленный к награде за отличие в боях 4—6 ноября, и А. П. Ермолов, утверждавший, что под Красным «сражения корпусов были отдельныя, не всеми их силами в совокупности, не в одно время, не по общему соображению»[126 - Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года. Londres, Bruxelles, S. Tchorzewski, S. Gerstmann (https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/S.%20Tchorzewski,%20S.%20Gerstmann), 1863, стр. 136. «Робким действиям надобно было дать благовидное наименование, и какое может быть лучше баталии?» (С. 136).]. Еще строже высказался Денис Давыдов: «Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование трехдневного боя, может быть по всей справедливости названо лишь трехдневным поиском на голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды, вроде моего, но не главная армия»[127 - Давыдов Д. В. Сочинения. Предис., подгот. текста и прим. В. Орлова. Москва, Гослитиздат, 1962, стр. 541—542. «Целые толпы французов, при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге, поспешно бросали оружие» (С. 542).].
После Красного у Наполеона оставалось 35 тыс. боеспособных солдат, за которыми тащились оставшиеся несчитанными десятки тысяч безоружных и больных. Вся эта масса людей растянулась на полтора суточных перехода. Свернуть со Старой Смоленской дороги им было некуда – всюду их ждала смерть от казаков, партизан, крестьян. Вице-король Италии Богарне писал 8 ноября начальнику Главного штаба Л. А. Бертье о войсках своего 4-го корпуса: «Дух в солдатах от сильного изнеможения так упал, что я считаю их теперь весьма мало способными к понесению каких-либо трудов»[128 - РГИА. Ф. 673, оп. 1, д. 86, л. 64.]. Боевой дух после Смоленска сохранила только гвардия Наполеона, т.к. и в самое трудное время, за счет других войск, она обеспечивалась всем необходимым. Из воспоминания Дениса Давыдова в боях под Красным: «Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу… Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки бросались к самому фронту, – но все было тщетно! Колонны валили одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами, и смеялись над нашим вокруг них безуспешным рыцарством… Гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками»[129 - Давыдов Д. В. Сочинения. Предис., подгот. текста и прим. В. Орлова. Москва, Гослитиздат, 1962, стр. 370—371.]. Все остальные войска превратились в голодные и обмерзшие толпы, «Великая армия» перестала быть не только «великой», она перестала быть армией. «Передо мной проходили один за другим, бесконечной вереницей, солдаты в лохмотьях, с посиневшими лицами, свирепые, угрюмые. Все мундиры, всякое различие чинов – все смешалось. Каждый облекался в одежду, взятую с мертвых. / Они шли по дороге мрачные, и вид у них был дикий. Всадники, лишенные лошадей, закутались в свою лошадиную попону, сделав в середине отверстие для головы, а на нее надевали каску, или кивер, или закрывали ее окровавленными лохмотьями»[130 - Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. В трех частях. Часть III. Сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов; предис., комент., указ. А. М. Савинова. Москва, Задруга, 2012, стр. 172.]. По воспоминанию русского очевидца, от голода французы ели друг друга, а от холода залезали в костер: «Морозы стояли постоянно около 30°, при жестоких метелях и ветре, дувшем все время нам в лицо; следовательно, и колонновожатые наши, т.е., французы, претерпевали ту же участь, но только с тою разницею, что мы в своем климате более или менее освоились с этими непогодами, а им она была в диковинку и в новинку… Более, нежели на 50 верст, не только по дороге, но и в стороны от селений, виднелись одни лишь трубы и печи, а все, что только имелось в деревне удобосгораемаго, употреблено на топливо, и от Ошмян до Вильны нельзя было двух шагов пройти без того, чтобы не наткнутся на один или на несколько трупов. В других местах видно было, что некоторых смерть заставала на трупах их товарищей в то время, когда они готовились ими утолить свой голод. Еще ужаснее было видеть, как десятками залезали в самую середину костров и обгоревшие, оставались в таком положении. Другие, не испустившие еще последняго дыхания, тлели, буквально, на угольях, не высказывая ни малейшаго страдания в потухающих глазах»[131 - Русская старина. Т. 10. 1874. №5—8. Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789—1848. С. 664—665.].
Русской армии тоже стоило немало усилий и потерь в преследовании противника и не столько в боях, сколько от болезней, голода и материальных нужд. Чиновники разных ведомств часто срывали сроки по военным поставкам. «Гвардия уже 12 дней, вся армия целый месяц не получает хлеба»[132 - Чичерин А. В. Дневник Александра Чичерина, 1812—1813. Подг. к печ. С. Г. Энгель, М. И. Перпер. Пер. с фр. М. И. Перпер. Ред. Л. Г. Бескровный. Москва, Наука, 1966, стр. 63. Автор продолжпет фразу: «тогда как дороги забиты обозами с провиантом, и мы захватываем у неприятеля склады, полные сухарей. В чем же дело? Да в том, что артиллерийский обоз, столь же громоздкий, сколь бесполезный, загородил дорогу, что, находясь в 150 верстах от неприятеля, у нас не умеют устроить этапы».] – записал в дневнике 28 ноября поручик А. В. Чичерин. Воровство, а больше разгильдяйство военных и штатских чиновников опустошали армейскую казну. Так, провиантский комиссионер Давыдов потерял в Вильно 370.800 руб. фуражных денег, которые он должен был доставить в армию из Санкт-Петербурга. «Солдаты наши также были почернелы и укутаны в тряпки… Офицеры не лучше были одеты… Почти у каждаго что нибудь было тронуто морозом»[133 - Радожицкий И. Т. Походныя записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. Артиллерии подполковника И….. Р………. Москва, тип. Лазаревых Института Восточных языков, 1835, стр. 282—283. «Однажды, моя пушка увязла колесом в ухабе, и чуть не опрокинулась. Я подбежал с канонерами, чтобы поддержать ее, и увидел колесо засевшим между костями размозженнаго, замерзлаго трупа, который занесен был снегом. – Часто видели мы, как по два и по три черных, обгорелых Француза, иные даже с ружьями, шатались, подобно привидениям, между снежными сугробами, в стороне от дороги – и никто ими не занимался. Однажды встретили мы двух Русских баб, которыя гнали дубинами, одна впереди, а другая позади, десятка три оборванных, полумерзлых Французов. Смотря на торжество баб, с каким они вели своих пленных неприятелей, мы не могли не смеяться; а с другой стороны не льзя было не пожалеть об униженном состоянии, до какого доведены эти, некогда гордые завоеватели Европы. – Не редко попадались нам отсталые, едва движущееся Французы, укутанные и скорчившиеся, как безобразныя чучелы, которые продолжали с нами свою ретираду к Вильне. Видя офицеров, они слабым голосом взывали: Monsieur! du pain! [Сэр! хлеб!] – и когда их оставляли без внимания, то испустив тяжкий вздох, несчастные вскрикивали: О mon Dieu! mon Dieu! [О Боже мой! о Господи!] – Один бедняк, из числа их, привел нас в особенную жалость и удивление. Он, подобно другим, едва передвигал ноги, но какия ноги? – обнаженныя, с примерзлою к ним соломою; ступени его, почерневшия от грязи, покрылись ледяною корою, под которою еще видны были ножные пальцы, между coломою. Ноги до колен были вовсе отморожены, однако несчастный двигался на них, как на колодках, и еще мог сказать: дайте хлеба!… Солдаты останавливались смотреть на него, и с содроганием подавали ему сухарей. Случалось нам по дороге заходить в корчму, и что-же в ней? – ужасное зрелище! – Посредине курился огонек, а около него, вокруг по всему полу, лежали один на другом замерзлые Французы; ближайшие к огоньку еще шевелились, а прочие все, в искривленном положении, с обезображенными лицами, оставались как окаменелые» (С. 280—282).] – вспоминал артиллерист И. Т. Радожицкий. «Сам генерал Милорадович отморозил глаз»[134 - Вильсон Р. Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812—1813 года. Письма к разным лицам. Пер. с англ., вступ. ст. С.Н. Искюля, примеч. С. Н. Искюля, Д. В. Соловьева. СПб, ИНАПРЕСС, 1995, стр. 105.] – записал в дневнике Р. Т. Вильсон. Больным и отставшим не было числа, но в отличие от французов, они, как правило, возвращались в строй.
Под Оршей к Наполеону подошли свежие силы, подтянулись действовавшие на флангах корпуса, и теперь собранная в единый кулак французская армия все еще представляла грозную силу. Французы подходили к р. Березино. Именно здесь, по плану присланного от Александра I 8 сентября Кутузову предлагалось «совершенное истребление» наполеоновской армии. 13—14 ноября Кутузов с удовлетворением известил П. В. Чичагова, П. Х. Витгенштейна и самого Александра I, что Наполеон отступает к Борисову, где еще заранее было назначено место «общего соединения» всех русских армий. В рапортах императору и в предписаниях Чичагову и Витгенштейну Кутузов предрекал «еще до переправы через Березину или, по крайней мере, при переправе» «неминуемое истребление всей французской армии»[135 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 385, 429.].
Всех русских войск на Березине было больше французских боеспособных втрое, плюс 35—40 тыс. безоружных, больных, которые уже давно только мешали армии Наполеона (75 тыс. войско Наполеона, 100 тыс. в трех русских армиях). Позиционно русские имели перед французами еще большее преимущество, даже чем количественно. Город Борисов был занят 9 ноября, выбив польскую дивизию Я. Г. Домбровского Чичаговым. Витгенштейн 13-го ноября подошел в с. Бараны, что не далее одного перехода от Борисова. Таким образом, путь вперед, т.е. на запад, Наполеону был закрыт, а сзади его преследовали авангарды русской армии под командованием М. А. Милорадовича и казаки М. И. Платова, за которым шел и сам Кутузов. Чичагов уже готовился взять Наполеона в плен, сообщив своим войскам приметы императора. Соратники Наполеона не видели выхода. «Если Император выйдет из этого опасного положения, то необходимо будет поверить в его звезду!»[136 - Сегюр Ф. П. Поход в Москву в 1812 году. Пер. с посл. фр. изд. Б. Рунт. Москва, т-во Образование, 1911, стр. 180.] – воскликнули самые решительные наполеоновские генералы, Рапп, Мортье, Ней, при виде русских огней и их расположение. Мюрат советовал Наполеону «спасти себя, пока еще есть время», скрытно бежать с отрядами поляков, «но Наполеон отклонил это предложение, как позорное средство, как трусливое бегство, негодуя, что посмели думать, что он покинет свою армию в опасности»[137 - Там же, стр. 180.]. «Тогда мы все должны погибнуть» – сказал Мюрат. «Конечно, о сдаче не может быть и речи»[138 - Военский К. А. Исторические очерки и статьи относящиеся к 1812 году. СПб, тип. Сельскаго Вестника, 1912, стр. 197.] – ответил император.
Французский император приказал маршалу Виктору сдерживать Витгенштейна, а маршалу Удино – взять Борисов. 11 ноября Удино ворвался в Борисов и чуть не захватил там самого Чичагова. Адмирал спешно увел свои войска на правый берег Березины, оставив в Борисове свой «обед с серебряною посудою», но успев сжечь за собой мост. Наполеон установил, что через р. Березина есть две переправы, одна у с. Студенки другая получше у с. Ухолоды. 12 ноября «300 солдат и несколько повозок было послано к Укохольде с приказом собирать там, делая как можно более шума, весь матерьял, необходимый для постройки моста; сверх того заставили торжественно пройти в той стороне на виду у неприятеля целую дивизию кирасиров»[139 - Сегюр Ф. П. Поход в Москву в 1812 году. Пер. с посл. фр. изд. Б. Рунт. Москва, т-во Образование, 1911, стр. 178.]. Кроме того наполеоновские военночальники проявили большую сметливость. Они стали расспрашивать местных евреев о глубине реки возле Ухолод и взять с них клятву в молчании: пригласили местного раввина, и все евреи, участники совещания, были приведены к присяге и дали торжественную клятву не сообщать доверенной им тайны русским. Часть евреев удержали в качестве проводников, остальных отпустили. Весь этот маскарад был сделан с расчетом на то, что они тот час нарушат клятву и все расскажут русским. Расчет оправдался, в ту же ночь трое жителей (Мовша Энгельгард, Лейба Бенинсон и третий, не оставивший в летописи своего имени) бежали из Борисова к Чичагову и открыли ему «тайну» Наполеона. Чичагов, взвесив все увиденное и услышанное, собрал свое войско, потянулся вниз к Ухолодам. У Борисова, на всякий случай, оставил лишь 5-ти тысячный отряд генерал-майора Е. И. Чаплица.
Между тем, Наполеон начал готовить основную переправу у с. Студенки, выше Борисова на 14 км. После двухнедельной оттепели, уже было ранее замерзшая река, вскрылась, и сильный ледоход мешал наводить мосты. С утра 14 ноября главный военный инженер Наполеона генерал Ж.-Б. Эбле стал наводить через реку два понтонных моста. 400 его понтонеров работали по плечи в воде, среди плавающих льдов. Почти все они погибли, но дело свое сделали и к середине дня 14-го был готов первый мост – для пехоты и кавалерии, а к 16 ч. и второй – для обоза и артиллерии. Первым Наполеон переправил корпус Удино, который с ходу вступил в бой с подоспевшим отрядом Чаплица. Отряд Чаплица был отброшен, и остаток дня 14 ноября, а затем и весь день 15-го французы переходили Березину беспрепятственно. Сам Наполеон переправился в главе Старой гвардии в середине дня 15-го.
Разобравшись в обстановке, Витгенштейн из Баран, Чичагов от Ухолод, повесив трех доносчиков, «как изменники и предатели»[140 - Военский К. А. Исторические очерки, разсказы, воспоминания и др. статьи, относящиеся к 1812 году. СПб, тип. Сельскаго Вестника, 1912, стр. 198. «Как в наши дни, во время железнодорожных катастроф, остается виновным всегда стрелочник, так Чичагов, отыскивая виновников своей ошибки, обрушился прежде всего на несчастных евреев, сообщивших русскому адмиралу ложную тайну, внушенную им хитрым Удино» (С. 198).], спешили к Студенке. С востока к Борисову вышли передовые отряды Главной армии под начальством А. П. Ермолова и М. И. Платова. Вечером 15 ноября дивизия из корпуса Виктора перепутала дороги и вместо м. Студенки пошла к м. Веселову и буквально столкнулась у м. Веселова с авангардом Витгенштейна, с одной стороны, и корпусом Платова – с другой стороны. Оказавшись между двух огней, дивизионный генерал Л. Партуно и 7 тыс. его бойцов сложили оружие. Виктор же с другой дивизией пришел к Студенке и медлил там в ожидании Партуно. Витгенштейн решил на утро 16-го атаковать Виктора.
В ночь с 15-го на 16-е ноября к мостам собрались десятки тысяч безоружных, больных, почти одичавших от лишений остатки французской армии. С рассветом все они ринулись к мостам. Произошла невероятная сумятица, в которой люди и лошади, равно обезумевшие, давили друг друга. Наполеон попытался навести порядок на переправе, но в этот момент войска Витгенштейна вышли к Студенке и атаковали, еще охранявший левый берег, дивизию Виктора, а на правом берегу перешел в наступление Чичагов. Если Виктор сдерживал атаки русских своими силами, то Удино уступал натиску Чичагова, и Наполеон двинул корпус Нея и даже гвардию. Жесточайший бой на обоих берегах продолжался с утра до поздней ночи. Утром 17 ноября, атакуемый Витгенштейном и Чичаговым и не исключавший появления Кутузова с армией, Наполеон понял, что всю артиллерию и обозы ему не спасти, и приказал Виктору переходить на правый берег. В 8 часов 30 минут утра, когда на левом берегу оставалась еще масса людей, больше чем в 10 тыс. человек, генерал Эбле по приказу Наполеона поджег оба моста. Еще через полчаса на всю эту массу беспорядочно толкавшихся в отчаянии людей налетели казаки и частично изрубили, а большею частью взяли в плен. Наполеон, тем временем, отбиваясь от Чичагова, уходил с гвардией, остатками кавалерии Мюрата, корпусов Даву, Нея, Богарне, Удино, Виктора, Жюно, Понятовского через Зембин на запад.
Потери французов на Березине были огромными. Очевидцы свидетельствовали, что «Березина так переполнена трупами, лошадьми и повозками, что вышла из берегов шагов на 50—60»[141 - Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. В трех частях. Часть III. Сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов; предис., комент., указ. А. М. Савинова. Москва, Задруга, 2012, стр. 273. Истрик В. П. Алексеев пишет: «„Ужасное зрелище представилось нам, – разсказывает в своих „3аписках“ Чичагов, – когда мы 17 ноября пришли на то место, которое накануне занимал неприятель и которое он только что оставил: земля была покрыта трупами убитых и замерзших людей; они лежали в разных положениях. Крестьянския избы везде были ими переполнены, река была запружена множеством утонувших пехотинцев, женщин и детей; около мостов валялись целые эскадроны, которые бросились в реку. Среди этих трупов, возвышавшихся над поверхностью воды, видны были стоявшие, как статуи, окоченелые кавалеристы на лошадях в том положении, в каком застала их смерть“. Среди этого поля мертвых попадались еще дышавшие, и наши казаки сумели отравить им последния минуты жизни. Не довольствуясь добычей с мертвых, они стаскивали платье с умирающих. „Эти несчастные громко кричали, им было очень холодно, и ночью, отдыхая в крестьянской избе, я слышал вопли их. Многие в борьбе со смертью силились перелезть ко мне, через забор, но это последнее усилие окончательно убивало их, так что при выходе моем я нашел их замерзшими: одних с поднятыми руками, других с поднятыми ногами“ … Впоследствии по распоряжению минскаго губернатора здесь было сожжено до 24.000 трупов» (Отечественная война и русское общество: 1812—1912. Том IV. Коллектив авторов. Ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Москва, т-во И. Д. Сытина, 1912, стр. 255—256).]. Сама река, поглотившая в своих водах десятки тысяч французов, после их переправы сразу замерзла. «Точно счастье хотело доказать, что оно может решительно отвернуться от Наполеона. Если бы морозы ударили тремя днями раньше, не было бы никакой катастрофы»[142 - Отечественная война и русское общество: 1812—1912. Том IV. Коллектив авторов. Ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Москва, т-во И. Д. Сытина, 1912, стр. 256.]. По подсчетам Наполеон на Березине потерял до 25 тыс. строевых и примерно столько же прочих людей, русские потери, по официальным данным, 4 тыс. «нижних чинов», французы исчисляют 14 тыс. человек.
«К общему сожалению сего 15-ю числа Наполеон… переправился при деревне Студенице»[143 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 430.] – рапортовал фельдмаршал 19 ноября Александру I. Описав в своем письме расположение сил русских, Кутузов делал заключение: «Такое положение армии в отношении к неприятельской предвещало неминуемое истребление всей французской армии»[144 - Там же, стр. 429.]. Но этого не произошло, как указывает в другом донесении Кутузов, вследствии «важных ошибок адмирала Чичагова»[145 - Там же, стр. 421.]. Но здесь резонно напрашивается вопрос, где же был сам главнокомандующий со своей армией в столь решающий момент военных действий, в заранее спланированной операции, ведь все события на Березине 14—17 ноября прошли совершенно без его участия. 14 ноября, когда Наполеон начал переправу через Березину, Кутузов с главными силами вторые сутки пребывал в г. Копысе, почти за 120 км от противника, и плохо ориентировался в обстановке. 17 ноября, получив в м. Самре известие о переправе Наполеона, фельдмаршал очень удивился: «Сему я почти верить не могу»[146 - Там же, стр. 405.] – написал он Чичагову. В тот же день, когда Наполеон уже закончил переправу, Кутузов все еще из Самр приказал М. А. Милорадовичу «объяснить ему, остается ли какой неприятель по сию сторону реки Березины и преследуете ли вы его»[147 - Там же, стр. 406.]. 18 ноября, Наполеон, преследуемый Чичаговым, уходил от Березины на запад, Кутузов уведомлял Чичагова из д. Михневичи, что в 12—13 км от Березины: «Неизвестность моя все продолжается, – переправился ли неприятель на правый берег Березины… Доколе не узнаю совершенно о марше неприятеля, не могу я переправиться через Березину, дабы не оставить графа Витгенштейна одного противу всех сил неприятельских»[148 - Там же, стр. 411.]. Между тем, Витгенштейн 18 ноября был уже на правом берегу Березины. Кутузов с Главной армией перешел через Березину у м. Жуковец только 19 ноября – двумя сутками позже Наполеона и на 53 км южнее места его переправы.
Уже 19 ноября Кутузов сообщил Александру I, Чичагову и Витгенштейну свой новый план, с целью «истребить остатки бегущего неприятеля»[149 - Там же, стр. 427.]. План предусматривал скоординированное наступление всех русских войск по четырем направлениям: Чичагов должен был преследовать самого Наполеона, «следуя по пятам неприятеля», Витгенштейн – наступать правее Чичагова и «стараться пресечь Макдональду путь к соединению с Наполеоном», Платонову с казачьими полками и полтора ротою конной артилерии «атаковать его в голове и во фланге колонн, истреблять все мосты, заготовленные у него на пути магазейны, словом сказать, беспокоить его беспрестанно», сам Кутузов с Главной армией – следовать левее Чичагова и «воспретить соединению Шварценберха с Наполеоном», Милорадович – идти между Чичаговым и Кутузовым, он «всегда может по обстоятельствам содействовать» тому или другому[150 - Там же, стр. 428.].
Неприятель бежал к Вильно. Даже оставшиеся после Березины строевые отряды с каждым днем все таяли, отделяя от себя «новые банды отставших». После Березины ударили и не ослабевали жестокие морозы: 23 ноября в Сморгани было 25
С мороза, 25-го в Ошмянах —27
С, 27 и 28-го в Вильно —27—28
С. Французская армия гибла от холода и на привалах, и прямо на ходу: «Каждый их бивак походил на поле кровопролитной битвы»[151 - Военский К. А. Исторические очерки, разсказы, воспоминания и др. статьи, относящиеся к 1812 году. СПб, тип. Сельскаго Вестника, 1912, стр. 120.]. «Перед Вильной в течение одной ночи замерзла целая бригада неаполитанцев»[152 - Там же, стр. 66.] – вспоминал генерал А. Д. Хлаповский. Между тем, отовсюду их атаковали казаки и партизаны, а сзади их, следуя «генеральному плану» Кутузова, настигали регулярные полки и уничтожали главным образом нестроевых, но также били и строевые отряды.
Наполеон видя, что кампания безнадежно проиграна, а его «Великая армия» почти уничтожена, решил подготовить общественное слияние Франции и Европы к восприятию постигшей его катастрофы. 21 ноября в Молодечно император составил «погребальный», как его называли сами французы, 29 бюллетень: признав свое поражение и объяснив это превратностями русской зимы, заключил бюллетень словами, шокировавшими даже его верноподданных: «Здравие Его Величество находится в самом лучшем состоянии»[153 - Санкт-Петербургские ведомости. 1813. №4. 14 января. 29-й бюллетень Великой армии. Молодечно. 21 ноября / Декабря 3 дня 1812.]. Вечером 23 ноября в Сморгани Наполеон покинул армию. Он торопился в Париж, чтобы опередить толки вокруг 29-го бюллетеня, и собрать новую армию. Взяв с собой ближайших сановников и несколько слуг, кавалерийский эскорт только до русской границы, 23 ноября Наполеон покинул свою армию и за 13 дней промчался инкогнито в закрытой кибитке под именем герцога Виченского через всю Европу, миновав все расставленные для него западни (однако в первую же ночь чуть не попал в руки партизану А. Н. Сеславину), и к полуночи 6 декабря уже был в Париже. В Варшаве Наполеон «казался иногда веселым и спокойным, иногда даже приятный, он сказал среди прочего: «Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Возможно, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, возможно, я плохо сделал, что слишком долго там оставался, но от возвышенного до смешного – всего один шаг, и судить об этом должны потомки»[154 - Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников. (1812—1815 гг.) Записки Императорской Академии Наук. Том 43. СПб, Импер. Акад. Наук, 1882, №310. С. 419.].
Командовать остатками «Великой армии» Наполеон поручил И. Мюрату. Тот с ролью главнокомандующего не справился и вскоре самовольно ехал к себе в Неаполь, сдав командование Е. Богарне. Вместе с Наполеоном исчез и последний нравственный ресурс, после чего дезорганизация и деморализация остатков армии приняла «чудовищные размеры». Ф. Н. Глинка написал в те дни о французах: «Их можно ловить легче раков»[155 - Глинка Ф. Н. Письма русскаго офицера, о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1813 год. В пяти частях. Москва, тип. Русского, 1870, стр. 60. «Мы остановились в раззоренном и еще дымящемся от пожара Борисове. – Несчастные Наполеонцы ползают по тлеющим развалинам и не чувствуют, что тело их горит!… Те, которые поздоровее, втесняются в избы, живут под лавками, под печьми, и заползают в камины. Они страшно воют, когда начнут их выгонять. – Недавно вошли мы в одну избу и просили старую хозяйку протопить печь. „Не льзя топить, отвечала она: там сидят Французы!“ – Мы закричали им по французски, чтоб они выходили скорее поесть хлеба. Это подействовало. Тотчас трое, черные как Арапы, выпрыгнули из печи и явились перед нами. Каждый предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой в лекаря; третий – в учители! – Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь. В самом деле, если вам уж очень надобны Французы, то вместо того, чтоб выписывать их за дорогия деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба – и целую колонну сманишь! – Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которыя наизусть перескажут им всего Монто; в друзья дома (amis de la maison) и – в учители!!! – За недостатком Русских м?жчин, сражающихся за Отечество, они могут блистать и на балах наших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху! – И как ручаться, что эти же запечные Французы, доползя до России, прихолясь и приосамясь, не вскружат голов прекрасным Россиянкам, воспитанницам – Француженок!… Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой штуки и прелестные людоеды с героями Русскими!…» (С. 59—60).]. Однако в таких условиях сами французы умудрялись вести с собой русских пленных, которых вывели из Москвы от 2 до 3 тыс. человек, и какое-то их число довели до Франции.
26 ноября французы вступили в Вильню. Мюрат не смог наладить порядок и многотысячные толпы мародеров, ворвавшись в город, разграбили его. Пока французы грабили Вильню, к 28-му ноября к городу подоспели казаки М. И. Платова и авангард П. В. Чичагова. Противник бежал из города, бросая больных и раненых, всего оказалось 5139 чел., и награбленную добычу. 29 ноября фельдмаршал с главными силами торжественно вступил в Вильно и занял комнаты, которые «были вытоплены для Бонапарте»[156 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 487.].
2 декабря авангард русских войск, казаки и партизаны с боем проводили за Неман остатки «Великой армии». Подневольные союзники Наполеона – австрийцы и прусаки – теперь, когда он оказался на краю гибели, предали его. 18 декабря командующий корпусом генерал Г. Д. Л. Йорк, даже без ведома короля Пруссии, подписал договор о нейтралитете и 18 тыс. прусаков отделились от корпуса Макдональда, в состав которого они входили; этот же корпус был включен в состав корпуса Витгенштейна. 18 января 1813 г. австрийский фельдмаршал К. Ф. Шварценберг заключил перемирие с Милорадовичем, по условиям которого австрийский фельдмаршал увел свой корпус в Галицию, уступив русским без боя Варшаву. Всего из 600 тысячной «Великой армии» из России выбралось, по данным Ж. Шамбре, 58,2 тыс. человек (М. И. Богданович насчитывал 81 тыс., Д. П. Бутурлин – 79 тыс., Ю. Н. Гуляев и В. Т. Соглаев – 70 тыс., П. А. Жилин – 44 тыс., Е. В. Тарле – 30 тыс.) Однако в подобно жалкое состояние пришла не только французская, но и русская армия. «Главная армия от беспрестанных действиев, чрез два месяца продолжающихся, от убитых неприятелем, от раненых, а еще более от заболевших и отсталых чрез необыкновенно большие марши пришла в такое состояние, что слабость ее в числе людей должно было утаить не только от неприятеля, но и от самих чиновников, в армии служащих»[157 - Там же, стр. 551.] – доносил Кутузов Александру I из Вильно. В рапортах государю от 1-го, 2-го и 9 декабря фельмаршал настойчиво предлагал дать ей отдых до двух недель, «ибо, естли продолжать дальнейшее наступательное движение, подвергнется она в непродолжительном времени совершенному уничтожению»[158 - Там же, стр. 495, 502, 582.].
Наполеоновская армия вышла из Москвы с численностью 115,9 тыс. человек, получила в пути подкрепление в 31 тыс. чел., на границе от нее осталось 14,2 тыс. человек: общие потери составили 132,7 тыс. чел. (к 1 января 1813 г. общее число военнопленных превысило 216 тыс. чел.) Кутузов вышел из Таратутино во главе 120 тыс. армии, не считая ополчение, в пути получил, как минимум, 10 тысячное подкрепление, привел к Неману 27,5 тыс. человек. Потери русской армии при удовлетворительном ее существовании составили не менее 120 тыс. человек.
7 декабря 1812 г. Кутузов, оценивая состояние армии очень тяжелым, доносит царю главную весть: «и сколько ни ослабела армия, но неприятель почти истреблен»[159 - Там же, стр. 551.]. До 11 декабря фельдмаршал в Вильно пребывал, по словам Ермолова «покоился на пожатых лаврах» и «ничто до слуха его допускаемо не было, кроме рабственных похвал льстецов, непременных сопутников могущества!»[160 - Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года. Londres, Bruxelles, S. Tchorzewski, S. Gerstmann (https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/S.%20Tchorzewski,%20S.%20Gerstmann), 1863, стр. 152, 153.] 6 декабря Александр I пожаловал Кутузову титул князя Смоленского «в память незабвенных заслуг», и «особливо же за нанесенное в окрестностях Смоленска [под Красным] сильное врагу поражение, за которым последовало освобождение сего знаменитого града и поспешное преследуемых неприятелей из России удаление»[161 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 545.].
11 декабря в 5 часов пополудни в Вильно прибыл Александр I. Кутузов встречал его у дворцового подъезда во главе почетного караула «в парадной форме, со строевым рапортом в руке». Император «прижал к сердцу фельдмаршала», принял от него рапорт и вместе с ним, «рука об руку» вошел во дворец, где «беседовал с ним без свидетелей». На выходе из царского кабинета Тостой «поднес ему на серебряном блюде орден св. Георгия первой степени»[162 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том III. СПб, А. С. Суворин, 1897, стр. 132.]. Кутузов в те дни «казалось, изнемогал под бременем своих успехов, оказанных ему почестей и отличий, которые со всех сторон сыпались на него»[163 - Шуазель-Гуффье С. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе. Изд. 1829 г. Пер. Е. Мирович. Вступит. ст. А.А. Кизеветтера. Москва, изд. К. Ф. Некрасов, 1912, стр. 98. «И между тем он вздыхал, что ему не удалось взять в плен Наполеона. Я заметила на его столе великолепный министерский портфель из чернаго сукна, с золотой вышивкой, представлявшей с одной стороны французский герб, с другой – шифр Наполеона. Фельдмаршал предназначал этот портфель княгине Кутузовой. Однажды кто-то из общества сделал замечание по поводу бедствий Москвы. „Как!“ воскликнул фельдмаршал, „дорога от Москвы до Вильны дважды стоит Москвы!“ И он хвалился, что в один год заставил две армии питаться кониной, – французскую и турецкую» (С. 98).] – по впечатлениям графини С. Шуазель-Гуффье.
12 декабря, день рождения императора, Александр I принял у себя всех генералов и приветствовал их словами: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу»[164 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том III. СПб, А. С. Суворин, 1897, стр. 134.]. В тот же день император дал торжественный обед в честь Кутузова. Но перед обедом у него был конфиденциальный разговор с Р. Т. Вильсоном: «Мне известно, что [фельд] маршал не исполнил ничего из того, что должен был сделать. Он избегал, насколько сие оказывалось в его силах, любых действий противу неприятеля. Все его успехи были вынуждены внешнею силою. Он разыгрывает свои прежние турецкие фокусы[165 - Под турецкими фокусами император мог разуметь дружественные чувства в адрес противника, желание заключить с ним перемирие и достаточно щадящий для него мир – вопреки категорическим требованиям и всей политике императора.], но московское дворянство стоит за него и желает, дабы он вел нацию к славному завершению сей войны. Посему я должен (здесь Император умолк на минуту) наградить этого человека орденом св. Георгия, хотя тем самым нарушу его статус, ибо это есть высочайшая награда в Империи. Однако я не прошу вас присутствовать при сем – сие было бы для меня слишком большим уничижением. Но, к сожалению, выбора нет – надобно подчиниться вынужденной необходимости. Впрочем, теперь я уже не оставлю мою армию и не допущу несообразностей в распоряжениях [фельд] маршала. Все-таки он старый человек, и я хотел бы видеть с вашей стороны подобающее ему почтение и не отвергать таковое, буде оно воспоследует от него самого. Я желал бы положить конец любым проявлениям недоброжелательства и встать с сего дня на новый путь – благодарности Провидению и милости ко всем»[166 - Вильсон Р. Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812—1813 года. Письма к разным лицам. Пер. с англ., вступ. ст. С.Н. Искюля, примеч. С. Н. Искюля, Д. В. Соловьева. СПб, ИНАПРЕСС, 1995, стр. 283.]. С этого дня, по наблюдению А. П. Ермолова, Александр I оставил при Кутузове «громкое наименование главнокомандующего и наружный блеск некоторой власти»[167 - Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года. Londres, Bruxelles, S. Tchorzewski, S. Gerstmann (https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/S.%20Tchorzewski,%20S.%20Gerstmann), 1863, стр. 155.].
21 декабря Кутузов издал приказ по армиям в связи с окончанием Отечественной войны: «Храбрые и победоносныен войска! Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем… Не было еще примера столь блистательных побед. Два месяца сряду рука ваша каждодневно карала злодеев. Путь их усеян трупами… Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах… Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались противу России…»[168 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том IV. Часть 1I. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1955, стр. 633—634.]
В манифесте от 31 декабря 1812 г. Александр I написал: «Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазом своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у Главноначальствующаго над войсками Нашими знаменитаго Полководца, принесшаго бессмерныя Отечеству заслуги; ни у других искусных и мужественных вождей и военначальноков, ознаименовавших себя рвением и усердием; ни вообще у сего храбраго Нашего воинства, можем сказать, что содеяное ими есть превыше сил человеческих. И так да познаем в великом деле сем промысел Божий…»[169 - ПСЗРИ. Т. 32. №25.295. С. 487.] На памятной медали в честь 1812 г. царь повелел отчеканить с одной стороны: «Не нам, не нам, а имени Твоему», а с другой, масонский знак «всевидящего ока» Провидения.
Александр I, убедившись в том, сколь необходимы войскам для победы отдых и подкрепление, разрешил им отдыхать в Вильно не 2, а почти 4 недели. Кутузов в это время обратился с воззваниями к населению Пруссии и к французским солдатам. Пруссаки встретили возвание «покинуть Наполеона, чтобы следовать по пути, указанному им их подлинным интересам… и присоединиться к ним [российским армиям] для преследования» наполеоновских войск[170 - Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы российского министерства иностранных дел. Сер. I. Том VI. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий. Москва, Политическая литература, 1962, стр. 680.] на ура, французы на призыв восстать против «жесточайшего дестотизма [которым] вынуждают посылать своих последних детей на смерть… чтобы освободиться от пут жестокого рабства»[171 - Там же, стр. 679.] не откликнулись. Начальником штаба всех армий был назначен самый близкий к царю человек после А. А. Аракчеева, сановник генерал-адъютант князь П. М. Волконский, был возвращен в армию и барон Л. Л. Беннигсен. Среди политической элиты России зазвучала нота невмешательства в деле Европы, однако императором владели иные чувства.
24 декабря Главная армия под командованием Кутузова и в присутствии императора выступила из Вильно. В приказе по войскам от 25 декабря 1812 г. Александр I так объяснил цель их похода в Европу: «Воины! Храбрость и терпение ваши вознаграждены славою, которая не умрет в потомстве. Имена и дела ваши будут переходить из уст в уста от сынов ко внукам и правнукам вашим до самых поздних родов. Хвала Всевышнему! Рука Господня с нами, и нас не оставит. Уже нет ни единого неприятеля на лице земли нашей. Вы по трупам и костям их пришли к пределам Империи. Остается еще вам перейти за оные, не для завоевания или внесения войны в земли соседей наших, но для достижения желанной и прочной тишины; вы идете доставить себе спокойствие, а им свободу и независимость. Да будут они друзья наши! От поведения вашего зависеть будет ускорение мира…»[172 - Исторический, статистический и географический журнал, или Современная история света. 1813. Ч. 1. Кн. 1—2 (январь-февраль). Москва. С. 32—33.]
Пережив взлет от унижений к торжеству Александр I теперь, имея силы, стремился не только отомстить врагу за Аустерлиц, Фридланд, Смоленск и Москву, за позор Тильзита, изгнанием его из России, но теперь это должно было стать личным унижением Наполеона; возглавить антинаполеоновскую европейскую коалицию (шестую коалицию), начало которой было уже положено союзными договорами 1812г. России с Англией – 6 июля, о субсидировании, Испанией – 8 июля и Швецией – 24 марта и 18 августа, с отдачей Норвегии, возглавить ее и стать на правах коалиционного вождя (освободителя) Европы.
Численность русских войск под командованием Кутузова по сводной ведомости от 23 января 1813 г. составляла 138 318 чел. при 645 орудиях. Армия пополнялась за счет резервных частей, а также присоединения к ней отставших и выздоровевших солдат: по ведомости от 26 января в пути за кордон было 65 тыс. ратников. Изменение произошло и в руководстве войсками: адмирал П. В. Чичагов, оскорбленный подозрениями в измене, за операцию на Березине, неоднократно подавал рапорт об отставке, и 31 января 1813 г. Кутузов сообщил ему, что Александр I, наконец, «уважил» его прошение по случаю болезни и назначил вместо него командующим 3-й Западной армией Барклая-де-Толи. Руководство войсками, координация действий трех армий, их обеспечением занимался Кутузов, что отнимало у него много времени, однако при этом, невзирая на занятость и болезни он успевал пообщаться и с женским полом. «Это было за несколько недель до кончины Фельдмаршала, который начинал чувствовать разстройство в силах. Закат дней его был прекрасен, подобно закату светила, озарившаго в течении своем великолепный день; но не льзя было смотреть без особеннаго прискорбия, как угасал наш знаменитый вождь. Картина ничтожества земнаго величия представлялась моему воображению всякий раз, когда во время недугов, избавитель России отдавал мне приказания, лежа на постеле, таким изнемогающим, слабым голосом, что едва бывало можно разслушать слова его. Однако же его память была очень свежа, и он неоднократно диктовал мне по несколько страниц безостановочно; за то сам не любил писать, говоря, „что он никогда не мог порядочно выучиться письму“, хотя по всем частям человеческих познаний имел обширныя сведения. Впрочем, когда он бывал здоров, то обыкновенная веселость его нрава была неизменна. Известно, что он был обожатель женскаго пола. Однажды, в Калише не бале, я вышел из танцевальной залы в удаленныя комнаты, где никого не было; наконец в одной из них слышу хохот, вхожу туда, и что же вижу? Обремененнаго лаврами Фельдмаршала, привязывавшаго ленты у башмаков прекрасной шестнадцатилетней Польки Маячевской»[173 - Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. Второе издание. СПб, тип. Импер. Росс. Акад., 1836, стр. 66—67.].
1 января 1813 г. русская армия перешла Неман и вступила в пределы Польши. В Калише, по поручению Александра I, Кутузов 15—16 февраля вместе с канцлером Пруссии К.-А. фон Гарденбергом, «руководимые великодушным побуждением освободить Европу», утвердили «основу их взаимных обязателств мирным, дружественным и союзным наступательным и оборонительным договором»[174 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том V. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1956, стр. 277.] между Россией и Пруссией против Наполеона. Жители Пруссии, натерпевшиеся страха от Наполеона с 1806 г., теперь встретили русские войска как освободителей. «Вообразить нельзя, как мы приняты в Пруссии. Никогда ни прусского короля, ни его войска так не принимали»[175 - Там же, стр. 98.] – писал Кутузов жене 10 января. «Воздух потрясся от радостных восклицаний: «Vivat der grose Ulte! Vivat unter Grosvater Kutusov!»[176 - Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. Второе издание. СПб, тип. Импер. Росс. Акад., 1836, стр. 91. Но не все радостно встречали российскую армию: «В продолжение нашего марша из Плоцка к Калишу, Евреи, одетые в шутовские наряды, выносили пред каждое местечко, лежавшее на нашей дороге, священную свою утварь и разноцветные значки, с изображением на них вензелеваго имени Императора. Они встречали нас с барабанами и ливрами, и оглашали воздух трубными звуками. Иногда показывались Поляки, которые, по вековому обыкновению своему, сами не знали, чего хотели. Одни из них скучали Французским игом, а другие смотрели на нас сердито. Питая закореналыя ненавистныя к нам чувства, они думали, что каждый шаг Российской армии вперед, отлагал час возстановления Польши, которым Наполеон неоднократно им льстил» (С. 43—44).] – свидетельствовал А. И. Михайловский-Данилевский.
В начале марта русские войска заняли Берлин. 15 марта русский авангард генерала барона Ф. Ф. Винценгероде при поддержке отряда прусского генерала Г.-Л. Блюхера без боя занял Дрезден. Торжество русских войск Кутузов показал при капитуляции крепости Торн войсками М. Б. Барклая де Толи. «Весь гарнизон 6/18 апреля вышел из крепости обезоруженный и получает направление восвояси с тем, чтобы в течение нынешнего года не служить противу России и ее союзников»[177 - Русские полководцы. М. И. Кутузов. Сборник документов и материалов. Том V. Под ред. Л. Г. Бескровного. Москва, изд. Министерства Обороны Союза ССР, 1956, стр. 545.] – уведомил Кутузов своих генералов об условиях капитуляции.
Между тем, здоровье фельдмаршала становилось все хуже. 10 апреля Кутузов написал Александру I: «Я действительно в отчаянии от своей длительной болезни и день ото дня чувствую себя все слабее»[178 - Там же, стр. 545.]. 11 апреля Кутузов написал жене: «Я к тебе, мой друг, пишу в первый раз чужою рукою, чему ты удивишься, а может быть и испугаешься, – болезнь такого рода, что в правой руке отнялась чувствительность перстов…»[179 - Там же, стр. 550.]
16 апреля в 21 час. 30 минут в старинном особняке силезского города Бунцлау (ныне г. Болеславец в Польше), светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский скончался. Гроб с набальзамированным телом 27 апреля, в сопровождении кутузовского адъютанта К. А. Дзичканца, был отправлен в Санкт-Петербург, часть останков, удаленные при бальзамировании, захоронены на кладбище Бунцлау. Александр I узнал о смерти Кутузова 18 апреля во Фробурге близ Лютцена. По докладу государю, где похоронить Кутузова Александр I собственноручно написал: «Мне кажется приличным положить его в Казанском соборе, украшенном его трофеями»[180 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том III. СПб, А. С. Суворин, 1897, стр. 382.]. Кутузова с собором связывала невидимая нить, будучи с.-петербургским генерал-губернатором он содействовал постройке собора, отсюда он отправился к армии, на борьбу с Наполеоном, сюда присылал военные трофеи – знамена, штандарты, маршальский жезл Даву, ключи от крепостей, отнятое у французов русское золото, из которого позднее был изготовлен иконостас собора.
Прибыв во Францию Наполеон собрал новое 300-тысячное войско, из которых наполовину двинул против союзных войск. Поэтому Александр I приказал «содержать в тайне известие о его [Кутузова] кончине, и не объявлять об ней прежде сражения»[181 - Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. Второе издание. СПб, тип. Импер. Росс. Акад., 1836, стр. 130—131.]. 20 апреля 1813 г. Наполеон дал сражения русско-прусской армии при Лютцене. Главнокомандующий союзными войсками вместо Кутузова был назначен генерал от кавалерии граф П. Х. Витгенштейн, овеянный славою побед 1812 г., пруссакам же импонировала его фамилия. Битва не принесла победы союзному войску, как и сражение при Бауцене (8—9 мая), отбросив их к Одеру. Александр I заменил Витгенштейна на посту главнокомандующего Барклаем де Толи.
Наполеон понимал, что победами одной или двумя битвами судьбы всей кампании ему не решить, если Австрия отойдет от него и присоединится от коалиции, куда ее давно звал Александр I. Австрия же, понимая свое выгодное положение, стала вести двуличную политику, выторговывая с каждой стороны для себя главенствующую роль. Цель Австрийской политики – прекращение войны, мир при посредстве Австрии, т.е. стать моральной охранительницей всей Европы. И для Александра I и для Наполеона такие условия были неприемлемы. Другая трудность вступлению в коалицию заключалась еще в том, что дочь Австрийского императора Франца I Мария-Луиза была замужем за Наполеоном, а значит, занимала императорский трон во Франции.
Осознавая к чему ведет Австрия, но, желая покончить с Наполеоном, Александр I, наконец, принимает ее посредничество и стороны собрались на конгресс в Париже. На конгрессе Наполеон не принял австрийское предложение и Австрия вступила в коалицию 15 июня 1813 г., несмотря на то, что ее ужасало поднимавшееся национально-освободительное движение в Германии, почвой к которой лег союз России и Пруссии, с дружественно-возвышенным либеральным характером и лозунгами освобождения от притеснения и угнетения, на которые Александр I, конечно, не скупился для достижения своей цели. Когда Ермолов поздравлял Александра с победой при Фер-Шампенаузе в марте 1814 г., император ответил торжественным тоном: «От всей души принимаю ваше поздравление, двенадцать лет я слыл в Европе посредственным человеком, посмотрим, что она заговорит теперь»[182 - Мельгунов С. П. Александр I. Сфинкс на троне. Тайны Российской империи. Москва, Вече, 2010, стр. 64.].
К августу 18132 г. в антинаполеоновскую коалицию вступили Англия и Швеция, и теперь в ее распоряжении оказалось до полумиллиона солдат, разделенных на три армии. Главнокомандующим над всеми армиями был назначен австрийский фельдмаршал Карл Шварценберг (недавно служивший Наполеону и получивший титул генералиссимуса после объявления войны Австрии Франции), а общее руководство осуществлял совет трех монархов – Александра I, Франца I и Фридриха-Вильгельма III. В договоре от 13 августа 1813 г. была намечена в общих чертах ликвидация французских завоеваний. К началу августа у Наполеона уже насчитывалось почти 450 тыс. солдат. 15 августа он одержал победу над войсками коалиции под Дрезденом и лишь победа русских войск через 3 дня под Кульмой предотвратила распад коалиции.