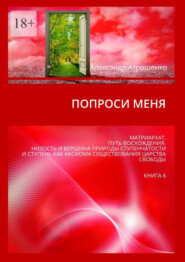скачать книгу бесплатно
«Усматривая из всех вообще полковых рапортов непомерное число больных нижних чинов, – писал Барклай, – я долгом себе поставляю обратиться к вашему превосходительству, чтоб предписать гг. дивизионным командирам, при наступающих осмотрах войск во всех родах ученья: цельной стрельбе, исправности оружия и одежде, обратить особое внимание на содержание солдат. По моему мнению, нет другой причины к умножению больных и даже смертности, как неумеренность в наказании, изнурение в ученьях сил человеческих и попечение о сытной пищи. Вашему превосходительству по опыту должно быть известно закоренелое в войсках наших обыкновение: всю науку, дисциплину и воинский порядок основывать на телесном и жестоком наказании; – были даже примеры, что офицеры обращались с солдатами безчеловечно, не полагая в них ни чувств, ни разсудка. Хотя с давняго времени мало-по-малу такое зверское обхождение переменилось, но и по ныне еще часто за малыя ошибки весьма строго наказывают, учат весьма долго и даже по два раза в день, что допустить можно только в наказание ленивых и непонятных; в пищу солдатам кроме хлеба ничего не доставляют; а на лицах их не токмо не видно здоровья и живности, но по цвету и худобе можно назвать целые роты или баталионы больными и страдающими.
Господа дивизионные командиры обязаны употребить усильныя старания о сбережении людей в полках, чрез бдительный надзор за обращением офицеров с нижними чинами. Российский солдат имеет все отличнейшие воинския добродетели: храбр, усерден, послушен, предан и неприхотлив, следственно, есть много способов, не употребляя жестокости, довести его до познания службы и содержать в дисциплине.
Я приказал ежемесячно представлять мне выписку из полковых рапортов о числе больных, по коей судить буду о способностях и усердии полковых начальников, ибо за неопровергаемую истину принять можно, что число в полку больных показывает ясно образ управления.
Покорнейше прошу ваше превосходительство предписать в донесениях об осмотре войск, сверх предписаннаго прежними повелениями, помещать мнение дивизионных командиров о здоровом состоянии нижних чинов и хорошем их содержании».
Распоряжения эти остались историческими памятниками благих намерений императора Александра и его сподвижников, не осуществившихся на деле: они остались свидетелями того, что за исполнением сделаннаго распоряжения необходимо неослабленное наблюдение и обуздание ослушников, а это было дело трудное, когда пример тому подавал великий князь Константин Павлович, стоявший во главе начальников.
Живя постоянно в Стрельне, великий князь целый день и даже ночью муштровал свое войско и стрельбою по ночам не давал покоя жителям. Смиренный инок Троицко-Сергиевской пустыни Евгений Болховитинов, впоследствии знаменитый митрополит киевский, жаловался своему приятелю Македонцу, что Константин Павлович не дает монахам спать, открывая по ночам около 11 или 12 часов пушечную пальбу. «Он ужасный охотник до пальбы и до экзерциции», прибавлял Евгений.
Желая водворить порядок и однообразие в строю, великий князь вызывал в Стрельну из всех кавалерийских полков по одному штаб и по два обер-офицера, для узнания порядка кавалерийской службы. Он производил им ученья с ранняго утра и до поздней ночи.
Трепещет Стрельна вся, по всюду ужас, страх.
Неужель землетрясенье?
Нет, нет! Великий князь ведет нас на ученье.
Будучи чрезвычайно вспыльчив, Константин Павлович был резок в обращении с офицерами и солдатами и весьма часто выходил из границ предоставленной ему власти. Гнев его не знал пределов. Он сам потом осуждал свои поступки и нередко просил у оскорбленных прощения. «Много офицеров, полковников и генералов были им оскорблены на маневрах, парадах и ученьях, в особенности на последних».
«Однажды, – пишет граф Ланжерон в своих записках, – я видел, как великий князь Константин Павлович велел наказать одного прапорщика, Лаптева, 50-ю ударами за неважное упущение при разводе. Другой случай: не задолго до коронации императора Александра I, Николай Олсуфьев был наказан пятнадцатью ударами (сабли) плашмя. На другой день он сделался гвардейским офицером, а впоследствии генеральс-адъютантом великаго князя Константина Павловича».
При таком обращении с офицерами о солдатах и говорить нечего. Но солдат с терпением переносил самыя жестокия наказания, проходил без ропота несколько раз сквозь строй или как тогда называли по «зеленой улице», если назначенное ему наказание было справедливо и одинаково для всех. Он покорялся и покорялся без ропота всем требованиям, если они исходили от начальника справедливаго, делившаго с ним холод и голод, готоваго положить живот свой за честь русскаго знамени
»[203 - Русская старина. Т. 108. 1901. №10—12. СПб. Н. Дубровин. Русская жизнь в начале XIX века. С. 1 – 471—472, 2 – 473, 3 – 475—482.].
Для укрепления армии, ее комплектования и решения острых финансовых проблем в послевоенной жизни России появилась практика возникновения военных поселений. Смысл этих действий в том, чтобы часть армии перевести на «самоокупаемость» – посадить солдат на землю, чтобы они наряду с несением военной службы занимались земледелием и тем содержали себя. После войны с Наполеоном военные поселения приобрели еще и карательную функцию, их было удобно использовать для расправы с крестьянским движением.
Еще в XVIII в. в пору масштабных войн, к такой форме поддержания в готовности своей армии занимались Швеция, Венгрия, Австрия. Теперь к этой идее обратился и Александр I, тем более что этот тип ведения хозяйства и устройства общества особенно культивировался тогда фантастами-литераторами, как наиболее правильное и счастливое для всех жителей государства. Ряд высших российских сановников изначально были против этого нового ведения, указывая на разницу в цивилизованности общества между Западной Европой и Восточной. Среди них был и фаворит Александра I граф А. А. Аракчеев, который во времена отсутствия императора в России практически осуществлял руководство страной. Но как только вопрос о военных поселениях был окончательно решен Александром I, Аракчеев стал самым рьяным и последовательным проводником этой меры в жизнь.
Вышедший из семьи бедного сельского дворянина Аракчеев всем своим успехам был обязан только себе, своему трудолюбию, преданностью начальству. Современники отмечали, что страсть к порядку, строгость, требовательность к себе и к подчиненным у него доходило «до тиранства». Однако Аракчеев брал на себя в государстве наиболее тяжелые и неблагодарные работы и делал их усердно и бескорыстно. Все дорогие подарки царя он отсылал в казну, свое имение он завещал государству, а скопившийся за жизнь капитал завещал, в большей своей части, Новгородскому кадетскому корпусу для обеспечения неимущих кадетов.
Первое военное поселение было образовано в 1810 г., поселив батальон солдат на земле в Могилевской губернии. Часть солдат превратили в семейных «хозяев», а у них разместили остальных холостых солдат, которые должны были помогать им в полевых работах. Опыт оказался неудачным. Солдаты, не представлявшие особенности этой деятельности, были не в состоянии содержать себя. В связи с начавшейся войной 1812 г. их включили в действующую армию.
В 1816 г. военные поселения стали создаваться вновь, но уже на иных началах. На этот раз жители мест не выселялись, а обращались в военных поселян и получали наименование «поселян-хозяев». В селениях расквартировывали военные подразделения. Все мужчины данной местности в возрасте до 45 лет становились солдатами. Крестьянские избы сносились и строились новые, рассчитанные на общежитие 4-х семей с общим хозяйством. В военных поселениях учреждались школы, госпитали, ремесленные мастерские. Дети военных поселян с 7 лет зачислялись в кантонисты. Сначала они учились в школе, а с 18 лет переводились в воинские части. Основная цель поселения – военные учения, все же сельские работы производились по приказу командиров, которые также давали разрешения и на занятие другими ремеслами и торговлей. Даже жениться можно было только с разрешения командования. Вся жизнь строго регламентировалась: по команде военные поселяне должны были вставать, зажигать огонь, топить печь, выходить на работу, а любое нарушение порядка строго наказывалось аракчеевскими надсмотрщиками, стремившимися выделиться своим рвением.
Старательный Аракчеев превратил военные поселения в прибыльное хозяйство и их уровень жизни был значительно выше, чем в обычной российской деревне, но все же этот вид деятельности стал худшим видом крепостной неволи. Александр I, видевший лишь внешние признаки благоустройства упорно отстаивал необходимость их существования. Возмущение росло, во многих местах вспыхивали бунты. Аракчеев принимал самые жестокие меры при подавлении сопротивляющихся введение военных поселян крестьян и казаков. Крупнейшее из них произошло в г. Чугуеве Харьковской губернии, вспыхнувшее летом 1819 г. и продолжавшееся на протяжении 2-х месяцев. Причиной этого стали суровые условия жизни в военных поселениях. С недовольными уставным режимом Аракчеев разбирался лично. Его вердикт был необычайно строг: 52 человека, наиболее провинившихся в восстании, получили по 12.000 ударов шпицрутенами. 29 человек такого наказания не выдержали. Вместе с тем, исследование причин происходивших в разных округах беспорядков указывает, что ближайшая ответственность за них падает, прежде всего, на непосредственных командиров поселений, создавшие целую систему злоупотреблений, руководствующиеся при управлении поселян произволом и преследованием корыстных расчетов. Когда в 1826 г. Аракчеев сдал управление корпусом, то пять лет спустя, в поселениях возникли повальные бунты, далеко оставившие за собою значение всех волнений среди поселян его периода.
В 1817—1818 гг. военные поселения были введены в Новгородской, Херсонской и Слободско-Украинской губерниях. Около 400 тыс. простых людей оказалось в этом крепостном капкане. При Николае I они в реформированном виде возникли в Витебской, Подольской и Киевской губерниях и на Кавказе. К 1857 г., когда в связи с подготовкой других реформ началось упразднение военных поселений, в них насчитывалось 800 тыс. человек.
P.S: Россия воплощала идеи мистиков-фантастов по насаждению счастливого благополучия в образе примитивно образной старины, волшебного свойства природы дешевого состояния, когда человек олицетворяет в одном лице и пахаря и воина, причем в идеале исключавшее любое мышление, кроме необходимости на само существование этого уклада, приближавший тем человека к позиции животного. Более-менее христианский Запад прошел этот путь и отказался, откажется и Россия, но до поры до времени, чтобы вновь вернуться уже в виде приказной системы картины суперфантастики, наидешевейшему способу существования на всю стану, где человек представляет собой ничтожное тягловое средство, широкодоступный инструментальный элемент претворения дорогих амбиций светлого будущего. Мистическая Россия на протяжении всей своей истории всегда была сильна тяготением к природе волшебства состояния дешевизны.
Распространяя по Западной Европе и окраинах России либеральные идеи (Финляндия, Польша, Испания, Франция), Александр I попробовал сделать некоторые подобные попытки и в самой России. Так, в 1816—1819 гг. по инициативе прибалтийского дворянства, которым крепостной труд становился все более невыгодным, царь пошел на освобождение крестьян. Они получили личную свободу, но лишались права на землю. В 1818 г. Александр I поручил своим помощникам А. А. Аракчееву и министру финансов Д. А. Гурьеву подготовить предложения по отмене крепостного права в России. Представленный проект Аракчеева предусматривал постепенный выкуп помещичьих крестьян в казну: помещики получали за освобождаемых крестьян деньги, которые могли их избавить от долгов и помочь наладить хозяйство; крестьяне освобождались с землей – по две десятины на душу, но на условиях аренды, с перспективой выкупа ее в дальнейшем у помещиков. Но дело по освобождению крестьян окончилось ничем, царь не дал ходу ни одному из предложенных проектов. В том же году Александр I встречался с представителями дворянства Малороссии, Полтавской и Черниговской губерний. Он, подталкивая их проявить инициативу в освобождении крестьян, но встретил с их стороны упорное сопротивление.
В 1818 г. Александр I секретно поручил группе своих советников во главе с бывшим членом Негласного комитета, теперь министром юстиции князем Н. Н. Новосельцевым разработать проект Государственной Уставной Грамоты для России, в которой были бы широко использованы принципы польской конституции 1815 г. Текст был готов к 1820 г. и одобрен царем. По разработанному проекту к монархическому устройству страны добавлялся двухпалатный парламент – Государственная дума, местные выборные представительные органы – сеймы, «Уставная грамота» провозглашала свободу слова, печати, вероисповеданий, равенство всех граждан империи перед законом, неприкосновенность личности и ее собственности. Был написан и высочайший манифест, возвещающий об обнародовании Уставной Государственной грамоты, но тексты этих документов в конечном итоге оказались «похороненными» в недрах его канцелярии. Внутренняя политика Александра I ничем не отличалась от правления его бабки, Екатерины II. И тот и другой понимали необходимость реформ, но топтались нам месте. Екатерину II страшила неизвестная будущность ее лично, Александра I – его и его династии.
В религиозной сфере Александр I был склонен к либерализму, но которому отводилась мера до определенной границы. В Санкт-Петербурге возникает Духовный союз Татариновой. Его основательница была мадам Татаринова, вдова полковника Татаринова. После смерти мужа она поселилась в столице и в 1817 г. основала свой «духовный» кружок. В секту входило около 50 человек, в том числе и представители духовенства (А. Малов). В основе вероучения секты – деление церкви на священно-обрядовую и внутреннюю, созидающую в сердце. Обрядовая секта по теории Духовного союза тоже была освящена Святым духом, но со временем утратила эту связь, поэтому таинство причащения в ней не действует, а церковь духовно мертва и бездейственна. Только в тайных общинах, свободных от богослужебного ритуала, можно обрести приверженцев, обличенных апостольской силой. На собраниях секты читалось Священное Писание, пелись различные песни, как церковные, переложенные на народный напев Никитой Фёдоровым, так и заимствованные у хлыстов. Совершалось радение в хлыстовском стиле, заканчивавшееся изречением пророчеств.
Секта пользовалась поддержкой при дворе. Сама Татаринова была приближена к императрице Елизавете Алексеевне, ей давал аудиенцию император Николай I. До 1822г. собрание секты происходило открыто в квартире Татариновой в Михайловском дворце. В 1822 г. во дворце разместили инженерное училище, одновременно с этим был издан запрет на тайные общества. В 1825 г. из опасения перед преследованиями, секта с некоторыми последователями перебралась за город около Московской заставы, образовала сектантскую колонию.
По-прежнему действует сообщество молокан и духоборов. В 1801 г. Александр I приказал переселить духобор в Крым по реке Молочной. Лидер духобор Савелий Капустин завел в Крыму коммунистические порядки – обработка земли сообща, деление урожая поровну. Благоприятные климатические условия, труд без отлыниваний делали существование духобор безбедным, что в свою очередь, стало предметом зависти чиновников, которые изыскивали все способы, чтобы сорвать с них что-нибудь. На сцену выступили обвинения в совращении православных в свою ересь и в укрытии бродяг. Стали делаться набеги на колонию, обыски, аресты, заключения в тюрьмы, дознания. И хотя к концу концов никакого совращения не оказывалось и никаких бродяг не отыскивалось, члены этих сообществ, измученные арестами и тюремным заключением, давали выкуп, что собственно и требовалось.
Колония искала защиту в лице Александра I, который сдерживал злоупотребления чиновников и вообще покровительствовал. В 1818 г. он даже посетил духоборческое село Терпение в Крыму, остался очень доволен, и велел освободить многих из арестованных и сосланных духоборцев, причем впоследствии (1820 г.) их освободил даже от присяги. С тех пор Александр I пользовался у духоборов исключительным почитанием – ему был даже поставлен памятник.
В начале XIX в. развилась новая религиозная форма – скопчество, вышедшая из недр хлыстов, первоначальная связь которых была порвана очень быстро. Если хлысты не отделяли себя от мира, хотя и налагали на себя некоторые обеты, соблюдать которые было нелегко, оставаясь в мире, то скопцы самым актом оскопления уже отрезывали себя от мира и от всей предшествовавшей деятельности. Оскопленный, помимо того, что становился неспособным к семейной жизни, не мог уже нести и земледельческий труд, становившийся уже непосильным. За разрывом всех прочих связей оставалась одна новая связь, связь по уродству, заставлявшая скопцов держаться ближе друг к другу. Из деревни скопцы тянулись в города, где легче было найти занятие, подходящее для их нового физического состояния; скопчество очень быстро стало городской сектой в противоположность крестьянскому хлыстовству. В городах скопцы торговали и были фабрикантами, но более всего их тянуло к ростовщическим и спекулятивным предприятиям, как физически нетрудоемким, и в то же время очень быстрым накоплениям капитала: в какие-нибудь двадцать пять лет первые скромные адепты «христоса» Селиванова, основателя течения, превратились в миллионеров, диктовавших биржевые цены и мечтавших о том, чтобы прибрать к своим рукам все государственное управление России. Если в 1755 г. Селиванова секли батогами, то в 1822 г. он уже поучал императора Александра I и как живая реликвия показывался буржуазной и великосветской публике. Авторитет его как святого и пророка был настолько велик, что в 1809 г., перед войной с Наполеоном, Александр спрашивал у него пророчество о возможном исходе войны.
Организация скопцов начинает свой отсчет от «христоса» Кондратия Селиванова (некоторые исследователи считают родоначальником Андрияна Петрова) и его «предтечи» Андрея Шилова, которые стали клеймить половую распущенность хлыстов и проповедовать абсолютный аскетизм. К. Селиванов вывел учение ограничения плоти, т. н. «огненного крещения» – кастрации, – для того, чтобы достичь духовной святости и близости к Богу. Новый учитель опирался на слова в Евангелии от Матфея, где Христос в беседе с учениками говорит: «Есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сами сделали себя скопцами для Царствия Небесного» (Матфей 19:12).
Смысл приведенной фразы И. Христа двойственен, и лежит, с одной стороны, в непрелюбодеянии, сохранения чистоты перед Богом, точно так же как в другом месте Он говорит, что если человека искушает рука и глаз, то лучше избавиться от этих членов, что бы все тело оставалось чистым. С другой стороны, внутренний смысл слов находится в раскрытии громадной трудности сохранения чистоты, метафорично сравнивая выполнение закона со скопчеством, что порой легче избавиться от какого либо органа, чем уйти от искушения; если идти дальше по варианту ликвидации органов, то получается, что самый безгрешный тот, кто не живет, но человек создан не для умерщвления и калеченья себя. Поэтому смысл фраз со скопчеством, отрубанием руки и вырыванием глаза в простой парадигме – невозможно быть безгрешным. (Можно привести примитивный похожий пример для более ясного понимания диалога между И. Христом и его окружавших: один человек другому говорит, что у него ни чего не получается в каком либо деле, и он очень огорчен этим, а Тот на эту тупиковую ситуацию ему отвечает: ну иди да утопись. И последователи второго решили, что его «совет» есть настоящий призыв к действию для преодоления всех барьеров и тупиков).
Селиванов и его последователи приняли все абсолютно прямолинейно (впрочем, как и официальные старые церкви, пусть и в ограниченной форме, но приняли эту точку зрения, распространяя монастырский аскетизм). Начались массовые самоизуверства. При помощи раскаленного железа (откуда и пошло название «огненное крещение») мужчины подвергались кастрации или даже обрезанию всего полового органа. У женщин вырезались наружные половые органы, сосцы и целиком груди. Скопцы были уверены, что этим приближаются к Богу, и оттого песни на их «радениях» были полны радости и ликования.
Первые адепты «огненного крещения» были найдены в доме алексинского фабриканта Лучинина. «Убелив» Лучинина, «христос» и «предтеча» «убелили» его фабричных крестьян, затем произошли «убеления» крестьян Тамбовской губернии, потом Тульской и Орловской. К этому времени Селиванов и Шилов были сосланы, но дело уже было поставлено прочно.
Слухи об оскоплении вызвали реакцию властей. Первое следствие было начато в 1772 г., но тогда Селиванову удалось скрыться. В 1775 г. Селиванов и Шилов были разысканы, подвергнуты телесному наказанию и сосланы. Шилов был отправлен в Ригу, где продолжал проповедовать и вскоре за оскопление солдат был переведен в Динамюндскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость, где и умер в 1800 г. Селиванов был сослан в Нерчинск, но по неизвестной причине дошел только до Иркутска и там поселился.
Несмотря на арест лидеров учение скопцов продолжало распространяться. В 1800 г., кроме Орловской, Тамбовской и Тульской губернии, где оно существовало ранее, скопчество появилось в Курской и Калужской губерниях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и окрестных селах. Сам Селиванов пропагандировал свое учение в Иркутске. Членами секты был разработан план по его возвращению из ссылки, однако побег тогда не удался.
Селиванов вернулся из Сибири только в 1795 г. Он появился в Москве, где объявил себя не только искупителем, но и царем Петром III. По прошествии некоторого времени был схвачен и отправлен в Санкт-Петербург. Существует легенда встречи Селиванова с Павлом I и о состоявшемся при этом разговоре. Павел I будто спросил: «Ты мой отец?», на что Селиванов ответил: «Я греху не отец; прими мое дело (т.е. оскопись), и я признаю тебя своим сыном»[204 - Синявский А. Д. Иван-дурак. Очерки русской культуры. Париж, Синтаксис, 1991, стр. 409.]. По распоряжению Павла I Селиванова поместили в Обуховский сумасшедший дом. В 1802 г. он был выпущен оттуда и определен в богадельню при Смольном монастыре.
Союзы скопцов, как и хлыстовские, назывались «кораблями». Скопческий корабль был общежитием, в котором жили скопцы, участвующие в «деле» кормщика корабля. Одновременно они были и членами общины, и рабочими в предприятии. Кормщик корабля являлся его абсолютным владыкой, никаких выборов, как в хлыстовщине, не было. В звании кормщиков Селиванов обычно утверждал основателей кораблей, т. е. богатых местных купцов. Центром всех кораблей стал Санкт-Петербург, где с начала XIX в. поселился возвращенный из ссылки Селиванов. Благодаря своей организации, скопчество сделалось таким же крупным биржевым и торговым союзом, каким был Рогожский союз, первый дирижировался из Санкт-Петербурга, второй – из Москвы.
Положение, достигнутое скопчеством, определило и всю его идеологию. Первоначально очень простой аскетический момент отошел на второй план, и выдвинулись стремления обнять скопческой идеологией весь процесс мировой жизни. Для этого нужно было создать книжное толкование и изложение основных идей, т.е. «от писания», и скопчество создало свою ученую литературу. По воззрению скопчество опирается на акт творения и ведет свое начало от первых дней мира. Первые люди были сотворены бесполыми, и только когда они нарушили в раю заповедь Божию, у них появились половые органы и половое влечение, положившее конец их первобытному блаженству. В этом и заключался первородный грех, от которого Иисус пришел искупить человечество. Искупление есть оскопление, сам Иисус и апостолы были скопцами, они крестили людей «духом святым и огнем». Уже после вознесения Иисуса «леность» опять стала поедать мир, и скопцами были только отдельные святые люди, как, например, Николай Чудотворец. Поэтому понадобилось второе пришествие Христа «в славе», для окончательного установления «искупления». Этот христос и есть Кондратий Селиванов, и он не кто иной, как император Пётр III, родившийся от пренепорочной девы Елизаветы Петровны. Процарствовав два года и получив благовещение о рождение от нее христа Селиванова, она ушла к людям под именем Акулины Ивановны, передав бразды правления любимой фрейлине. Родив Петра Селиванова, отправила его на воспитание в Голштинию, где он сделался «белым голубем». Когда он вернулся в Санкт-Петербург и женился, то Екатерина узнала, что он «убелен», возненавидела его и хотела убить, но он спасся, обменявшись платьем с караульным солдатом, которого убили и похоронили вместо него. Убежав, «Пётр» принял имя Кондратия Селиванова, проповедовал оскопление, был за это бит батогами и сослан. Когда на престол вступил его «сын» Павел, то он, узнав о действительном звании Селиванова, возвратил его из ссылки, но сам не хотел «убеляться». Тогда Кондратий проклял его: «о земная клеветина, вечером твоя кончина» и отдал «весь трон и дворцы» «кроткому» царю Александру[205 - Никольский Н. М. История русской церкви. Москва, Аст, 2004, стр. 424—425.]. Далее история завершается изображением конца мира и суда над ним. Богатое событиями начало XIX в. дало благодатную для этого почву. Антихристом был объявлен Наполеон, вечный враг России и Англии, разорявший своей политикой русских дворян и купцов. Родился он от ненавистницы Петра III Екатерины II; хитростью и лукавством достиг престола и заставил служить себе все народы земные. Но с помощью христа-Кондратия Александр победит его, и тогда произойдет страшный суд. Когда же число обратившихся в скопчество достигнет 144.000, Селиванов на облаках явится в Москву, соберет звоном в царь-колокол всех скопцов, живых и мертвых, и вместе с ними отправится в Санкт-Петербург, где и произойдет страшный суд. Все народы должны будут уверовать в его учение, а все цари сложить к ногам его свои короны. Кто откажется уверовать, пойдет в муку вечную; скопцам же Кондратий отдаст всю землю во владение, сам же он вознесется на седьмое небо и будет там царить над всем миром.
В изображении скоптического христа в образе императора, земного царя и бога скопцы проявляют интерес к текущим политическим событиям. Любопытны их попытки взять в свои руки руководство государственными делами. В числе «убелившихся» были некоторые представители чиновного с.-петербургского мира, в том числе камергер Елянский. В 1804 г. он представил царю проект переустройства России, рекомендовавший государству подчиниться «церкви таинственной, управляемой святым духом». По нему все руководство государственного управления (в том числе и армии) должно было перейти к скопцам, а при императоре должен состоять сам Селиванов, который есть «вся сила пророков», он «все тайные советы по воле премудрости небесной будет опробовать и нам благословение и покровы небесные будет посылать»[206 - Там же, стр. 427.]. Правительство, конечно, не вняло этому совету, Елянский был объявлен сумасшедшим и заключен в суздальскую монастырскую тюрьму.
Либеральное начало правления Александра I было благоприятным временем для скопчества, которое сами скопцы называли «золотым веком». Радения совершались практически легально, с большой торжественностью. Но закончилась свободная жизнь «христа» Селиванова после того, как с.-петербургский генерал-губернатор граф Милорадович в 1819 г. узнал, что в секту скопцов попали его два племянника, и что уже оскоплены несколько нижних гвардейских чинов и несколько матросов. Доложили императору. Первоначально Селиванову последовали со стороны властей извещения, которые ни к чему не привели, и в июне 1820 г. трое главных пропагандистов скопчества были сосланы в Соловецкий монастырь. Сам Селиванов был отправлен в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, где он пробыл до своей смерти в 1832 г. Впрочем, содержался он там достаточно свободно. Монастырь посещали скопцы из разных концов России и увозили оттуда волосы и остатки хлеба, полученные от Селиванова, которые почитались как высочайшая святыня.
Активную деятельность развивал орден иезуитов. При Александре I число живущих в России иезуитов увеличилось почти вдвое. Члены знатных фамилий – Голицыны, Разумовские, Завадовские, Гагарины, Толстые и др. переходили в католичество, как раньше отдавали детей в пансионы, содержимые французами, так при Александре I в моду вошло отдавать детей в пансион аббата Николя, и в иезуитский благородный пансион.
В 1812 г. в России развернуло свою деятельность Библейское общество, являющееся практически филиалом Британского библейского общества. В первые годы своей деятельности Александр I покровительствовал Библейскому обществу, пожертвовал ему 25 тыс. рублей, подарил дом в Санкт-Петербурге и делал ежегодный взнос в 10 тыс. рублей. Во главе Библейского общества в России находился обер-прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын. Против Библейского общества выступил влиятельный при дворе архимандрит Фотий, поддержанный Аракчеевым (противник Голицына). После чего деятельность Библейского общества была прекращена в 1824 г. (официально в 1826г.) В 1817 г. Министерство народного просвещения преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения, во главе которого был поставлен А. Н. Голицын. После закрытия деятельности Библейского общества Министерство духовных дел и народного просвещения было преобразовано в прежнее Министерство народного просвещения, Голицын уволен с постов министра и обер-прокурора Синода.
Влияние Аракчеева на государственные дела продолжалось все царствование императора Александра I. Особенно он был могущественным в период с 1815 по 1825 гг. Являясь единственным докладчиком царю по всем текущим вопросам, тем не менее, Аракчеев оставался лишь добросовестным исполнителем воли царя и его самых сокровенных замыслов. Аракчеев представляется в образе бескорыстного государственного труженика, «без лести предан». Имея орден Александра Невского он отказался от пожалованных ему других орденов: в 1807 г. от ордена св. Владимира и в 1808 г. от ордена св. апостола Андрея Первозванного и только оставил себе на память рескрипт на орден Андрея Первозванного. Удостоившись пожалованием портрета государя, украшенного бриллиантами, Алексей Андреевич бриллианты возвратил, а сам портрет оставил.
Существует известие, что будто бы император Александр I пожаловал мать Аракчеева статс-дамою и Алексей Андреевич отказался от этой милости. «Ты ничего не хочешь от меня принять!» – с неудовольствием сказал государь. «Я доволен благословением Вашего Императорскаго Величества, – ответил Аракчеев, – но умоляю не жаловать родительницу мою Статс-Дамою: она всю жизнь свою провела в деревне; если явится сюда: то обратит на себя насмешки Придворных Дам, а для уединенной жизни не имеет надобности в этом украшении»[207 - Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопямятных людей русской земли… В пяти частях. Часть I. Москва, тип. Августа Семека, 1836, стр. 377. «Пересказывая о том событии приближенным, Граф Алексей Андреевич прибавил: – „Только однажды в жизни, и именно в сем случае, провинился я против родительницы, скрыв от нея, что Государь жаловал ей портрет. Она прогневалась-бы на меня, узнав, что я лишил ея сего отличия“» (С. 377).].
Поскольку государство начинало все явственней следовать (или, по крайней мере, культивировать) идеям мистиков-фантастов в наведении идеального порядка приказного типа в благоустройстве общежития, Аракчеев приложил все усилия, чтобы в его имении эту идеальность уже воплотилось в действительность. Поэтому его имение Грузино приняло вид идеализированной правильности.
Само Грузино было обустроено по проектам лучших архитекторов и художников того времени. Достопримечательностью Грузино стала построенная в 1805—1806 гг. соборная церковь во имя святого Апостола Андрея Первозванного. Крестьянские избы были снесены, вместо них вдоль идеально прямых улиц выстроились каменные дома. В центре Грузино находилась великолепная барская усадьба с обширным парком. Во избежание грязи на улицах крестьянам запрещалось держать свиней, издано положение о метелках для подметания улиц, о занавесках на кроватях, об окраске крыш, об обязанностях каждого члена крестьянской семьи и т. п. Аракчеев платил за своих крестьян государственные подати, устроил в имении банк и лазарет, нанял доктора для регулярного посещения крестьян. 1 января ежегодно Аракчееву представляли списки неженатых и незамужних, и делались пометы, кого на ком женить. Каждую субботу крепостные собирались на площади и зачитывали им новые инструкции барина – с указанием, сколько плетей причитается провинившимся.
Несмотря на благоустройство быта, крестьяне были недовольны приказным нововведениям, входящие во все мелочные устройства их жизни. Недовольство усилилось царившей в Грузине любовнице Аракчеева, приобретенной крепостной Настасьи Минкиной. По ее доносам секли тех, кто пьянствовал, ленился, пропускал церковные службы или притворялся больным. Самых злостных сажали в «эдикуль», домашнюю тюрьму – сырой холодный подвал.
Аракчеев достиг вершины власти. Через его руки проходили все важные государственные документы, все назначения на чиновничьи посты. Влияние его на царя было огромным. Александр говорил о своем любимце в разговоре с адъютантом: «Ты не понимаешь, что такое для меня Аракчеев. Все, что делается дурного, он берет на себя; все хорошее приписывает мне»[208 - Кукурин И. В. Романовы. Москва, Молодая гвардия, 2012, стр. 369.]. Осенью 1825 г. император дал ему новое важное поручение – расследовать доносы на тайное общество и арестовать дворян-заговорщиков. Но как раз в это время устав терпеть издевательства Настасьи, графские слуги скинулись и за 500 рублей подговорили повара Василия Антонова убить ненавистную фаворитку. Утром 10 сентября Василий забрался в барский дом и привел заговор в исполнение.
Аракчеев в бешенстве прискакал в Грузино. Повара засекли до смерти, зачинщиков отправили на каторгу. А в вещах Настасьи Аракчеев обнаружил записочки, которые та писала молодым офицерам. Пока граф занимался расследованием, пришло известие о кончине императора в Таганроге. Утрата двух самых близких людей сильно ударило Аракчеева по моральному состоянию.
До самой смерти Александра I Аракчеев не возвращался к делам, ссылаясь на случившееся с ним «нещастию и тяжкому расстройству моего здоровья»[209 - Томсинов В. А. Временещик. Исторический портрет А. А. Аракчеева. Издание 3. Москва, Зерцало-М, 2013, стр. 397.]. Это не помешало ему 30 ноября, по принесении присяги императору Константину, донести последнему, что «получа облегчение от болезни», он «вступил в командование Отдельным Корпусом военных поселений»[210 - Там же, стр. 405—406.]. Однако Аракчеев понимал, что с новым императорм у него не будет таких доверительных взаимоотношений, какие были с прежним государем. Поэтому он решил уйти с государственной службы. 20 декабря 1825 г. последовало увольнение Аракчеева от заведывания делами Кабинета министров, сохраняя за ним звание члена Государственного совета.
Аракчеев отправился путешествовать за границу, там издал собрание писем к нему Александра I. По возвращении из-за границы жил в Грузине, где устроил себе настоящий культ Александра I: соорудил перед церковью бронзовый памятник Александру I, заказал за границей часы с его бюстом, с музыкой, которая играет раз в день, в 11 часов дня (время, когда Александр скончался), молитву «Со святыми упокой».
Скончался он 21 апреля 1834 г. и был похоронен в церкви Грузина. Незадолго до смерти Аракчеев внес в казну 300 тыс. рублей. На проценты с них должны были постоянно учиться 17 воспитанников Новгородского кадетского корпуса из Новгородской и Тверской губернии. После смерти Аракчеева, поскольку он не внес в завещание имени наследника, Николай I, особым указом передал Грузино, а также и деньги, вырученные от продажи принадлежавших Аракчееву недвижимого и движимого имущества с аукциона, в распоряжение Новгородского кадетского корпуса, который стал именоваться Аракчеевским. Сюда же была передана значительная часть богатейшей библиотеки Аракчеева, составляющей 15 тыс. томов, в том числе на иностранных языках, и его архивы.
Для предотвращения революционных событий, оснорвываясь на опыте французской революции, Александр I еще в 1804 г. посылал своего друга Новосельцева в Англию с инструкцией, в которой начертал идею заключения между европейскими государствами общего мирного договора и создания Лиги народов, предлагал вести «Кодекс международного права», по которому страны взяли бы на себя обязательства не начинать войны, не исчерпав всех мирных средств, представленных посредниками. Основная видимая идея этого Права заключалось в сохранении мира в Европе, невидимая – сохранения монархической Европы (со всеми отсюда вытекающими последствиями, как помощи друг другу и т.п.) Вместе с тем, предлагая континентальный союз, как его основатель, Александр I вправе мог рассчитывать занять в союзе главенствующее положение, а уже затем через союз проводить политику в Европе умеренных либеральных взглядов, т.е. оправдать свое предназначение мессианства – стать как бы освободителем от «угнетения во всей Европе». Но, на тот момент времени эта, даже видимая сторона идеи вызвала недоверие и усмешку в большинстве европейских столицах. Теперь же, после десятилетия наполеоновского нашествия по Европе, когда Александр I вернулся к этой идеи, отношение к союзу в Европе в корни изменилось.
Принятый венский мир был не прочным. Под прикрытием французской угрозы в Европе возникла политическая система одних держав явно притесняющие других: Франция, возвращенная к границам 1792 г., униженная после стольких лет безмерного величия, подвергнутая международному надзору, остается не примеренной и непримиримой; Англия, остановив морское и колониальное развитие Франции, переходит к повсеместному расширению сферы своей империалистической политики, что неизбежно должно было столкнуть ее на востоке с Россией; Австрия, установив свою гегемонию в Германии, входит в конфликт с Пруссией, утвердившись в Италии, она обращает против себя итальянский патриотизм; в славянском и турецком вопросах для нее неминуемые столкновения с русской политикой; Пруссия, восстановленная, но географически и стратегически разорвана на две части, возвращается к своей традиционной германской политике, объединительной и противоавстрийской; Россия, разрешив польский вопрос, открыла на конгрессе свою игру, отказавшись гарантировать неприкосновенность Пруссии.
Для сохранения стабильности в Европе требовалась объединяющая идея, которую вновь и предложил Европе Александр I, лишь уже с совершенно открытым текстом защиты монархических устоев. Уже 12 мая в докладе секретаря конгресса Гентца было сформулировано основное положение будущего Союза: «союзники признают общественную свободу Франции, но настолько, насколько она совместима с их безопасностью и общим спокойствием Европы»[211 - Три века. Россия от Смуты до нашего времени. В шести томах. Том V. Репринтное издание. Под ред. В. В. Калаша. Сост. А. М. Мартышкин, А. Г. Свиридов. Москва, ГИС, 1994, стр. 232.]. После чего, Александр I составляет декларацию, предоставив ее 14 сентября 1815 г. королю Прусскому (Фридриху-Вильгельму III) и императору Австрийскому (Францу I). Сквозь мистическое содержание этого документа, полагающего правила веры в основу управления государствами и догмат Божественного водительства в обосновании монархической власти, ясно просвечивает призыв от трех абсолютных государей, ко всем монархам Европы объединяться «во всех случаях и во всяком месте»[212 - Там же, стр. 233.], для защиты Богом данный абсолютизм (соответственно от народного движения). Декларация прямо династического характера. Кроме Английского принца-регента, не пожелавшего формально связывать себя этим договором, и Турецкого султана (не христианские державы исключились из европейской политической семьи), все монархи Европы присоединились к «Священному Союзу». Ближайшим приложением этой декларации появился, как все понимали, акт надзора за Францией, восстановление ее законной монархии.
Задача у Александра I была одна: возникший после войны «Священный союз» должен был заменить противонаполеоновскую коалицию с таким условием, как можно больше включить в себя членов Европейских держав, с правом главенствования России, как одного из самых сильных континентальных государств, несущее модные либеральные идеи и выступающие за старые монархические устои, и с правом вмешательства во внутренние дела государства по общему совету, являющегося членом «Священного Союза», без согласия на то последней. Главной целью Священного союза являлось сохранение установленной Венским конгрессом системы новых государственных границ, укрепление прежних династий, подавление революционных и национально-освободительных движений.
Сам Александр I, имея чисто монархические взгляды, использовал через Священный союз либеральные идеи в Европе, как исполнитель своей мессианской роли, он набирал политический вес, он был горд и мечтал быть самым первым, и теперь, после Наполеона (который освобождал народ от гнета), он удвоил свою энергию по распространению идеи равенства и свободы, благо, что почва после Наполеоновского нашествия (которое морально закрепощало народ перед оккупантами) была вполне благоприятной. Александр I настоял, чтобы Франции была дана конституционная хартия; в ноябре 1816 г. ввел, согласно Венскому договору, подобие национального конституционного устройства в русской Польше, тогда как Прусский король и Австрийский император от этого уклонились, поддерживал агитацию равенства всех в Германии и Италии; поощрял революционные движения славян и греков против султана, и вообще был разработчиком множества других вариантов большего единения, большей продуктивности всего европейского сообщества.
Для принятия мер против нарастающего революционного движения в европейских странах периодически созывались конгрессы Священного союза. В 1818 г. в немецком городе Аахене было решено вывести оккупационные войска из Франции, поскольку она сама входила в Священный союз. В конце 1820 начале 1821 г. в г. Троппау (ныне Опава) на территории Австрии и Лайбахе (ныне Любляна) проходил второй конгресс, в обстановке полыхавших революций в Португалии, Испании, Неаполе и Пьемонте. Конгресс принял решение о «праве» вмешательства во внутренние дела других государств с целью ликвидации возникших у них революций, дал санкцию Австрии на ввод войск в Неаполь и Пьемонт. В 1822 г. в итальянском городе Вероне состоялся третий конгресс, санкционирующий ввод в 1823 г. французских сил в Испанию для подавления там революции. Однако, как и Венскому конгрессу, так и Священному союзу не удалось ни восстановить в полной мере прежние монархические порядки в Европе, ни предотвратить периодически вспыхивавшие в течение всей первой половины XIX в. революции.
Жизнь Священного союза продержалась, более-менее, до кончины Александра I, каждое государство старалось действовать исключительно в своих интересах, сводя свое присутствие в Союзе игрою на интригах, поскольку никто не желал усиления любой стороны, тем более России. Кончиной союза послужил греческий вопрос. Греки, бывшие под Турцией, в феврале 1821 г. восстали. Из дунайских княжеств турки выгнали повстанцев и свирепствовали там так, что вызвали взрыв возмущения во всех странах. Под предлогом борьбы с греческой контрабандой Порта закрыла черноморские проливы для русских судов, что сильно ударило по интересам русских помещиков.
Александр I колебался, он обязан был добиться свободы навигации через проливы, а также, воспользовавшись греческими событиями должен был укрепить влияние России в этом регионе, с одной стороны. С другой – приверженец принципов Священного союза он должен был рассматривать восставших греков, как «мятежников» против «законного» монарха. При русском дворе возникли две группировки: первая за помощь грекам, за укрепление позиций России на Балканах, вторая – против какой-либо помощи из-за опасения обострения отношений с другими европейскими державами. Сам Александр I жертвовал интересами России ради укрепления Священного союза и принципов «легитимизма». На Веронском конгрессе Священный союза в 1822 г. Александр I подписал совместную с Австрией, Пруссией, Англией и Францией декларацию, которая обязывала восставших греков подчиниться власти султана, а самого султана – не мстить грекам. В 1824 г. в связи с продолжавшейся резней греков Александр I вновь попытался объединить усилия стран Европы для воздействия на султана. Однако вызванные в Санкт-Петербург представители европейских держав отказались от предложения царя, заявив, что «греки хотя и христиане, но бунтовщики против законного государя»[213 - Андреев И. Л., Федоров В. А., Павленко Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года. Под ред. Н. И. Павленко. Издание третье. Москва, Высшая школа, 2004, стр. 470.]. Более того, по истечении времени в игре политический интриг Россия оказалась в положении из главного освободителя в положении чуть ли не главного противника освободительного движения на Балканском полуострове.
После долгих переговоров и, не добившись ничего, осенью на представлении Меттерниха (Австрия) Александр I с открытой враждебностью заявил, что намерен сам вести свою восточную политику. В сентябре он уехал на юг, русские войска стягивались к Пруту. Тем временем, Англия решила греческий вопрос по своему, пригрозив Мехмеду-Али своим вмешательством. Возник вопрос о замещении Греческого престола, сразу принявший для России неприятный оборот. Тогда Александр I предложил Англии посредничество в греко-турецком вопросе. Но английский посол Каннинг, полагая, что цель царя скомпрометировать Англию на Востоке, отказался и заявил, что, если русские войска перейдут через Прут, английский флот займет Морею и острова Архипелага. События опять стали принимать грозный оборот для Европы. Однако 19 ноября Александр I внезапно скончался.
Финансовая политика правительства Александра I носила характер заимствования финансовой политики его предшественников, Екатерины II и Павла I. Оставшийся против них огромный бюджетный дефицит, расходы на войну с Наполеоном, правительство пыталось заполнить внутренними займами, субсидиями от Англии, и огромным выпуском ассигнаций, что привело к падению их стоимости (инфляции), приведшее к повышению налогов, в первую очередь тяжело ударившее по низшим слоям сословия.
Значительным изменением подверглась в правлении императора Александра I банковское дело, а с ним и кредитные учреждения. В это время начинают появляться частные общественные городские банки. Первый банк возник в Вологде в 1788 г., позднее городские общественные банки были учреждены в г. Слободском Вятской губернии (1809 г.) в г. Осташкове Тверской губернии (1818 г.) Деятельность этих банков носила местный характер. Каждый из них руководствовался собственным уставом, предусматривавшим, как правило, предоставление кредита купцам, мещанам и цеховым мастерам, проживающим в данном городе. Для установления единства между всеми кредитными организациями 7 мая 1817 г. было образовано особое учреждение «Совет государственных кредитных установлений», заведовавшее всеми кредитными постановлениями.
Правление Александра I отмечено в истории банковского дела развитием учетных контор, их распространением по стране. Но в связи с ничтожным развитием вексельного оборота и отсутствием достаточных средств они не оказали существенного влияния на торговлю и промышленность тогдашней России. Вместо них в 1817 г. был открыт государственный коммерческий банк, который просуществовал до 1860 г., когда был реорганизован в первый в России Государственный банк. Учреждение коммерческого банка было одной из мер, направленных на оздоровление кредитных учреждений, положение которых оказалось подорвано чрезмерными выпусками ассигнаций, выдачами долгосрочных ссуд из бессрочных вкладов и секретными заимствованиями на нужды правительства. Банку были предоставлены определенные привилегии, в частности, капитал и вклады не облагались налогами и не использовались для финансирования государственных расходов. Государство сохраняло определенный контроль над банком путем назначения половины директоров и утверждало решение правления банка, касающихся активных операций. С 1818 г. по 1821 г. банком были открыты шесть отделений в крупных городах (Москва, Одесса, Рига, Н. Новгород, Архангельск и Астрахань); в период 1833—1852 гг. – еще шесть отделений (Киев, Харьков, Екатеринбург, Ирбит, Рыбинск, Полтава). Банк привлекал высоким процентом. Однако излишняя централизация и регламентация деятельности затрудняли проведение вексельных операций и кредитование под товары, что не позволяло эффективно использовать привлеченные средства. Кроме того, оказалось, что дисконт казенного коммерческого банка был в некотором случае дороже частного, что не могло не отталкивать от банка клиентуру.
Национальный подъем народа после войны с Наполеоном быстро обернулся буднями старой жизни, старыми налогами, повинностями, порой ужесточенными требованиями со стороны хозяев. Надежды крестьян на то, что царь наградит их за патриотизм, не оправдались. В манифесте Александра I от 30 августа 1814 г., который одаривая все сословия различными милостями, о крестьянах было сказано буквально следующее: «Крестьяне, верный Наш народ, да получат мзду [воздаяние] свою от Бога»[214 - ПСЗРИ. Т. 32. №25.671. С. 908. «Почтенное мещанство и крестьяне, которые трудолюбием своим извлекают из земли первоначальную для всех пищу, из среды коихъ исходит воин на защиту Отечества, и которые в самое грозное время самолютейшей войны показали дух православия, верности и мужества, едва ли когда имевший пример в бытописаниях; крестьяне, верный НАШ народ, да получит мзду свою от Бога. МЫ же в отраду понесенных ими трудов и претерпений, извещаем, что как войски НАШИ из запасов достаточно пополнены, так, что состоят ныне в сугубом против того числе людей, в каком состояли при начале войны; то не токмо на нынешней год, но уповательно и на предбудущий или более останутся они без набора рекрут. Между тем МЫ предполагаем и ожидаем несомненно, что они в наставшее после жестокой брани мирное и спокойное время, пребывая верны долгу и званию своему, умножат прилежание свое к сельским трудам и ремесленным промыслам, и тем исправят нанесенныя неприятелем разорения. Господи! Молю Тя, да сбудутся с ними словеса Пророка Твоего Давида: „Бразды Твоя упоятся и жита Твоя умножатся; поля Твоя исполнятся тука, овцы будут многоплодны и волове Твои толсти; удолия умножат пшеницу, пустыни возвеселятся и холмы радостию препояшутся“. Тако да взыщет их милость Твоя. Со стороны же человеческаго попечения в удовлетворение всякой нужде и недостатку их, Правительство о казенных крестьянах приложит старание доставлять им всевозможныя пособия; чтож принадлежит до помещичьих крестьян, то МЫ уверены, что забота НАША о их благосостоянии предупредится попечением о них господ их. Существующая издавна между ими, Руским нравам и добродетелям свойственная связь, прежде и ныне многими опытами взаимнаго их друг к другу усердия и общей к Отечеству любви ознаменованная, не оставляет в НАСЪ ни малаго сомнения, что с одной стороны помещики отеческою о них, яко о чадах своих заботою; а с другой они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга, приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравныя и благополучныя семейства» (С. 907—908).]. В крестьянских селениях происходят многочисленные волнения. Порой этому способствовало то, что Александр подолгу не мог решить элементарных вопросов; различные рассуждения принимали затяжной характер, поскольку император большее время находился в разъездах, тогда острили даже, что государь управляет Россией из почтовой коляски. Так, например, в 1816 г. открылось (по случаю перехода одной волости под военные поселения), что, вопреки убеждению государя и правительства, никаких продовольственных запасов нет. Пока решали, как поставить продовольственное дело, собирать ли запасы натурой или деньгами, в 1820 г. открылся голод, сначала в Черниговской губернии, в 1821 г. голодало уже 15 губерний. Большинство помещиков отказывалось прокармливать своих крестьян. Люди едва держались на ногах, многие умирали.
В крестьянской среде снова появилось неповиновение властям, уклонение от уплаты налогов и исполнения повинностей и такой старый испытанный способ избегнуть нажима со стороны владельцев, как бегство. Бежали как в старину, в донские степи, в Приазовье. Но и туда добрались цепкие руки карателей. Кроме того, бывшие прежде вольными, эти земли еще при Павле I попадали в орбиту закрепощения, что с возмущением воспринималось местным, свободным доселе, крестьянством. Как писали в одной из петиций на имя царя местные жители, они считали себя вполне законопослушными жителями страны, но наступление крепостных порядков на новых землях, особенно после очищающей патриотической грозы 1812 г., не принимали: «Мы Богу и государю повинуемся и казенным властям, но слушать помещиков и работать на них панщину не хотим и не будем…»[215 - История России. С древнейших времен до наших дней. История в одном томе. А. Н. Боханов Л. Е. Морозова, М. А. Рахматуллин, А. Н. Сахаров, В. А. Шестаков. Под ред. А. Н. Сахарова. Москва, АСТ, 2023, стр. 974.] Десятки тысяч крестьян включились в это движение не повиновения, и лишь сильные воинские команды навели в крае порядок.
За первую четверть XIX в. в России вспыхнуло больше 650 крестьянских волнений, причем
/
из них – за 1815—1825 гг. Формы крестьянского протеста были разные – от верноподданнических жалоб царю, которого крестьяне с этой целью буквально «ловили» на дорогах империи, до вооруженных восстаний.
Ряд волнений носил затяжной и чрезвычайно упорный характер. Три года – с 1816 по 1819-й – боролись крестьяне 20 деревень Костромской губернии, принадлежавших помещице Наталье Фёдоровне Грибоедовой (матери писателя), которая по характеру была сродни «рабовладелице» Хлестовой и грибоедовского «Горе от ума». Купив костромские деревни, Грибоедова обложила крестьян оброком втрое большим, чем при прежних владельцах. Крестьяне возмутились, попытались было жаловаться, а затем подняли бунт: достали 300 ружей, даже еще одну пушку и вступили в бой с карательными войсками. Бунт был подавлен в крови.
Особенно крупными были волнения на Украине и в области Войска Донского 1819—1820 гг. с участием 45 тыс. крестьян. Против них Аракчеев направил регулярные войска с артиллерией. Командовал ими генерал-адъютант А. И. Чернышев – будущий военный министр. Он подавил волнения с чисто аракчеевской жестокостью, после чего сам Аракчеев приехал на Дон чинить суд над четырьмя сотнями «зачинщиков». По его приказу больше 200 крестьян были биты кнутами (иные из них насмерть) и почти столько же сосланы на каторгу и поселение в Сибирь.
Кроме неповиновения крестьянства в это время возобновились волнения и среди рабочих. Взбунтовались рабочие новгородской парусной мануфактуры. В 20-е годы постоянными стали волнения на металлургических заводах Демидовых на Урале, на пермских предприятиях. Наконец, и это стало небывалым в тогдашней России, в 1820 г. взбунтовался гвардейский Семеновский полк из-за унизительного обращения с ним полковника Шварца.
Двадцатичетырехлетнее правление Александра I сопровождалось многочисленными путешествиями. Вступив на престол, император на протяжении «четверти века почти ежегодно предпринимал длительные вояжи […] Он исколесил Россию от Архангельска на севере до Севастополя на юге и Златоуста на востоке. Западные ее пределы – со шпагой ли военачальника, с портфелем дипломата – он множество раз пересекал во время зарубежных поездок»[216 - Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу. Сб. статей / Отв. ред. М. В. Лескинен, О. В. Хаванова. Москва – Санкт-Петербург, Нестор-История, 2016, стр. 49.] (Файбисович В. М.) Необходимость совершения венценосным правителем поездок в пределах огромной страны была вызвана рядом причин, в числе которых было желание ознакомиться с состоянием дел в Москве, российской глубинке и во вновь присоединенных территориях – Бессарабии, Польше и Финляндии с тем, чтобы «ускорить своим присутствием исполнение сделанных распоряжений»[217 - Там же, стр. 49.]. Обязательной частью путешествий было общение с народом, посещение храмов и больниц, участие в церемониях по закладке храмов и открытию памятников.
Однако эти путешествия несли в себе и риск для жизни императора, о чем сообщал в своих письмах генерал-адъютант князь П. М. Волконский, неизменный спутник царя во многих поездках. В ноябре 1818 г. перед отъездом из Ахена в Брюссель был раскрыт заговор, организованный французскими офицерами, «изгнанными из страны», которые намеревались арестовать царя и, «приставя пистолет ко лбу, заставить Государя подписать декларацию в пользу Бонапарте и его сына»[218 - Там же, стр. 50.]. Были приняты меры по обеспечению безопасности проезда императора и «так сокрыты были удачно», что государь не догадывался о них на всем пути в Брюссель и обратно. Двумя годами позже в поездке из Троппау в Вену в декабре 1820 г. «чуть было в самых воротах городских с моста нас не опрокинули, сам Бог спас, коляска ударилась о ворота и была отброшена в другую сторону, и не понимаю как не упала»[219 - Сборник Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Т. 73. 1890. СПб. Бумаги графа Арсения Андреевича Закревскаго. С. 34.]. Возмущенный неосторожной ездой немецких извозчиков[220 - «Не знаю что и делать с немцами, так глупы, что способу нет, как хочешь им толкуй ничего не понимают, и думают, что возя Российскаго Императора надобно скакать сломя голову» (С. 34).], он с опаской думал о предстоящей поездке из Вены в Лайбах, дорога в который была еще хуже, «и ужасно гористо, а от морозов и снега очень скользят экипажи, отчего легко можно быть в канаве»[221 - Там же, стр. 34.].
Длительные поездки, требовавшие от Александра и его окружения хорошей физической подготовки, заканчивались иногда трехчасовым ночлегом, а затем путешественники вновь отправлялись в путь. «Ночь в дороге император проводил по-спартански – на походной кровати, на жестком сафьяновом матраце, который набивался сеном»[222 - Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу. Сб. статей / Отв. ред. М. В. Лескинен, О. В. Хаванова. Москва – Санкт-Петербург, Нестор-История, 2016, стр. 51.] (Файбисович В. М.) В осеннюю погоду добирались нередко по размытым дорогам, зимой на санях. При этом монарх «предпочитал открытые экипажи, хотя зимой это было чревато обморожением». В «студеном декабре 1812 года», выехав в город Вильно к армии, «император пять дней провел в открытых санях», за что, по его словам, «пришлось поплатиться кончиком носа»[223 - Там же, стр. 51.] (Файбисович В. М.) Метель и вьюга не пугали путешественников, если уже был намечен маршрут поездки. В конце ноября 1822 г. по дороге из Вероны в Россию в десятиградусный мороз около Падуи «государя застигла страшная вьюга, и мороз усилился до 16°. Писаря и экипажные служители до того перезябли, что некоторые поморизили пальцы на руках и ногах»[224 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том IV. СПб, А. С. Суворин, 1898, стр. 262.], но император проследовал дальше. «И только 20-го января 1823 г. прибыл на ночлег в Царское Село. Дорогою мороз доходил до 26° градусов, но, несмотря на стужу, государь все время ехал в открытых санях»[225 - Там же, стр. 266—267.].
После 1820 г. Александр I отходит от либеральных взглядов, что стало ответом на волнения в России и на политические потрясения 1820 г. в Западной Европе. В 1822 г. Александр I дал распоряжение на имя управляющего Министерством внутренних дел В. П. Кочубеем о запрещении тайных обществ и масонских лож и о взятии с военных и гражданских чинов подписки, что они не принадлежат и впредь не будут принадлежать к таковым организациям. В 1821—1823 гг. помимо секретной гражданской полиции вводится сеть тайной полиции в гвардии и в армии. Появились агенты, следившие за действиями самой тайной полиции, а также друг за другом. Следили за всеми высшими государственными лицами, в том числе и за Аракчеевым (имевший свою агентуру). Реакционная политика Александра I обозначается уже по всем направлениям: отменялись указы, изданные в начале своего царствования, теперь помещикам разрешалось вновь ссылать своих крестьян в Сибирь «за продерзостные поступки», крестьянам же запрещалось жаловаться на жестокость своих господ. Усилились гонения на просвещение и печать. Несмотря на то, что формально продолжал сохранять силу цензурный устав 1804 г., цензура беспощадно преследовала как любую всякую свободную мысль, так и те сочинения, которые по каким-либо мотивам оказались неугодными. Искоренять тенденции разложения было поручено бескомпромиссному Аракчееву, от чего реакционной внутриполитический курс самодержавия 1820—1825 гг. получил название аракчеевщиной. Ведя постоянную борьбу против коррупции, лени и разгильдяйства, что вызывало общее недовольство боярства и бюрократии, выполняя поручение императора по ужесточению внутреннего курса, являясь с 1822 г. фактически единственным докладчиком царю по всем вопросам, современники усматривали лишь в Аракчееве главное «зло» тех лет[226 - Песня об Аракчееве: «Бежит речка по песку – Во матушку во Москву; – Как на этой на реке – Плыло триста кораблев; – Как на каждом корабле – По пятисот молодцов. – Хорошо гребцы гребут, – Сами песеньки поют, – Разговоры говорят – Все Ракчеева бранят: – Ты, Ракчеев, ты Ракчеев, – Расканалья-дворянин, – Всю Россию разорил, – Солдат гладом поморил. – Трудовыя, харчевыя, – Трети жалованныя – Он не пропил, проиграл – Граф палаты себе склал – Белокаменныя, – Стены мраморныя» (Русская старина. 1887. Т. 53, №1. Записки Александра Михайловича Тургенева. СПб, стр. 76. Записано в 1820-х годах в с. Больших Полянах, Лукояновского уезда Нижегородской губернии).].
Царствование Александра I описывает П. Г. Дивов, тайный советник, сенатор: «Нет определеннаго плана, все делается в виде опыта, на пробу, все блуждает впотьмах; разрушено все, что было хорошаго и прекраснаго, и заменено пагубными новшествами, которыя зачастую оказываются черезчур сложны и совершенно неудобоисполнимы… Содержат миллион войска и дают унижать себя, и кому же? Туркам! А почему? – потому что боятся затронуть принцип лигитизма…»[227 - Шильдер Н. К. Император Николай Первый его жизнь и царствование. Том I. СПб, А. С. Суворина, 1903, стр. 296.]
Н. М. Карамзин так характеризовал Александра I: «Двадцать пять лет мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь ни тайной канцелярии, ни Сибири: скажем ему спасибо… Если он, как человек, не был лучше всех нас, то и мы вместе не лучше его. Кто умел так прощать и мстить за личные оскорбления?»[228 - Там же, стр. 297.]
Интересна точка зрения о правлении Александра I А. М. Тургенева: «Век Александра сначала был подобен благотворным лучам солнца, которые, при благорастворении воздуха весной, все в природе согревают, живят и оплодотворяют, но средина его века была темна, не ознаменовалась твердостью духа; непостоянство и малодушие, казалось, были сопровожденными его качества! Вдруг, неожиданно, к удивлению целаго света, после унизительнаго и постыднаго покорства, как бы пробужденный силою электризма от дремоты, Александр явил себя непоколебимым и решился быть или не быть! С помощью Божиею одолел притеснителя, свергнул иго рабства, тяготившее народы Европы, возстановил царей и царства, и впал попрежнему в дремоту и бездействие.
История – неумолимый судия событий – на странице (начала царствования Александра Павловича) сыщет еще к смягчению, к снисхождению относительно его личности достаточно основательных доказательств… Но став царем, судию посреди царей, Александр предался (апатии) и вверил правление обширнейшаго своего государства Аракчееву, человеку-невежде, дышащему злобою и ненавистию, котораго, кроме гнуснейших льстецов, никто терпеть не мог, не произносил без презрения имя его. Народ, да и во всех сословиях общества, Аракчеева называли змеем-горынычем! В извинении сего ни слов, ни доказательств не сыщется»[229 - Русская старина. 1885. Т. 48, №12. Записки Александра Михайловича Тургенева. СПб, стр. 480—481.]. В приведенном нелицемерном отзыве надо все расставить на свои места – народ Европы хотя и приветствовал восстановление старых порядков, но вскоре от них сам же и отказался, а аракчеевщина не было случайной ошибкой, но целенаправленной политикой Александра по наведению в стране примерного устройства. И то и другое, и для страны, и для Европы, оказалось буксованием на месте: много сил и надежд, а толку мало.
Последней четвертью правления исчерпывается вопрос о правительственном либерализме России начала XIX в. Ни по своей природе, ни по существу своих воззрений царь Александр никогда не был сколько-нибудь либералом, но когда надо, он в совершенстве владел всей шумихой либеральных фраз в целях общественного гипноза. Будучи убежденным самодержцем, совершенно не понимая и принципиально отрицая роль конституционного монарха, он тяготился ролью дворянского царя, вследствие чего и не был сторонником исключительного развития дворянских прав, и если бы мог, резко сузил бы таковые. Лишь время (пример Запада) диктовало необходимость поворота на путь следования курса либеральных преобразований, но страх быть свергнутым объяснял невозможность воплощения этих планов, а затормозившись на реформах вынужден был перейти к реакции, что бы утихомирить настроения вольности низов. Мистицизм Александра I и противоречия на этой почве всех его поступков, выбирая, то либерализм свободы, то возвращаясь к реакции, в виде принципов аскетизма православных монахов, только и объясняет его преклонение перед идеей величия самодержавия, для которого только и должны дышать не только страна и народ, но и вообще все страны, и все народы, и неуверенность царя в своей силе, быстро спасовавшая перед трудностями времени: в Александре было сильно развито чувство самосохранения, в котором присутствовали и боролись две стихии, – высокомерие и страх.
Мир Александра – это монастырь. Он говорит правильные слова, о свободе, равенстве, братстве, и даже о спасении, но его поступки в целом не носят адекватный характер: ни свободы, ни равенства, ни братства в монастыре «Александр» не наблюдается, да и сам игумен далек от проповедываемой т.н. чистоты веры – чистоты воздержания: как в обычном монастыре в душе Александра присутствует множество пороков – его неизменное желание, чтобы перед ним преклонялись, его множественные интимные связи на стороне. Исследователи утверждают, что жена Александра Елизавета Алексеевна, родила двух девочек (умерли в детстве), причем обеих от своих любовников, Адама Чарторыйского и Алексея Охотникова, а сам Александр имел 11 детей от любовниц. П. Н. Фредро, дочь мемуаристки Варвары Головиной, которая была приближенной к Елизавете, рассказывает, как Чарторыйский влюбился в 18 летнюю девушку, и они оба пытались сопротивляться своему чувству, а Александр же, наоборот, подначивал своего друга: «Упрекая великого князя в неверности жене, указывая ему на опасности, которыми тот окружил ее, он [Чарторыйский] слышал в ответ только скверные шуточки и советы не стесняться»[230 - Наше наследие. №59—60. 2001. П. Н. Фредро. «Ни разу мое сердце не раскрылось…» Отрывки из воспоминаний. Вступ. ст., послесл., пер. с фр. и публик. Е. П. Гречаной. С. 185.].
Оставив жену без внимания Александр утешался в объятиях других женщин, Софии Сергеевны Всеволожской, Марии Антоновны Нарышкиной, сделавшейся ему чуть ли не второй женой и родившая ему 5 детей, Маргарита Жозефина Веймер, Вероника Елена Раутенштраух, Варвара Ильинична Туркестанова, Мария Ивановна Катачарова и еще одна оставшаяся неизвестной.
В последнее время Александр все больше погружается в одиночество, путешествуя по стране и Европе, не находя в жизни личного счастья. Нареченный, впервые в истории, по рождению Благословенным, чувствуя на себе ожидание эпохи, взошедший на престол с клеймом отцеубийцы. Оказавшись в русской ловушке окружавшей среды, он стал заложником вечной российской ситуации – желания лучшего, следуя прежним путем порабощения: Александр I не хотел разменивать превозношение царской власти, на другом полюсе общественного устройства вылившееся в рабское крепостничество. Проторговавший жизнь лозунгами, которые ни к чему не привели, потративший много сил по поднятию престижа страны, закончившееся также безрезультативно, с разочарованием в семейной жизни и отношениями людьми как таковыми, в последние годы он впадал в глубокие депрессии. У него вновь появляется желание оставить престол, он все больше любил беседы с иноками-старцами.
На правление Александра I, пожалуй, наиболее верной представляется точка зрения Ю. Лотмана: «Один из самых талантливых актеров эпохи, он был наименее удачливым актером»[231 - Лотман М. Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- начала XIX века). СПб, Искусство – СПб, 1994, стр. 198. «Термины театра не случайно приходят здесь на ум историку. Не согласиться с ним можно лишь в одном: Александр разыгрывал не „шекспировскую драму“ – это был непрерывный „театр одного актера“. В каждом перевоплощении императора просвечивал тонкий расчет, но невозможно отрешиться от чувства, что сама способность менять маски доставляла ему, помимо всего, и „незаинтересованное“ удовлетворение. Наполеон проявил глубокую проницательность, назвав его „северным Тальма“. „Театр“ Александра I был тесно связан с его стилем решения политических проблем: он в принципе не отличал государственных интересов от своих личных и систематически трансформировал отношения политические в личные (в этом смысле, несмотря на мягкость характера Александра Павловича, он придерживался последовательно деспотической системы и был настоящим сыном своего отца). В области внешней политики это порождало тот стиль личной дипломатии, который Александр I сумел навязать европейским дворам и который позволил русскому императору одержать ряд дипломатических побед. Во внутренней политике это была ставка на личную преданность монарху, что выглядело в начале XX в. безнадежно архаически и обусловило конечный провал всей внутренней политики Александра Павловича. „Игра“ Александра I выпадала из стиля эпохи: романтизм требовал постоянной маски, которая как бы срасталась с личностью и становилась моделью ее поведения. Такой стиль построения личности воспринимался как величественный. „Протеизм“ Александра I воспринимался современниками как „лукавство“, отсутствие искренности. Глагол „надувать“ часто мелькает в оценках царя даже его близким окружением. Меняя маски, чтобы „пленить“ всех, Александр всех отталкивал. Один из самых талантливых актеров эпохи, он был наименее удачливым актером» (С. 197—198).]. Впрочем, эти слова можно приписать и к его учителю по лицемерию, Екатерины II.
Александр I скончался в Таганроге (куда царская чета приехала для лечения супруги) 19 ноября 1825 г. Будучи вполне здоровым его внезапная кончина в возрасте 47 лет породила легенду, будто Александр I из Таганрога тайно отбыл в Палестину, в Святые места, а затем уже виде странствующего старца, Фёдора Кузьмича, появился в России и умер в ореоле великой святости в возрасте 87 лет на далекой лесной заимке близ Томска. На рубеже XIX—XX вв. эта легенда нашла место и в исторических сочинениях популярного характера[232 - У Корфа есть сообщение о настроение у Александра уйти от власти: «Что же меня касается, я решил сложить с себя свои обязанности и удалиться от света. Европа более чем когда-либо нуждается в государях юных, полных энергии и сил; а я уже не тот, что был, и я считаю своим долгом удалиться вовремя. Я думаю, что и король прусский поступит так же и уступит свое место Фрицу. / Видя, что мы едва сдерживаем рыдания, он принялся утешать нас и уверять, что все это случится не тотчас же, что может быть годы пройдут, прежде чем он приведет свой план в исполнение» (14 декабря 1825 года и его истолкователи. (Герцен и Огарев против Корфа). Отв. ред. Е. Л. Рудницкая. Москва, Наука, 1994, стр. 420).].
На основании вскрытии тела, с точки зрения современной медицины, наиболее вероятным является предположение о том, что Александр I умер вследствие заражения одной из разновидностей крымской геморрагической лихорадки. Инкубационный период (времени от момента заражения до начала заболевания) этой болезни составляет от 2 до 7 суток. Все признаки этой болезни совпадают с изменениями состояния здоровья императора.
Высказываются и иные мнения о диагнозе болезни Александра I. Так, Ю. А. Молин приводит суждение президента ассоциации патологоанатомов Санкт-Петербурга профессора В. Л. Белянина о том, что «император в ходе своей поездки заболел острой инфекционной болезнью с септическим вариантом течения, на что указывает наличие лихорадки с обильным периодическим потоотделением, помрачением сознания, а также приступообразность симптоматики. Учитывая периодически возникающий понос, можно предположить, что имела место острая кишечная инфекция паратифозной группы или сальмонеллез, протекавший в брюшнотифозной форме»[233 - Нахапетов Б. А. Тайны врачей дома Романовых. Москва, Вече, 2005, стр. 67.].
Кроме того необходимо учитывать фактор психологического состояния Александра I, в его совершенном нежелании лечиться. Современный историк А. Н. Сахаров склонен видеть в этом влияние полученных императором известий о наличии заговора, который охватил многие армейские части. Он пишет: «Будучи уже тяжело больным, Александр постоянно возвращается к этим сведениям. Они тревожат его, буквально преследуют. Некоторые историки безошибочно полагали, что общее ухудшение состояния здоровья Александра после 8 ноября как раз и было вызвано последними сообщениями о действиях тайных обществ, главной целью которых стало его физическое устранение. Император стал чрезвычайно подозрителен, опасался отравления. Когда его личный врач Виллие предлагал ему лекарства, Александр отказывался их принимать, ссылаясь на то, что главная причина его недомогания – это расстройство нервов». «В настоящее время есть много причин тому и более, нежели когда-либо» – сказал он врачу. А сам Виллие записал в дневнике: «Уже с 8 ноября я замечаю, что занимает и смущает его ум что-то другое, чем мысль о выздоровлении». И будучи уже в бреду, Александр I твердил: «Чудовища! Неблагодарные»[234 - Там же, стр. 68.].
Тело Александра I доставили в Царское село 28 февраля 1826 г. На следующий день по просьбе императора Николая доктор Тарасов открывает гроб, поднимает слой ароматных трав, которыми покрыто тело, чистит мундир, меняет перчатки, протирает лицо, причесывает волосы покойного. После этого императорская семья, и только она, допускается к гробу для церемонии последнего прощания. Он очень изменился, практически неузнаваем, но императрица-мать, взглянув, восклицает: «Да, это мой дорогой сын, мой дорогой Александр! Ах, как он исхудал!»[235 - Анри Труайя. Александр I, или Северный Сфинкс. Пер. с фр. вступ. ст. и комен. Н. Т. Унанянц. Москва, Молодая гвардия, Студенческий меридиан, 1997, стр. 301.]
Из Царского Села гроб с телом императора торжественно перевезли в Санкт-Петербург. Бесконечная вереница генералов, высших сановников, священников, монахов под звуки похоронного марша направляется к Казанскому собору. В нефе устроено возвышение. Народу дозволено пройти перед катафалком, но, вопреки обычаю, гроб остается закрытым. Император Николай боится открыть взглядам подданных изменившееся лицо усопшего. Через шесть дней, 13 марта 1826 г. похоронное шествие провожает останки Александра из Казанского собора в собор Петропавловской крепости, где и произошло его захоронение. P.S.: Как оборотень в жизни Александр I в момент кончины изменился до неузнаваемости – знак свыше.
Ненадолго пережила своего мужа Елизавета Алексеевна, всего на полгода. Она умерла в Белёве, сопровождая гроб супруга из Таганрога в Санкт-Петербург и задержавшись там из-за болезни. Погребена она 21 июня 1826 г. рядом с Александром в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Возникшие после смерти императрицы слухи стали отождествлять Елизавету Алексеевну с затворницей Сыркова монастыря Верой Молчальницей, появившейся впервые в 1834 г. в окрестностях Тихвина. Данные слухи возникли как дополнение к легенде о старце Фёдоре Кузьмиче.
Тем временем, ростки военного клича и к собственному народу, и к Европе, как, свобода, освобождение, борьба с угнетателями, чему способствовало и рассеивание сочинений о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона, стали прорастать в Европе, поддерживаемые Александром I, быстро, особенно в Пруссии, в России пока не подавляемые, но и не абсолютно открыто, соизмеряя все это уже не к внешнему врагу, но к своей будничной действительности. Обмениваясь друг с другом мыслями, чему способствовало развитие печати, укореняясь в своих мировоззрениях, стали появляться общества-кружки с идейной целью изменения этой действительности, как гнета управления, сводящий настроения людей к духу сословного человеконенавистничества. Лозунги «Свобода. Равенство. Братство» затрагивали с особой остротой просвещенную, молодую, наиболее решительную часть офицеров российского общества. Так, офицеры Семеновского полка, одного из главного действующего лица в революционной истории, сжившиеся в походной жизни, и по возвращению в отечественные казармы устроили на товарищеских началах нечто вроде паевой артели (различного вида объединения граждан для общей хозяйственной деятельности) для общих обедов и времяпрепровождения за шахматами, чтением газет и в спорах на злободневные вопросы. Декабрист И. Д. Якушкин сообщает: «Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закостенелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще»[236 - Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. Ред. М. В. Нечкина, комен. С. Я. Штрайха. Москва, Акад. наук СССР, 1951, стр. 11.]. Побывавший за границей личный состав теперь мог воочию сравнить мироустройство Западной и Восточной Европы, и перевес был далеко не в пользу последней. Дворянин Розен пишет: «С 1822 года, по возвращении гвардии с похода в Литву, заметно было, что между офицерами стали высказываться личности, занимавшиеся не одними только ученьями, картами и уставом воинским, но чтением научных книг. Беседы шумные, казарменные о прелестях женских, о поединках, попойках и охоте становились реже, и вместо них все чаще слышались суждения о политической экономии Сэя, об истории, о народном образовании. Место неугашеной трубки заменили на несколько часов в день книга и перо, и вместо билета в театр стали брать билеты на получение книг из библиотек»[237 - Розен А. Е. Записки декабриста. Подгот. Г. А. Невеловым, ред. М. В. Нечкина. Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984, стр. 117.].
Вся просвещенная молодежь и офицерство пропитывалось идеалами французских просветителей. Они с восторгом восприняли Великую французскую революцию, но не приняли бунты «черни», якобинского террора, насилия диктаторы Наполеона Бонапарта. Они мечтали о свободной сильной, просвещенной России.
Во все времена перемены в России происходили при посредстве армии, приближенной к власти, отдавая предпочтение той или иной стороне. Эта обычная идея легла в основу последующего офицерского движения, которым следовало либо помочь императору, в принятии либеральных реформ, либо противопоставить себя его необузданной власти.
Вскоре императора встревожили офицерские собрания, вольные на них разговоры, «артели» запрещаются. Офицерство «негодует». В феврале 1816 г. в казармах лейб-гвардии Семеновского полка возникло первое тайное общество в России – «Союз Спасения», состоявшее в конце ее существования из 30 офицеров, почти все принадлежавшие к титулованным дворянским семьям. Организатором «Союза Спасения» стал 24 летний полковник Гвардейского Генерального штаба А. Муравьев. Его ближайшими соратниками были князь С. Трубецкой, братья М. и С. Муравьевы-Апостолы, Н. Муравьев и И. Якушкин. Позднее в общество вошли П. Пестель, Е. Оболенский, И. Пущин (друг А. С. Пушкина). Самому старшему Трубецкому на тот момент исполнилось 27 лет. Основная цель организации – введение конституции и уничтожение крепостного права. Средства достижения цели пока еще были не ясными. В перспективе предполагалось не присягать новому царю, в момент смены царей, если он не провозгласит конституционное правление. Вместе с тем, «часто говорено было, что ежели сам государь подарит отечество твердыми законами и положительно-постоянным порядком дел, то мы тогда вернейшие его будем приверженцы и оберегатели: ибо нам дело только до того, чтобы Россия пользовалась благоденствием, откуда бы оное не произошло»[238 - Павлов-Сильванский Н. П. Декабрист Пестель пред Верховным Уголовным Судом. Ростов на Дону, изд. А. Сурат, тип. Донская Речь, 1907, стр. 137—138.] – из показаний Пестеля.
В августе 1817 г. царский двор вместе гвардией на некоторое время переселился в Москву по случаю проведения торжеств в связи с пятилетием победы в Отечественной войне 1812 г. и закладки на Воробьевых горах памятника. В составе гвардии в Москве оказались почти все члены «Союза спасения», а квартира А. Н. Муравьева в Хамовнических казармах стала их местом собрания. В это время до них дошли известия о кровавой расправе над крестьянами Новгородской губернии, сопротивлявшимися переводу их в разряд военных поселян. А из Санкт-Петербурга пришло письмо от Трубецкого с сообщением, будто бы Александр I намеревался восстановить независимость Польши, причем присоединив к ней некоторые исконно русские губернии. Все эти известия вызвали взрыв возмущения, царь оказывался не только антинародным, но и антироссийским. Спонтанно возник план немедленного выступления, которое предполагалось начать с убийства первого изменника в стране – царя. Акт подразумевал под собой дворянскую дуэль. Вызвавшийся для этой цели И. Д. Якушкин должен был пробраться в Кремль и во время царского выхода из Успенского собора из одного пистолета поразить царя, а из другого – самого себя. После продолжительных споров, поняв, что, даже убив царя, у них не хватит сил для завершения переворота, было решено ликвидировать Союз спасения и приступить к созданию другой, более широкой организации.
В январе 1818 г. в Москве создается тайная организация, «Союз благоденствия». В ней насчитывалось уже до 200 членов, существовал детально разработанный устав – «Зеленая книга». Устав подразделялся на две части. Первая часть носила «ближнюю цель: распространение просвещения, занятие должностей гражданских членами тайного общества». Эта часть опиралась на устав тайного прусского общества Тугендбунда (Союза добродетели), созданного в 1808 г. (когда Пруссия оказалась под игом Наполеона) с целью патриотического воспитания народа. С первой частью устава «Зеленой книги» знакомились всех вступающих в Союз благоденствия. Позже намечалось составление ее второй части с программой общества – «введение конституции и законно-свободного правления», «уничтожения рабства», введение «равенства граждан перед законом, гласности в судопроизводстве», ликвидация рекрутчины, военных поселений[239 - Некоторые известные декабристы выражали сомнение в ее существовании. В частности, П. И. Пестель на следствии определенно заявил: «Вторая часть Зеленой Книги не была составлена. Я покрайней мере оной не видал и ни от кого про ея составление даже и не слыхал, а тем еще менее была раздаваема. В первой части была сия вторая часть обещана, но осталась без исполнения» (Восстание декабристов. Материалы. Том IV. Ред. и предис. М. Н. Покровского. Москва – Ленинград, Гос. издательство, 1927, стр. 139).]. Первая часть устава подразумевала под собой реформы через либеральные пути: средства пропаганды, сочетание тайной организации с легальными действиями, участие в разного рода научных, хозяйственных, литературных, женских обществах, расстановку во власти своих людей, т.е. вести моральную подготовку для будущего переустройства страны. Этой программе симпатизировали не только широкие круги офицеров и нарождающейся интеллигенции, но и высокопоставленные люди – придворные чиновники. Среди приверженцев идей Союза были даже люди близкие к царю.
В середине октября 1820 г. в Санкт-Петербурге, когда Александр I в связи с политическими потрясениями был на конгрессе Священного союза в Троппау, где он призвал принять серьезные и действенные меры против пожара, охватившего весь юг Европы, от которого уже огонь разбросан во всех землях, в лейб-гвардии Семеновского полка произошло волнение, вызванное жестокостями вновь назначенного командира этого полка полковника Ф. Е. Шварца. Это событие вызвало большое впечатление в Санкт-Петербурге. Восстала необычная воинская часть, а основанный еще Петром I один из старейших гвардейских полков, на который «смотрела вся армия». Этот полк был наиболее близок ко двору и шефом его значился сам Александр I. Солдаты этого привилегированного полка в большинстве своем являлись ветеранами многих воин, были и убийцами его родителя императора Павла, и именно здесь витала атмосфера большой свободы и вольности, очевидно, в разговорах уже направленное на недовольство позиций русской монархии, пробуксовывания реформ Александра I.
Собственно, история бунта Семеновского полка начинается с желания Александра I взять семеновцев под более строгий контроль, сделать их содержание менее вольным. Всячески чернили этот полк в глазах императора Аракчеев и младший брат Александра I – Михаил Павлович, знаток фрукта, бригадный генерал, который, по словам Вигеля, с малолетства не терпел «ничего ни письменного, ни печатного». Декабрист М. И. Муравьев-Апостол пишет: «Михаил Павлович, только что снявший с себя детскую куртку, был назначен начальником 1-й пешей гвардейской бригады. Доброе сердце великого князя, о котором так много ныне пишут, было возмущено, узнав, что мы своих солдат не бьем. Он всячески старался уловить Семеновский полк в какой-нибудь неисправности своими ночными наездами по караулам в Галерный порт и неожиданными приездами по дежурствам. Все эти ни к чему не послужило. Везде и всегда он находил полный порядок и строгое исполнение службы. Это еще больше бесило и восстановляло против ненавистного ему полка. Разумеется, великий князь не мог благоволить и к нашему генералу, с которым не имел ничего общего. Поэтому к нам начали придираться, отыскивая во что бы то ни стало, правдой или неправдой, если не беспорядка, то, по крайней мере, каких-нибудь ошибок»[240 - Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предис. и примеч. С. Я. Штрайха. Петроград, изд. Былое, 1922, стр. 42—43.].