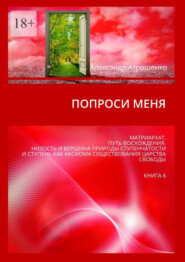скачать книгу бесплатно
Решающее сражение в ходе кампании 1813 г. развернулось под Лейпцигом 4—7 октября. По тому времени это была настоящая «битва народов», в которой принимало участие 185-тысячная армия Наполеона при 600 орудий и объединенная 160-тысячная русско-австрийская армия с 60 тысяч прусской армией, с общим числом орудий 1400. Наполеон отступил. Потери составили: у французов более 60 тысяч убитыми, 11 тысяч пленными, армия союзников потеряла до 50 тыс. человек. После Лейпцигского сражения к антифранцузской коалиции присоединилась Бавария. Командование над объединенной баваро-саксонской армией принял генералиссимус К. Вреде, который поспешил к Майну, чтобы отрезать Наполеону путь к Франкфурту. Наполеон легко справился с Вреде и продолжил отступление.
После сражения под Лейпцигом союзники постепенно продвигались к французской границе. За два с половиной месяца почти вся территория германских государств была освобождена от французских войск, за исключением некоторых крепостей, в которых французские гарнизоны упорно оборонялись до самого конца войны. В конце декабря союзные войска перешли Рейн, а 1 января 1814 г. вступили на территорию Франции. К этому времени к антинаполеоновской коалиции присоединилась Дания. Союзные войска непрерывно пополнялись резервами и к началу 1814 г. насчитывали уже до 900 тысяч солдат.
Перенеся войну на пределы Франции между союзниками стало быстро определяться разногласие. Никто, кроме Александра I не желал полного низложения армии Наполеона и за два зимних месяца 1814 г. Наполеон выиграл 12 сражений и два свел вничью. Предполагая, что Наполеон не сможет согласиться вернуть Францию к пределам 1792 г. союзники принял решение, 25 января в Лангре, вернуть на трон Франции Бурбонов. Но, в этом случае Франция становилась самой дружественной страной к России, чего Александр I не хотел допускать, т.к. это святое место в сердце Александра I было занято Пруссией. Поэтому Александр I предложил оставить на престоле малолетнего сына Наполеона под регентством его матери Марии-Луизы. 10 марта 1814 г. Россия, Австрия, Пруссия и Англия в Шомоне подписали договор на двадцатилетний срок о ликвидации завоеваний Французской империи и о военном надзоре за Францией, обязались не вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном о перемирии.
Трехкратным превосходством союзников в численности войск к концу марта 1814 г. привело к победоносному окончанию кампании. Одержав в начале марта победу в сражениях при Лаоне и Арси-сюр-Об, 100-тысячная группировка союзных войск двинулась на Париж, обороняемый 45-тысячным гарнизоном. 19 марта 1814 г. Париж пал. Наполеон бросился было освобождать столицу, но все его генералы уже не надеялись на победу, говоря, что весь Париж трепещет от ужаса, ожидая, что союзники отомстят за Москву и сожгут Париж. Наполеону ничего не оставалось делать, как 6 апреля подписать свое отречение: «Так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон является единственным препятствием к установлению мира в Европе, то император, верный своей присяге, объявляет, что он отказывается за себя и за своих наследников от трона Франции и от трона Италии, потому что нет такой личной жертвы, даже жертвы жизнью, которую он не был готов принести в интересах Франции»[183 - Маршан Л.-Ж. Наполеон. Годы изгнания. Москва, Захаров, 2003, стр. 60.]. Через несколько дней[184 - Маршан указывает число с 11 на 12 апреля. Тьер, Констан и Бурьенн утверждают, что оно произошло в ночь с 12 на 13 апреля, и, вероятно, они правы.] он пытался совершить акт самоубийства, использовав яд, который был приготовлен его медиком Юваном еще в России, но яд к этому времени частично выдохся и не подействовал на организм в полную силу. Наполеону, видимоне без иронии, отвели место проживания на острове Эльба, где он мог править по императорски. 3 мая он вступил во владение Эльбским королевством.
«„Я хотел дать Франции власть над всем светом“, – открыто признавал Наполеон в 1814 г. Он не знал тогда, что возникнет в отдаленном потомстве целая школа патриотических французских историков, которые будут стараться доказывать, что Наполеон, собственно, всю жизнь не нападал на других, а только защищался и что в сущности он, вступая в Вену, Милан, Мадрид, Берлин, Москву, этим только хотел защитить „естественные границы“ и на Москва-реке „защищал“ Рейн. Сам Наполеон до этого объяснения не додумался. Он был гораздо откровеннее»[185 - Тарле Е. В. Сочинения в двенадцати томах. Том VII. Наполеон. Москва, Акад. наук СССР, 1959, стр. 329—330.] (Тарле).
Александр I колебался до последней минуты, и только в Париже решился подписать провозглашение Бурбонов за голос Франции. По мирному договору, подписанному 18 мая 1814 г. в Париже, Франция возвращалась к границам 1792 г. Наполеон и его династия лишались Французского престола, династия Бурбонов восстанавливалась. Королем Франции был провозглашен Людовик XVIII, вернувшийся из России, где он пребывал в эмиграции. В Фонтенеблосском договоре Александр I все же сохранил Наполеону титул императора, а Франция, как освободитель от угнетателя, конституционный строй. Он обратился к французскому Сенату со словами: «Я – друг французкаго народа… Справедливо и разумно дать Франции учреждения сильныя и либеральныя, которыя соответствовали бы степени настоящего просвещения»[186 - Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Том III. СПб, А. С. Суворин, 1897, стр. 216.]. Александр сам принимал участие в составлении конституционной «хартии».
В сентябре 1814 г. по инициативе России, Англии, Австрии и Пруссии в Вене собрался международный конгресс, на котором присутствовало 2 императора, 4 короля, 2 принца, 3 великих герцога, 215 глав княжеских домов, 450 дипломатов и много других представителей знати европейских стран. Российскую делегацию возглавлял сам 37-летний император Александр I, находившийся в ореоле военной и политической славы.
Участники конгресса договорились, что послевоенное устройство Европы должно базироваться на принципе легитимации. Это означало, что старые династии, изгнанные со своих тронов Наполеоном, должны быть восстановлены. Но гражданский кодекс Наполеона оказал огромное воздействие на все население Европы, когда под напором революционной, а затем бонапартийской Франции рушились не только троны, но и старые порядки, крепостнические устои многих европейских стран. И теперь сама реставрация могла произойти только с учетом появившегося этого качественно нового мировоззрения. Так, во Франции наряду с реставрацией династии Бурбонов, стал действовать парламент, в Пруссии произошла ликвидация крепостного состояния крестьян. Во всех этих процессах деятельное участие принимал Александр I.
Намного сложнее работа конгресса пошла в решении территориальных вопросов. Уже с первых же дней возникли споры между Австрией и Пруссией из-за Саксонии, между Россией, Австрией и Пруссией из-за герцогства Варшавского. Свои интриги вел английский кабинет, стремившийся укрепить свои позиции на Европейском континенте. Работа конгресса топталась на месте. Австрийский фельдмаршал принц Ш.Ж. де Линь бросил тогда меткое выражение: «Конгресс танцует, но не движется»[187 - Pertz I.H. Das Leben des Ministers Freicherrn vom Stein. Berlin, 1851. Bd. 4. S. 100—101.]. Противоречия обострились до того, что в 3 января 1815 г. Англия, Австрия и Франция заключили «оборонительный» союз, направленный против России. Каждая из сторон, в случае военного конфликта с Россией, обязалась выставить армию в количестве 150 тыс. человек. К договору присоединилась Бавария. На заключительном этапе Венского конгресса, 28 мая 1815 г., удалось согласовать основные позиции. Герцогство Варшавское (Польша) отходило к России (император высказал намерение ввести там конституционное правление), кроме территорий – Восточной Галиции отошедшая к Австрии, а также Познани и ряда других городов, которые были переданы Пруссии, за то, что она получила не всю Саксонию, а только
/
ее территории. Главная работа Австрии стала в установлении создания Германского союза с общегерманским сеймом, куда входили бы все мелкие Германские королевства и княжества. К Австрии отходили и часть итальянских земель. Напряженные переговоры еще продолжались, когда в ночь с 6 на 7 марта курьер срочно доставил в императорский дворец в Вене, где гремел очередной бал, депешу из Франции, извещавшее о том, что Наполеон покинул остров Эльба, высадился на Юге Франции и с вооруженным отрядом движется на Париж.
Придя к власти, Бурбоны стали управлять Францией не лучше, чем это было до своего свержения. Народ с каждым днем убеждался все более в том, что без Наполеона ему живется все хуже и хуже. Раздоры и ссоры между приближенными Людовика XVIII росли, внося большую сумятицу в управление государством. До Наполеона все сильнее стали доходить вести о недовольстве народа Бурбоновским правлением и большой поддержкой бывшего императора. Наполеон решил, что еще не все потеряно, с небольшой эскадрой он отплыл от о. Эльба, и 1 марта 1815 г. прибыл в бухту Жуан. «Французы! В изгнании я услышал ваше жалобы и ваши желания; вы требовали правительства по собственному выбору, только такое и является законным… Я переплыл моря… и явился к вам, чтобы снова завладеть своими правами… Французы! Не существует нации, как бы ни была она мала, которая не имеет права избежать позора подчинения монарху, навязанному ей временно победившим врагом… Благодаря вам одним и храбрым солдатам армии, я воздаю должное своему моральному обязательству и впредь буду всегда поступать именно так»[188 - Маршан Л.-Ж. Наполеон. Годы изгнания. Москва, Захаров, 2003, стр. 187.] – его первое обращение к народу, который встретил его радостным приветствием. «Солдаты! Мы остались непобежденными… Солдаты! В изгнании я услышал вас! Я прибыл, несмотря на все препятствия и опасности! Ваш генерал, призванный на трон народным выбором и поднятый на ваши щиты, возвращен вам: идите и присоединяйтесь к нему!..»[189 - Там же, стр. 188.] – было обращение Наполеона к армии.
Узнав о высадке Наполеона, Людовик XVIII отправил отряд для его задержки, но он перешел на сторону своего кумира, как и все последующие. К 20-му марта положение Наполеона утвердилось, король бежал из столицы, а во дворец вступил вновь старый император. Победа была совершена без единого выстрела. Однако события переворота Европа встретила как следующий вызов.
Неожиданное появление Наполеона повергло всех в странную тревогу. Участники конгресса принимают декларацию, объявлявшую Наполеона «врагом человечества». Англия, Россия, Пруссия и Австрия вновь создают очередную (7-ю) антинаполеоновскую коалицию. Однако Наполеон попытался нанести удар по коалиции дипломатическим способом. Войдя в королевский дворец, он обнаружил среди документов Людовика XVIII, спешно бежавшего, секретный протокол трех держав против России. Теперь, надеясь отторгнуть Россию от коалиции он распорядился доставить этот документ в Вену, что бы открыть глаза Александру I на коварство его союзников. Держа этот документ в руках Александр I и принял австрийского канцлера, которому на это нечего было сказать. Но и примирение с Наполеоном для Александра было не возможно, и он лишь сказал, что не стоит обращать внимание на подобные «пустяки», бросил текст тайного договора в камин, после чего переговоры пошли быстрее.
Пока союзники в своей главной квартире развивали разнообразные стратегические планы, Наполеон, не дожидаясь, когда к ним подойдут подкрепления, начинает военные действия. Форсировав 15 июня Сомбру, он опрокидывает англо-прусские армии при Линьи. Как громом оглушенные этим разгромом, союзники держат военный совет и обсуждают ответный удар. Но их тревога скоро рассеивается: 18 июня в битве под бельгийской д. Ватерлоо англо-голандско-брауншвейгское союзное войско (68 тыс. человек при 159 орудиях) под командованием генералиссимуса Веллингтона и подошедшего уже к месту сражению прусского войска (около 45 тыс. человек) под командованием генерала Блюхера французская армия (72 тыс. человек при 243 орудиях) оказалась опрокинута. 25 тыс. французов было потеряно убитыми и ранеными, 8 тыс. пленными, союзники потеряли 23 тыс. человек.
Наполеон бежал в Париж. Поражение при Ватерлоо означало поражение всей кампании. Но народ был против отречения своего императора. Толпы людей собирались в Париже и его предместьях, они ходили по городу с криками: «Да здравствует император»[190 - Маршан Л.-Ж. Наполеон. Годы изгнания. Москва, Захаров, 2003, стр. 271. «Толпа была многочисленной, и каждый раз, когда император появлялся в конце длинной дорожки, все эти люди, находившиеся в состоянии сильного возбуждения, провозглашали здравицу в честь императора возгласами „Да здравствует император!“, требовали оружия и единого слова призыва от императора, чтобы сокрушить внутреннего врага в стране и выступить в поход против внешнего врага, приближавшегося к Парижу» (С. 271)].
22 июня Наполеон вторично отрекся от престола, на этот раз в пользу Наполеона II. Все окружавшие говорили Наполеону, что надо бежать тайно в Америку. Капитан одного из французских фрегатов предлагал даже вступить в бой с англичанами, чтобы в это время Наполеон уплыл на другом фрегате. Но Бонапарт отказался от жертвы всего экипажа фрегата. Он решил доверить свою судьбу Англии и 15 июля перешел на корабль «Беллерофон» капитана Метленда.
Когда английское правительство узнало о том, что бывший император сдался и находится на борту их фрегата, перед правительством встала проблема выбора места ссылки Наполеона. Выбор пал на остров Святой Елены. Этот остров длиной 19 км и шириной 13 км был открыт португальцами в мае 1501 г. в день Святой Елены (отсюда его название), с 1673 г. он принадлежал Англии, а его расположение, удаленное от самого близкого африканского берега почти на 2 тыс. км, делало его удобным местом для затворничества, фактически лишало возможности Наполеону на побег. Экс-императора стерегли 3 тыс. солдат, расставленные в два кольца вокруг Лонгвуда – дома, в котором жил Наполеон. Дважды в сутки дежурный офицер лично проверял, на месте ли Бонапарт. Кроме того, остров был хорошо укреплен и вокруг постоянно ходили 11 военных кораблей. Жители острова относились к нему с почтением, симпатией, даже дарили ему цветы.
Постепенно здоровье Наполеона стало ухудшаться, врачи уже не могли ничего сделать и 5 мая 1821 г. в возрасте 51 года он скончался. По поводу причины смерти Наполеона существуют различные версии. Самые распространенные из них это отравление (мышьяком), в чем были заинтересованы Бурбоны и англичане, и официальный диагноз – рак желудка (от которого умер еще его отец). В 1840 г. прах Наполеона был торжественно перевезен во Францию в Дом Инвалидов.
Интересный вывод о причинах смерти Наполеона сделал шведский стоматолог и токсиколог-любитель Стен Форшуфвуд. Он пришел к заключению о принятие Наполеонам на протяжении длительного времени (с 1813 г.) мышьяка, возможно, в лекарственных целях, поскольку в небольших дозах мышьяк, в самом деле, представляет собой стимулирующее средство. И непосредственно отравление состоящее из двух этапов. Первый этап – император принимает сироп оршада (старинный молочный сироп). Второй этап – ослабленный император для своего лечения принимает дозу хлористой ртути, и та, смешиваясь с оршадом, превращается в ядовитую ртутную соль. Желудочное кровотечение, отмечает он, было вызвано «язвенным процессом, поразившим стенки желудка, что является характерным признаком отравления ртутью»[191 - Деко А. Великие загадки истории. Москва, Вече, 2000, стр. 270.]. Доктор Форшуфвуд называет имя непосредственного убийцы – граф де Монтолон, который последовал за Наполеоном на Святую Елену лишь потому, что «вконец» прогорел во Франции – наделал немало долгов и ославился тем, что был замешен в грязных махинациях. Войдя в ближний круг Наполеона Монтолон предложил свои услуги Бурбонам.
В версии Форшуфвода заложилось противоречие – откуда у Наполеона появилось ослабленное самочувствие, которое лечили хлористой ртутью? Поэтому, можно допустить, что рак у Наполеона всё-таки был, в начальной форме, как это и констатировали английские врачи после вскрытия тела. Таким образом, убийца лишь ускорил процесс, который неминуемо произошёл бы через несколько месяцев.
После расправы с Наполеоном союзные войска вошли в Париж 23 июня. Был заключен второй Парижский мир, ужесточавший статьи Первого Парижского мира и Венского конгресса. На Францию налагалась большая контрибуция (700 млн франков), границы страны еще более урезались в пользу соперников, ряд военных крепостей подвергались оккупации союзников на несколько лет, в стране должен был находить русский оккупационный корпус.
P.S.: Французский гуманизм бога Разума, идеи эпохи Просвещения, был распространен и моден в Европе, и его дух призывал на себя политическую защиту, что воплотилось покровительством сильной политической системой гуманизма, т.е. французской агрессией. То, что находилось внутри, то проявлялось наяву – вытеснение Бога отображалось иноземным завоеванием. Ни Россия, ни сама Франция в этой мере не стали исключением. Гуманистическая Россия (и екатерининской прививкой просвещенческого гуманизма, и традиционной прогуманистической церковью, и историческим гуманизмом – вектором в старину человеческого достоинства) благословилась нашествием гуманистов, которые решили поучить, как следует себя вести (т.е. с кем дружить) в «приличном» обществе гуманистов, точно так же как, в конце концов, и учительствующая Франция была благословлена примерными учениками на примерное поучение… Это экстаз просветителей мира достоинства, т.с. «милостивого» достоинства – постоянное выяснение отношений, кто лучше, правильнее, сильнее и добрее… Это бравирование светом лучшества достоинства, когда самый просвещенный-освященный, самый достойный, идет вразнос от излучающего его света истины, света своей доброты, своей превосходящей значимости… Это пьяная пирушка задиристых мужиков, среди которых всегда найдется самый опьяневший и потерявший рассудок сдерживания своих амбиций, и где каждый наказывается здесь сам собою…
В благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия Александр I 25 декабря 1812 г., подписал Высочайший Манифест о построении церкви в Москве, лежащей в то время в руинах: «Объявляем всенародно. Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом стремительном бегстве едва самомалейшая токмо часть оных могла уйти за пределы Наши, есть явно излиянная на Россию благодать Божия, есть поистине достопамятное произшествие, которое не изгладят веки из бытописаний. В сохранении вечной памяти того безпримернаго усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в сии трудныя времена превознес себя народ Российский, и в ознаменовании благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа… Да простоит сей храм многие века, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков»[192 - ПСЗРИ. Т. 32. №25.296. С. 487—488.].
Будущий храм-памятник должен был соответствовать масштабам воспоминаемого события – планировался грандиозный, поражающий своими размерами архитектурный ансамбль. 12 октября 1817 г. в 5-летнюю годовщину ухода французов из Москвы, в присутствии царя Александра I на Воробьевых горах был заложен первый храм по проекту архитектора А. Л. Витберга. Стройка вначале шла энергично (в ней участвовало 10000 подмосковных крепостных), но вскоре темпы резко снизились. За первые 7 лет не удалось завершить до конца даже нулевой цикл. Деньги уходили неизвестно куда (позднее комиссия насчитала растрат без малого на миллион рублей). Этому масштабному проекту не суждено было осуществиться – вначале Витберг попал в немилость при дворе Николая I, а потом, в 1827 г. грунты Воробьевой горы начали оседать, и строительство пришлось вовсе прекратить.
Нового конкурса не проводилось, и в 1831 г. Николай I самолично определил архитектором К. Тона, «русско-византийский» стиль которого был близок вкусам нового императора. Новое место на Чертолье (Волхонка) была также избрана самим Николаем I; находившиеся там постройки были куплены и снесены: был снесен и располагавшийся там Алексеевский монастырь, а обитель переведена в Красное село (совр. Ново-Алексеевский монастырь). Московская молва сохранила предание, якобы игуменья Алексеевской обители, недовольная таким поворотом прокляла место: «Быть сему месту пусту!» Иногда для красного словца еще поминают некую юродивую, добавившую, что быть здесь «луже зловонной». В действительности такого просто не могло быть. Тем более, что митрополит Филарет (Дроздов) договорился с императором о предоставлении Алексеевскому монастырю новой территории вчетверо больше предыдущей. Кроме того, все расходы по переезду и строительству новых храмов и келий взяла на себя казна.
Средства на постройку храма собирались во всех церквях, из казны была выделена огромная сумма – более 15 млн рублей. Торжественная закладка храма была произведена в августе 1837 г., на котором присутствовали первые лица государства. Однако активное строительство началось только в сентябре 1839г. и продолжалось почти 44 года. Торжественное открытие храма состоялось 26 мая 1883 г., в год коронации Александра III в присутствии всей императорской семьи, иностранных высоких гостей и с большой пышностью. Ко дню освещения храма Христа Спасителя П. И. Чайковским была написана торжественная увертюра «1812 год».
Название кампании 1812 г. «Отечественная война» появилась впервые в книге (восьмитомнике) участника многих военных кампаний с Наполеоном (с 1805 по 1813 г.) Ф. Н. Глинки «Письма русского офицера…», изданной в Москве в 1815—1816 годах и ставшей в то время одной из самых читаемых в России. Изночально слово «отечественная» носило чисто территориально-разграничительный характер и не имело смысла национально-патриотического подъема. После войны 1812 г., в обстановке всеобщего ликования по поводу изгнания за пределы России наполеоновской армии и в силу необходимости поддержания в обществе иллюзии единства всех сословий во главе с дворянством, полюбившееся с.-петербургской аристократии название «Отечественная война» в 1837 г. (к 25-летию победы в войне) по «высочайшему повелению» Николая I было закреплено в российской истории. Хотя, с точки зрения беспристрастного исследователя военная кампания 1812 г. являлась лишь фрагментом (правда, переломным) эпохи антинаполеоновских войн.
Примечательные сведения оставил в своих записках артиллерист офицер А. М. Баранович о последствиях постоя русской армии во Франции, о том впечатлении, которое было произведено на русского мужика. Он пишет, что «по 6-недельном отдохновении приказано было выступить в Россию… Когда же мы прибыли на границу России, то слышали, что из всего войска [около 153 тыс.] осталось во Франции до сорока тысяч нижних чинов, о возврате которых Государь Александр и просил короля Людовика XYIII под условием, что возвращающийся в отечество наказанию не подлежит, если добровольно явится в полк на службу или в домашнее свое семейство, и путевыя издержки Государь приемлет на свой счет. Но король не в состоянии был исполнить государеву просьбу за утайкою французами беглецов, и потому ни один не возвратился. Нашему рядовому солдату, с руками для всяких работ, легко было найти приют, но офицеру с ничтожным воспитанием и… не нашлось бы ни места, ни куска хлеба, и не слышно, кто бы оставил служебный свой пост в русской армии»[193 - Голос минувшего. 1916. №5—6. Москва. Русские солдаты во Франции в 1813—14 гг. (Из записок арт. оф. А.М. Барановича). С. 154.]. Об этом же писал Ф. В. Растопчин жене в 1814 г.: «Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старик унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейскаго полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей». Кстати, и сам Ростопчин, «не уважая и не любя французов» (по Вигелю), удалившийся от дел с 1814 г. почти до конца жизни жил в Париже.
По итогам войны с достаточной долей достоверности сегодня никто не может точно сказать, сколько людей в России сражалось против наполеоновской армии и сколько из них погибло. По исчислениям лучшего в середине XIX в. специалиста по статистике Д. П. Журавского за тринадцать лет (1802—1815 гг.) в рекруты попало 2.158.594 человека, что составляло примерно третью часть всего мужского населения от 15 до 35 лет. Этому несколько противоречат цифры, приводимые составителями «Столетия Военного министерства», по данным которых в царствование Александра I (18 наборов) рекрутами стали 1.933.608 человека. А. А. Керсновский полагал, что за десять лет «было поставлено не менее 800.000 рекрутов, не считая 300.000 ополчения Двенадцатого Года», а все находившиеся на военной службе составляли «4 процента 40-милионного населения страны»[194 - Керсновский А. А. История Русской армии. Т. 1. От Нарвы до Парижа. Москва, Голос, 1999, стр. 204—205.]. По мнению Д. Ливена, за время своего правления Александр I «поставил под ружье два миллиона человек всего за 24 года[195 - Ливен Д. Российская империя и ее враги с ХVI века до наших дней. Пер. с анг. А. Козлика, А. Платонова. Москва, Европа, 2007, стр. 429.]». В советское время Л. С. Каминский и С. А. Новосельский определяли количество выбывших воинов из строя в 1812 г. в 200 тыс. человек. Б. Ц. Урланис, а вслед за ним П. А. Жилин, установили потери русской армии в Наполеоновских воинах в 360 тыс., а в Отечественной войне 1812 г. – в 111 тыс. человек. В любом случае все названные исследователями цифры огромны, и армия в начале наполеоновской кампании и в ее конце это фактически другая армия, в смысле пополнения ее новыми людьми. Конечно, надо учитывать, что во время войны много выбывало наиболее образованной, толковой части мужского населения. Почти невозможно посчитать и гибель людей среди местного населения в результате эпидемий, затронувших губернии, занятые неприятелем в 1815 г. А. А. Корнилов привел свои исчисления, основанные на сличении ревизий 1811 и 1815 гг. По его данным, в 1811 г. население мужского пола равнялась 18.740 тыс. человек, а в 1815 г. – 17.880 тыс. д.м.п.; т.е. за четыре года уменьшилось на 860 тыс. человек (это без учета армии и флота). Известно, что при нормальных условиях прирост должен составит 1—1,25 млн человек. Отсюда было сделано заключение, что «действительная убыль людей от войны и связанных с нею бедствий и эпидемий было около 2 миллионов душ одного только мужского пола»[196 - Русская мысль. 1912. №11. Москва. А. А. Корнилов. Эпоха отечественной войны и ее значение в новейшей истории Росс. С. 148.]. Этот вывод оспаривается другими исследователями. Современный историк статистики В. М. Кабузан привел совершенно иные данные на период 1811—1815 гг. По его мнению, население России не только не сократилось, но даже выросло с 42,7 до 43,9 млн человек за этот период. А. А. Керсновский полагал, что число погибших в войнах Александра I не менее 800.000 человек, а «одна война с Наполеоном 1812—1814 годов обошлась России в 600.000 жизней»[197 - Керсновский А. А. История Русской армии. Т. 1. От Нарвы до Парижа. Москва, Голос, 1999, стр. 205.]. Огромные потери, которые невозможно подсчитать, было понесено населением в результате боевых действий в губерниях, затронутых войной, от пожаров, разрушений, опустошений и разграблений. Известно, что только по Московской казенной палате потери составили 270—280 млн рублей – почти годовой бюджет страны. А. А. Корнилов, например, считал, что общая стоимость «всех материальных убытков и пожертвований населения за время войн 1812—1814 гг. не может быть определена с точностью, но она должна быть оценена по самым умеренным расчетам, конечно, не менее как в миллиард рублей, – сумма для того времени колоссальная»[198 - Русская мысль. 1912. №11. Москва. А. А. Корнилов. Эпоха отечественной войны и ее значение в новейшей истории Росс. С. 147—148.].
После непродолжительного периода сдержано дружеских контактов между Россией и Соединенными Штатами их отношения вступили в полосу заметного обострения, вызванного расширением границ США на запад, к Тихоокеанскому побережью, в отдельных районах которого уже обосновались русские поселенцы. В начале 20-х гг. XIX в. встал вопрос о необходимости проведения четкой договорной государственной границы между русскими и англо-американскими владениями на западном побережье Северной Америки. 16 сентября 1821 г. Александр I издал указ, согласно которому территория на северо-западе США к югу до 51
с.ш. объявлялась находящейся под юрисдикцией РАК (Российско-американская компания). Иностранным судам запрещался заход в русские порты и поселения на всем протяжении побережья в этих пределах. 25 сентября новым императорским указом устанавливалась монополия РАК на охоту, рыболовство и торговлю в этом регионе.
В 1821 г. начались переговоры между США и Россией о пересмотре русско-американской границы в Северной Америке. В ходе продолжавшихся более двух лет переговоров США выдвинули встречное жестко сформулированное требование о проведение новой русско-американской границы по 60
с.ш., что практически означало бы передачу всех русских владений Америке. В июле 1823 г. госсекретарь США Дж. К. Адамс заявил российскому посланнику в Вашингтоне, что «мы будуем оспаривать право России на любое территориальное владение на нашем континенте и вполне определенно выдвигаем принцип, что американские континенты не могут впредь быть объектами для любых новых европейских колониальных владений»[199 - Болховитинов Н. Н. Русско-американские отношения 1815—1832. Москва, Наука, 1975, стр. 202.]. Эта формулировка в дальнейшем была использована Белым домом в отношении европейских держав и получила название «доктрина Монро» (по президенту Дж. Монро 1817—1825), первоначально имевшая своей целью выдавливания России из Америки. Смягчая тон заверениями, что Соединенные Штаты руководствуются желанием продемонстрировать неизменное дружелюбие к Российскому императору и стремлением к развитию взаимопонимания с правительством России и к избеганию возникновения противоречий, 2 декабря 1823 г. «доктрина Монро» была официально провозглашена в президентском послании Конгрессу США.
Основной смысл доктрины сводился к тезису о том, что Соединенные Штаты, обязываясь не вмешиваться во внутренние дела европейских государств и их колоний, признавая законность их правительств и выражая готовность поддерживать с ними дружеские отношения, будут, вместе с тем, считать посягательством на свою независимость любое вмешательство этих государств во внутренние дела Американского континента. На практике это означало, в частности, обещание США не вмешиваться в революционную войну за независимость, которую вела Греция с Турцией, в обмен на отказ европейских держав от вмешательства в ход войн за независимость, которые вели страны Латинской Америки.
Попытки придать этому документу с претензиями характер закона, предпринятые отдельными членами Конгресса США, окончились неудачей. Она так и осталась внешнеполитическим заявлением президента, «лекцией» (по определению Адамса), прочитанной им европейским государствам. Однако с 1823 г. государства Европы отказались от расширения своих владений в Новом Свете, устремившись в Азию и Африку.
Провозглашение «доктрины Монро» сказались и на российско-американских отношениях. Вопреки возражениям военно-морских кругов России и их настойчивым рекомендациям не уступать Соединенным Штатам территории на Тихоокеанском побережье севернее 42°с.ш. и в любом случае сохранить за собой Форт-Росс, Александр I и министр иностранных дел России граф К. В. Нессельроде подписали Русско-американскую конвенцию 1824 г. Они согласились на передачу США огромной территории протяженностью 12,5°(впоследствии на этой территории были образованы два американских штата – Орегон и Вашингтон) вплоть до современной южной границы штата Аляска.
15 ноября 1815 г. Александр I подписал конституцию Царства Польского, наиболее либеральный проект того времени для Европы. Александр I был объявлен «царем польским» с наследственной передачей польской короны, но сама власть ограничивалась конституцией. Управление Польши вверялось наместнику царя, которого Александр I нашел в старинном польском роду генерала Иосифа Зайончека, возведя его в княжеское достоинство. Но фактическим наместником стал брат царя великий князь Константин Павлович, назначенный главнокомандующим польскими вооруженными силами. Высшую законодательную власть осуществлял двухпалатный Сейм, собиравшийся на свои заседания один раз в два года, на 30 дней, а в перерывах между его заседаниями – Государственный совет, действовавший постоянно. Все государственные должности занимались только поляками, официальные акты составлялись только на польском языке. Провозглашались свобода печати и неприкосновенности личности. Господствующей религией объявлялся католицизм, но и другим вероисповеданиям предоставлялось равноправие. При открытии первого заседания Сейма в Варшаве 15 марта 1818 г. Александр I произнес речь, в которой заявил, что учрежденные в Польше Конституционные порядки он намеревался распространить по стране: «Образование существовавшее в вашем крае, дозволяло МНЕ ввести немедленно то, которое Я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом МОИХ помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь Я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению МОЕМУ вверенные. / Таким образом вы МНЕ подали средство явить МОЕМУ Отечеству то, что Я уже с давних лет ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела, достигнут надлежащей зрелости»[200 - Александр I. Речь Произнесенная Его Императорским Величеством При Открытии Сейма Царства Польскаго В 15/27 день Марта 1818 года В Варшаве. Варшава, 1818.]. После этого выступления Александра Н. М. Карамзин писал о появившихся в России настроениях прогрессивных людей – «Варшавские речи сильно отзвались в молодых сердцах: спят и видят Конституцию; судят, рядят; начинают и писать – В Сыне отечества в речи Уварова; иное уже вышло, другое готовится». Но далее Карамзин, верный взглядам страстной монархии, добавляет: «И смешно и жалко! Но будет, чему быть. Знаю, что государь ревностно желает добра; все зависит от Провидения – и слава Богу… Пусть молодеж ярится: мы улыбаемся»[201 - Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С прим. и указат. Я. Грот, П. Пекарский. СПб, тип. Импер. Акад. Наук, 1866, стр. 236—237.].
Воинскую службу и ее будни начала XIX века описывает историк, генерал-лейтенант Русской императорской армии Н. Ф. Дубровин. Здесь приводится выдержки из его повествования.
«Кроме названных четырех полков, офицерский состав вообще «представлял сборище молодых людей малообразованных и чуждых столичных обществ. От них требовалось только, чтобы они были исправными фронтовыми офицерами. Не посещать общество, и не ездить ни на какие балы, – это было непременным условием, чтобы понравиться своему корпусному командиру. Цесаревич ненавидел всю знать и преследовал их в полках.
Многие офицеры гордились тем, что кроме полковых приказов ничего не читали; фронтовая служба их исключительно занимала, и они редко показывались в обществе.
Отчуждение от него вело к суровости нравов, кутежам и попойкам. День проходил среди учений, хождения по набережной, обеде в трактире, всегда орошенном через край вином, в отправлении общей ватагой в театр, или кутеж и пьянство. Молодечество и удальство составляли исключительный характер молодежи. «И в войне и мире, – говорит Ф. В. Булгарин, – мы искали опасностей, чтобы отличиться безстрашием и удальством. Попировать, подраться на саблях, побушевать, где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время». Ведя вечную войну с рябчиками, т.е. со статскими, военная молодежь не покорялась никакой власти, кроме полковой и всегда противодействовала городской полиции.
Сами начальники подавали тому пример [своими гулянками]
…
Подобные кутежи продолжались всю ночь до утра и сопровождались разными насилиями над мирными жителями. На следующий день приходили в полки жалобы, и виновные тотчас сознавались, что считалось долгом чести. На полковых гауптвахтах всегда было тесно от арестованных офицеров, особенно в Стрельне, Петергофе и Мраморном дворце. «Буянство хотя и подвергаюсь наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных условных границ. Стрелялись чрезвычайно редко, только за кровавые обиды, за дела чести; но рубились за всякую мелочь, за что ныне и не поморщатся».
Распущенность начальников была весьма заразительна и, по мнению великаго князя Константина Павловича, вела к упадку дисциплины. Впрочем, он смотрел на нее своими особыми глазами. С ранних лет великий князь усвоил себе понятие, что офицер есть ни что иное, как машина; все, что командир приказывает своему подчиненному, должно быть исполнено, хотя бы это была жестокость. «По его мнению, начальнику должна быть предоставлена полная и неограниченная власть над подчиненным: он может сделать подчиненнаго своим слугой и употреблять его на все и везде"
…
П. Пестель, проповедовавший равенство, писавший Русскую Правду и ратовавший за республиканский образ правления, был необыкновенно жесток с солдатами своего полка. Таково было то время! Плакали над жалостливыми романами, сентиментальничали в жизни и в то же время следовали поговорке: «моему нраву не препятствуй».
В общем, положение солдата было очень тяжелым…
Граф Ланжерон, отстаивавший строгия правила в обращении с солдатами и считавший телесныя наказания необходимыми для поддержания дисциплины, приводит, однако же, с особым раздражением пример безумной жестокости. – Он говорит о множестве случаев, в которых солдаты умирали под ударами палок и розог. – Многие офицеры находили в этих истязаниях «особое удовлетворение и, как бы ради спорта, за чаем, велели наказывать солдат виновных и невинных».
Вот что разсказывает М. С. Щепкин в своих записках.
В 1802 году зашел он в палатку к И. Ф. Б., где находилось еще несколько офицеров, и услышал спор. И. Б. держал на 500 руб. пари с другим офицером, что солдат его роты Степанов выдержит тысячу палок и не упадет. «Это меня чрезвычайно поразило, говорит Щепкин, тем более, что мы знали И. Б. как благороднаго человека; но вот каково было наше хваленое время: я, признаюсь, старался скрыть мое волнение, боясь быть уличенным в слабости».
Послали за солдатом, мужчиною вершков восьми, широкоплечим и костистым.
– Степанов! синенькую и штоф водки, – сказал ему И. Б., – вы-
держишь тысячу палок?
– Рады стараться, ваше благородие, – отвечал он.
Щепкин обезумел.
– Как же ты, братец на это согласился? – спросил он у проходившаго мимо его Степанова.
– Ахъ! парнюга, – отвечал он, – все равно даром дадут.
Щепкин сообщил об этом полковому командиру, у котораго были гости, и «поверите ли, – замечает Щепкин, – все это принято обществом с хохотом, а некоторые даже повторяли: «ах, какие милые шалуны». А другие отзывались: «каков русский солдат!» Только одна А. А. Анненкова заметила полковому командиру князю И. Г. В.
– Князь! пожалуйста, хоть для своего рождения не прикажи; право, жалко, все-таки человек.
Князь призвал офицеров.
– Что вы, шалуны, – сказал он, —там затеваете какое-то пари? Ну, вот дамы просят оставить это; надеюсь, что просьба дам будет уважена.
Такое поведение и жестокость офицеров осуждались, хотя и довольно робко, военною литературою.
«Еще и поныне, – писал Трухачев, – водится в некоторых полках не жестокость, не тиранство, но что-то на cиe похожее и едва-ли сносное, а более за ученья. Хотя со времени царствования государя Александра Павловича весьма приметным образом прекращена жестокость; но все еще остались в полках следы так называемых бравых капитанов, которые одним тиранством заслужили имя бдительнаго и попечительнаго ротнаго начальника; другие же, чтобы быть на счету таковых же, следовали совсем противу чувств своих не похвальному сему примру. Продли милосердный Боже благословенно многия лета императору; его сердце остановило (?) в войсках тиранство, и солдат не страшится (?)[202 - Вопросы поставил Дубровин.] уже службы, однако же поколачивают без содрагания.
Поколачивание происходило большею частию во время учений, не имевших однообразия, а потому не удобо-усваиваемых солдатом. В то время, по словам Ф. Я. Мирковича, не придерживались и не руководствовались уставом, а были рукописныя тетради, в роде « Эволюция Коннаго полка». Каждый полк имел свою тетрадь неизвестнаго происхождения или заимствовав у другаго, вносил свои поправки и изменения по своему произволу и по ним производил муштровку. Такое разнообразие в обучении вызвало вмешательство военнаго министерства. 16-го апреля 1801 г. генерал-адъютант граф Ливен объявил высочайшее повеление, чтобы до получения особаго распоряжения полки во всем поступали на основании устава и прочих предписаний, до порядка службы относящпхся.
«Если же бы дошло до сведения их, что в войсках, в Петербурге находящихся, и сделана какая-либо перемена, то равномерно, чтобы себе примером не ставили, но ожидали бы надлежащаго предписания».
Муштровка войск доводилась до поэтическаго восторга. – Войска выводились на ученье задолго до назначеннаго часа. – Измученные долгим ожиданием, валившиеся под грузом ранца, подавленные тяжестью туго надетаго кивера, с колыхающимся от ветра почти аршинным султаном, затянутые «до удавления» туго застегнутым воротником и скрещенными на груди ремнями, солдаты с напряженным вниманием исполняли команды, требовавшия от них бодрости и быстраго исполнения.
– Смотри веселея!.. Больше игры в носках… Прибавь чувства в икры!.. – кричали им начальники.
«Бывало, – говорит современник, – церемониальным маршем перед начальником проходишь, так все до одной жилки в теле почтение ему выражают; а о правильности темпа в шаге, о плавности поворота глаз направо, налево и бодрости вида – и говорить нечего! Идешь это перед ротою, точно одно туловище с ногами вперед идет, а глаза так от генерала и не отрываются… А нынче что? Ну, кто нынче ухитрится ногу с носком в прямую линию горизонта так вытянуть, что носок так тебе и выражает, что, вот-мол, до последней капли крови готов за царя и отечество живот свой положить».
Одиночныя учения зимою были еще сносны, но с наступлением весны они производились с 9 часов утра до 2-х по полудни, при чем за малейшую ошибку с солдатами обращались не только строго, но и жестоко.
Ах, прекрасная весна,
Ты приятна и красна,
Если вольным кто родится.
А солдату ты, весна,
Очень, очень несносна!
Тут начнется в ней ученье
И тиранство и мученье.
О! солдатская спина,
Ты к несчастью рождена.
Лучше в свете не родиться,
Чем в солдатах находиться,
Этой жизни хуже нет,
Изойди весь белый свет.
В караул пойдешь, так горе,
А с караула, так и вдвое.
В карауле нам мученье,
А как сменишься, – ученье.
В карауле жмут подтяжки,
На ученьи жди растяжки,
Стой прямее, не тянись,
За тычками не гонись.
Оплеухи и пинки
Принимай-ка как блинки.
Жестокость в обращении с солдатом была всем известна, и правительство неоднократно приходило к нему на помощь, но безуспешно.
«Доходит до сведения моего, – писал император Александр всем главным начальникам, – что во многих полках при обучении солдат и рекрут экзерциции, наказывают их с такою строгостию, какую употреблять должно в случае важных только преступлений. Метода сия, быв столь же вредна для службы, сколько противна здравому разсудку, введена, конечно, или от непонятия, в чем состоять должна воинская строгость, или же от природной некоторых наклонности к жестокостям.
Первое непростительно никакому офицеру, а последняя, обнаруживая дурныя свойства души, уничтожает в нем самое достоинство человека. Неоспоримо, что строгость в войске отнюдь ослабляема быть не должна, и взыскание за проступки делать надлежит неупустительно; но с преступлениями, подвергающими виновнаго строгому наказанию, нельзя смешивать погрешностей, происходящих от неумышленности или от непривычки еще к тому, о чем погрешающий не имел прежде никакого понятия. Преступления моральныя, как запрещаемыя всеми законами: грабеж, воровство, обман и проч., так в особенности нетерпимыя в службе воинской: неповиновение командиру, оплошность стоя в карауле, небрежение ружья своего и аммунции, отлучка без позволения, трусость против неприятеля и т.п., требуют неотложнаrо взыскания, суждения по воинским артикулам и неизбежнаго наказания; но ошибки в ружейных приемах, в маршировании, в словах, когда рапортует или является вестовым, особливо же в новопринятом солдате, требуют больше неусыпности офицера и способности к его поучению, нежели строгости. Она в сем случае не только невместна, но вредна для службы и для самых успехов в доведении обучаемых до надежащаго познания, ибо, кроме того, что через частыя безразсудныя наказания лишается солдат здоровья и крепости, толико нужных ему для понесения трудов военных, не согласно с разумом, чтобы он, выходя на ученье, имел в намерении своем ошибаться с умысла; напротив того, ежеминутное ожидание палочных ударов, а особливо в человеке торопливом, разстраивает внимание его, и при всем напряжении сил исполнят наилучшим образом командуемое, ошибается он на всяком шагу и при всяком слове.
Движим будучи чувствованием сострадания к ceму толико заслуживающему о себе попечения классу людей и желая, чтобы как вышние, так и другие офицеры, при обучении солдат должностям их и экзерциции, давали себе больше труда к вразумлению их в том прилежным и частым растолкованием и тем, а не побоями, где без них обойтись можно, доводя их до совершенной исправности, отличали сами себя успехами и приобретением похвалы и достойной справедливости. Я рекомендую вам возъиметь об оном рачительное попечение и сообщить с сего копии rr. шефам полков вверенной вам инспекции, на тот конец, чтобы они не предписаниями и не отдачею в приказах, а внушениями при случаях приличных ротным (эскадронным) командирам и собственным своим надзором, старались дать желаемое на сей предмет влияние. Впрочем, сие мое повеление сохранить им, как и вам, в одном своем только сведении».
В 1808 году, граф Аракчеев объявил всему петербургскому горнизону высочайшее повеление, чтобы во время жаров не производить никакого ученья, а когда оно бывает рано утром, то оканчивать не позже 8 часов. Аракчеев обещал следить за этим и строго взыскивать с ослушивающих командиров.
Наконец, в 1810 году последовало новое распоряжение военнаго министра Барклая-де-Толли.