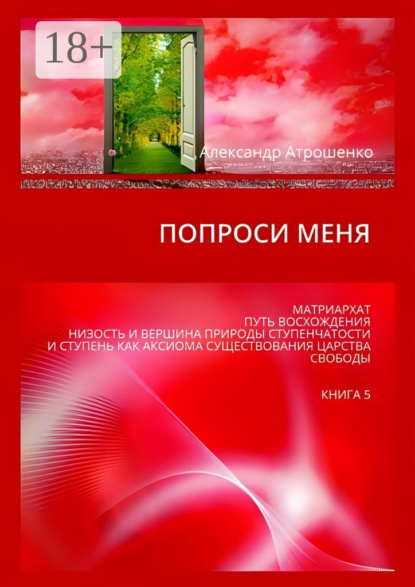
Полная версия:
Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 5
Конечно, это не большая цифра для России (современные исследователи указывают до 5000 чел.), но надо понимать, что это, в первую очередь, символ движения общества: монахов ведь тоже немного, но монашество, – это выражение направления следования страны – «малая закваска квасит все тесто»…
Масоны уже давно привлекали внимание Екатерины, она подробно ознакомилась с громадной масонской литературой и не нашла в масонстве ничего, кроме «сумасбродства». Пребывание в столице графа Калиостро, которого она называла негодяем, достойным виселицы, еще более вооружило ее против масонов. После скандала связанного с ним последовал памфлет императрицы «Тайна противонелепого общества», в котором можно было разглядеть первое признание приближающихся гонений. Получая вести о все более и более усиливавшемся влиянии масонских кружков, Екатерина решила бороться с этим «сумасбродством» литературным оружием и в течение двух лет (1785—1786) написала 3 комедии («Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман Сибирский»), в которых высмеивала масонство. Так в комедии «Обольщенный» встречаются жизненные черты, напоминающие московских масонов. «Обманщик» направлен против Калиостро. В «Шамане Сибирском» Екатерина свела масонское учение к уровню шаманских фокусов. Сатира Екатерины, однако, не оказала большого действия: масонство продолжало развиваться, и, чтобы нанести ему решительный удар, императрица прибегла уже не к кротким способам исправления, как называла она свою сатиру, а к крутым и решительным административным мерам. Этому способствовало, что императрица с подозрениями воспринимала и свое окружение, имевшие связи с масонами Германии, Швеции, Англии. После пугачёвского восстания Екатерина II начинает с недоверием, а порой и с враждой относиться к идеям свободы личности и народного просвещения. Революция во Франции лишь убеждает ее, что такого рода идеи могут представлять для монархии опасность. К тому же в 80-х годах в Германии началось усиленное преследование тайных обществ, имевших отношение к масонству и иллюминатству. Их обвиняют в ужасных преступлениях, в стремлении низвергать троны, алтари, в отравлениях и убийствах. Хотя эти обвинения были голословными и никогда не доказанными, они заставили Екатерину по-другому взглянуть на российское масонство. Гонения начинаются с повышенного внимания к издательской деятельности в Москве Н. Новикова. Одновременно правительство стало преследовать и благотворительную деятельность новиковского кружка, под покровительством которого строились школы, больницы.
Особенностью русского масонства была его близость к православию. На запрос немецких масонов московские братья заявили, что обряды греко-российской церкви так сходны с масонскими, что нельзя сомневаться в том, что они имеют один источник. Когда Екатерина II затребовала у Московского митрополита Платона отзыв о православии Новикова, она получила ответ, которого не ожидала. Познакомившись с книгами, печатавшимися в типографии Новикова, митрополит не нашел в них ничего, подрывающего религиозные чувства или развращающего нравы.
Русские увидели в масонстве веру, просветленную разумом. Идеям французских философов о перерождении человека путем рационального законодательства они противопоставили «моральное перерождение». Вместо борьбы за реформы масоны ставили перед человеком задачу самопознания и самосовершенствования, воспитания любви ко всем людям, поскольку все – братья: отличием от идей французских просветителей было то, что просветители предлагали самосовершенствование путем научного познания бытия и, в основном, нацеленное на умы властителей народов, которые впоследствии и изменили бы законы, в масонстве же самосовершенствование достигалось путем просвещения достаточного количества людей, и уже на этой моральной единой волне происходили бы изменения в законодательстве, хотя и не отрицались одиночные пути просветителей-властителей, наподобие задач французских мыслителей – в общем и целом цели становились одинаковые – самосовершенствования личности, которое затем меняло бы их среду обитания.
Несмотря не на что в апреле 1792 г. Новиков был арестован и доставлен в Шлиссельбургскую крепость. Одновременно началось следствие в отношении других членов новиковского кружка, которое в Москве вел князь Прозоровский. Допросу подверглись Гамалея, Поздеев, куратор Московского университета М. М. Херасков. Конфискованные книги в количестве более 18.000 экземпляров были сожжены. 1 августа 1792 г. императрица подписала указ о заключении Новикова в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Новиков обвинялся в «гнусном расколе», в корыстных обманах, в деятельности масонской (что не было запрещено ни раньше, ни после), в сношениях с герцогом Брауншвейгским и другими иностранцами. Все эти обвинения указ относит не к одному Новикову, а ко всем его соучастникам-масонам; пострадал же один только Новиков, хотя даже не считался главой московских масонов. Даже князь Прозоровский был поражен исходом дела Новикова: «Я не понимаю конца сего дела, – писал он Шешковскому, – как ближайшие его сообщники, если он преступник, то и те преступники! Но до них видно дело не дошло»150.
Новиков, конечно, пострадал за свою слишком, по тогдашним понятиям, самостоятельную общественную деятельность: в 1787 г. он раздавал хлеба голодающим – значит, в России был голод, а разве это возможно при такой «Мудрой» правительнице; он строил школы, больницы – значит, государство не справлялось с этой задачей… Он выступал за всеобщее просвещение, за гуманные идеи к чему Екатерина уже успела охладеть; от Новикова императрице было много неприятностей. Наконец, обнаружилось, как утверждали полицейские, связи масонства с наследником Павлом Петровичем. Выяснением этих связей занимался следователь после ареста Новикова. Доказательств не было. Нашли письмо архитектора Василия Баженова, которому Екатерина поручила сооружение русского Версаля под Москвой (в Царицыно), предполагала коренную перестройку Кремля. Архитектор-масон посылал наследнику религиозные книги, изданные Новиковым с намерением, как считали следователи, «установить связь». «Преступления столь важны, – сообщалось в приговоре от 1 августа 1792 г., – что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однакож, и в сем случае следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость»151. Четыре с половиной года провел Новиков в крепости (в каземате Ивана Антоновича), терпя крайнюю нужду в самом необходимом, даже в лекарствах, хотя заключение его самоотверженно разделял доктор М. И. Багрянский.
Работы в масонских ложах в это время прекратились, и возобновились только по восшествии на престол императора Павла I, который в бытность Великим князем благоволил к масонам. На другой день после смерти Екатерины он освободил Новикова и всех, замешанных в этом деле; князь Куракин, князь Репнин, Баженов, Лопухин были вызваны ко двору и щедро вознаграждены. Новиков был заключен в крепость еще в полном расцвете сил, а вышел оттуда «дряхл, стар, согбен», он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности и до самой смерти, 31 июля 1818 г., проживал, вместе с поселившейся в его имении С. И. Гамалеи, почти безвыездно в своем Авдотьине, заботясь лишь о нуждах крестьян, об их просвещении и т. п. Другим важным занятием Новикова стало создание пятидесятитомной Герметической библиотеки, переписывая для нее наиболее важные масонские сочинения и считая своей главной задачей сохранение для последующих поколений духовного наследия масонства 70—80 годов.
Герметизм – религиозно-философское мировоззрение о доминанте природы закрытости, т.е. гармонии бытия, дошедшее с матриархата до эпохи эллинизма и поздней античности, носившее сексуально-эротический и эзотерический характер. Первоначально Гермес – фаллическое божество древнего культа плодородия, соответственно, гармонии мира, изображавшее гермами – четырехгранный столб, завершенный скульптурной головой. Согласно Геродоту, афиняне первыми из эллинов стали делать его изображение с напряженным членом и научились этому у пеласгов, у которых было священное сказание. Герма представляла собой каменную колонну с вырезанной головой Гермеса и подчёркнутыми половыми органами. Устанавливались гермы на перекрёстках дорог и, наряду с сакральной функцией, служили дорожными указателями. В 415 до н.э. гермы были уничтожены.
Во времена Рима гермы потеряли связь с фаллическим культом Гермеса и стали изготавливаться в виде прямоугольной колонны, на которую водружался бюст человека или божества. В позднейшие времена Гермеса стали называть Трисмегистом («трижды величайший») в связи с тем, что он вхож как в этот мир, так и в потусторонний. В древнем Риме Гермес был известен как Меркурий – бога торговли, прибыли, разумности, ловкости, плутовства, обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход в торговле, а также бог атлетов, покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников; покровитель магии и астрологии; посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство Аида; изобрёл меры, числа, азбуку и обучил людей, т.е., в общем и целом, бог очеловечения и мистерии.
Согласно последним исследованиям первоисточниками герметизма являются труды по мироустройству, написанные в духе эллинизма соединенные с христианскими представлениями. Позже к ним добавились тексты по алхимии, астрологии, медицине, магии. Все эти труды приписываются Гермесу Трисмегисту, древнеегипетскому жрецу, от имени которого как бы и происходит название данного религиозно-философского течения, хотя в действительности само слово «герма» является древнегреческим понятием.
Во всех землях имя Гермеса почиталось и становилось синонимом «Источника Мудрости», что само по себе подразумевалось быть таинственным, ведь даже в современном значении термин герметический обозначает – закрытый настолько, что ничто не может выйти, а также секретный, тайный. Последователи герметизма всегда держали в тайне свои учения, придерживались принципа молоко для младенцев, мясо для сильных мужчин, в том смысле, что все знание раскрывалось только немногим, прошедшим восхождение по ступеням их учения. Иначе говоря, последователи Гермеса немногим открывали, избитую для всех, тайну ступенчатого устройства мира, где мир это гармония, а гармония это искусство магии (поскольку само по себе переход от одной ступени к другой это чистая магия).
P.S.: Из своего предрасположения к закрытости (целостности) и стремления к состоянию «единения противоположностей», в результате которого силой иллюзии происходит новое становление, шаг – ступень – скачок, процесс изменения на числительной основе, в которой каждая ступень отрицает предыдущую, «сжигает за собой мосты», поскольку величина является собой и никакого дела не имеет до другой величины, мистика, копируя Божественное спасение, в вопросе перехода от смерти к бессмертию применяет свое качество личности, соответственно, личности величины, а отсюда, прерывисто-ступенчатое движение в виде движения по отрезкам-величинам, представляемое всем к ней обратившихся, образно говоря, такое прыгание по пням, процессом развития, причем, в стремлении перехватить пальму первенства утверждая, что мистическое развитие куда более лучше Божественного, поскольку оно расширяет границы: поскольку личность есть величина, величина – гармония, а гармония – бесконечность, – притом, замалчивая, что бесконечность является лишь мизерной величиной в другой бесконечности, и вообще «0», – посвященному открывается тайна бытия о бесконечности, положением, то, что нельзя, то можно (утверждение – антиутверждение) вносится вирус могущества выходить из установленных рамок Богом-Творцом, с логической внутренней подоплекой превозношения себя, т.е. отрицания своей немощности, дисгармонии (умеренной), и, соответственно, отрицания Бога, – но никогда мистическими силами не открывается высшее состояние природы магии – использование реальности как нереальность, чтобы нереальность создавала новую реальность, сильнее укрепляя тем волшебный процесс становления, – поскольку в гармонии ничто никуда не исчезает и ничто из ничего не появляется, то любое новое становление из ничего оказывается иллюзией, в действительности трансформированным элементом другого вида природы, что в масштабах потребностей целого народа становится невозможным, поскольку трансформирующей энергии не хватает, и поэтому в процесс волшебства соучастником вовлекается сам народ, подкрепляя тем энергией магию, которая, таким образом, становиться магией суперсилы – если в магии легко исчезают предметы, то также легко исчезают, переходят в нереальность, в «ничто», и целые народы, которые приносят затем новую реальность из состояния «ничего», т.е. посредству мистического рождения – через принцип половых органов и фактора соития…
Наиболее ярко, не тайно для всех (лишь называя иначе), герметическое учение выразилось в трудах итальянского мистика и философа Д. Бруно, германского мистика и философа Г. Гегеля, и германского по рождению мистика, философа и журналиста К. Маркса, в его работе «Капитал», с основной идеей достоинства вселенной, вследствие чего для человека, приведения его к состоянию достоинства, может быть лучшим только абсолютная гармония: принявшего его учение русскому (советскому) народу следовало бы для абсолютной точности и личного полного счастья кроме поклонения солнцу на всех сторонах света поставить у себя символикой фалловые феномены (совмещая это с древними славянскими знаками), впрочем, удачно ими замененные и сочетавшееся с их проарианским духом на своеобразные фаллогермаимитаторы – памятники человеку (и его ближайшим последователям), позаботившегося о водворении в России из глубины веков эпохи матриархата, только на этот раз духовно чистого, без примесей какой-либо низшей мистики, высший матриархат – матриархат под строгим присмотром отцовщины, что уже следствием должно привести к благоденствию нации, – в превозношение идей поклонения богу «Основной Рефлекс» – «Фалл», как символ духовной независимости и основы существования системы, её постоянного мистического возрождения, плодородия и благоденствия. Немудрено, что на рубеже XIX – XX вв., в век мистико-атеистических брожений, в русском обществе в самой царской семье появляется Распутин, как зеркало души русской нации, своими многочисленными половыми связями стремящийся просвятить, сделать особо приближенным к гармонии «Небес» и себя… и царскую семью… и всю Россию… – это был человек марксистского уклона, только его дух не прятался за вывеской благородного достоинства научной логики, был для всех, что-то вроде колдуна, хотя сам себя он причислял к православию, да и православие его долгое время не отрицало… Кстати, в комнате у Распутина висел портрет К. Маркса. Очевидно, этих двух разных с виду личностей, а точнее сказать трех – Маркса, Распутина и православие, соединяла невидимая нить, общий для них дух мистического обновления, в православии списанная с древнеславянской богини Мокошь икона Богоматери…
Поистине, нет ничего нового под солнцем, как сказано в самой мудрой книге, Библии, – грех пронизывал человека в далекой древности, пронизывает и в настоящее время. Грех был основой зарождающейся философии, где Божественное творчество несет отпечаток матриархальности, рождения, взросления и смерти, стал высоким идеалом, достоинством продвинутости смысла бессмыслицы. Это явление больной философии ярко продемонстрированно учителями-атеистами К. Марксом и Ф. Энгельсом, разработавшие, или точнее сказать, перенявшие от философов мистического направления, которые, в свою очередь, опирались на философию Древнего мира, теорию цикличного развития общества, что прямо таки своей цикличности доктринально стала противоречить теории развития, но, в то же время, находчиво выйдя из этого затруднительного положения (они вообще оказались весьма находчивыми в изворотливости парнями – супермистики) в идее как бы не абсолютного возврата назад, а пусть с небольшим, но все же с некоторым изменением, т.н. эволюционной ступенькой общественной системы, где, если быть абсолютно точным по превозносимому их учению, что Вселенная это величина, само развитие есть фактор антиразвития, и потому своей антагонистической суммарной природой предваряет историю человечества (и Вселенной) огромным циклом появлением из ничего в неминуемое вхождение в концовке всего в изначальное ничто, положение всеобщей бессмыслицы, которое, в свою очередь, опровергает состояние всеобщего развития, у авторов материалистической философии, как развитие общественно-экономических формаций, точнее сказать, саморазвития, т.е. рождения из ничего, рынка, капитала, производства, и достижения тем всеобщего счастья.
Бог сотворил мир, заложив основой гиперболические принципы, причем, в каждом случае уникальной структуры, например, биологический мир Земли по принципу обратной пропорциональности, так, что даже история человечества отражением этого процесса идет по соответствующей спирали – с каждым тысячелетием (а в последнее время столетием) познание природы ускоряется, параллельно катализируя, смекалистостью приспособления для собственных нужд, технологическо-технический прогресс. Однако этот фактор гиперболического изменения мистика, в свою очередь, на примере цикличных природных явлений, подверженному мистицизму человеку удачно выдает за цикличность, в примере образований многих цивилизаций и их последующей гибели, или линейность, стрессового состояния движения для мистики, и потому чем больше линейности, человеческой истории, тем больше стресса, художественно облекающееся регрессивным процессом, идущего по нисходящей линии от «Золотого века», который остался в прошлом, т.е. в состоянии полной гармонии «0», и лишь в поздней философии, XIX в., когда феномен ускоряющегося изменения становится явлением всеобщей обозримости, происходит некоторое приближение к положению гиперболы, но все равно тщательно скрывающееся за ускорением линейного типа, а для особо наблюдательных и вовлеченных в светский кругозор – за принципом «скачка» в спирали, которая все сильнее тяготеет к состоянию полного превращения в цикличность.
Человечество идет на поводу у мистики, которая предлагает ему решение той или иной проблемы в структуре простоты, что для мистицизма наилучшей формой является состояние «0», выражавшееся в структуре движения позицией всеобщей цикличности. Поэтому на момент времени появления материалистической философии идея исторических циклов, их смена, было аксиомой философского мировоззрения, и по этому поводу в истории мира сохранились многие труды. Так еще до начала нашей эры римский историк Полибий в 40-томной «Всеобщей истории» и китайский историк Сыма Нянь в «Исторических записках» рассматривали историю общества как круговорот, как цикличное движение. Идею больших исторических циклов выдвинул в начале нашей эры арабский историк аль Бируни; через пару веков эту идею развил Ибн Халдун из Туниса. В эпоху Возрождения идею циклов в историческом процессе высказал итальянский историк Вико. Нельзя не упомянуть и немецкое общество, которое также отметилось приобщенностью к мистицизму, их философ и историк Иоганн Гердер в конце XVIII в. в работе «Идеи к философии истории человечества» подчеркивал генетические начала в истории, периодические перевороты между эпохами космического масштаба. Поэтому выходцы из немецкой среды К. Маркс и Ф. Энгельс были лишь идеалистами старого мистического мировоззрения омоложивающейся цикличности мира, усердной прислугой гармонии, которые на этой основе во второй половине XIX в., подтянув мнение эволюционистов, обосновали идею периодической смены общественно-экономических формаций как глубинной основы исторического прогресса, причем оценив усложняющийся мир творчества, дух мистицизма задействовал хитрую комбинацию, сложность простоты, суммировав все отдельные факторы, получая в итоге продвинутый, супермистицизм, гиперреволюционизирующееся «единение противоположностей» – в этой суперсистеме цикличность стала причиной линейности в позиции «скачка», т.е., проще говоря, мистике ничего не оставалось делать, как признать факт мира сложной структуры, сама подстраиваясь, принимая сложную комбинацию, по принципу – если не можешь победить, надо возглавить движение.
Не стоит упоминать лишний раз, что общественная формация в первую очередь включает в себя религиозную культуру народа, его самосознания, связь с Богом, и как следствие – состояние политической стабильности и экономическое развитие. Разрабатывая свою теорию К. Маркс и Ф. Энгельс, укрепляясь трудами эволюционистов Ж. Б. Ламарка, С-И. Жоффруа, обосновали положение, по которому т.н. антагонистским способом производства предшествовал первобытнообщинное, или первобытно-коммунистическое производство. Согласно разработанному ими учению настоящего и будущего человечества на смену капиталистическому обществу должна прийти коммунистическая общественно-экономическая форма. Так появилось видение движения человечества, которое было названо развитием, и в которой фигурируют пять уже существовавших и отчасти продолжающих существовать формаций: языческая, как считается академически – первобытно-коммунистическая, которая в действительности вначале была мистическо-атеистического типажа – идеал мира гармонии, нежели языческой, лишь впоследствии принявшая форму классического язычества, затем более осмыслившая Бога – античная, феодальная и буржуазная, и еще одна, та, абсолютно идеальная, которой еще нет, но которая, по мнению основоположников марксизма, должна неизбежно возникнуть, реинкарнируясь из прошлого, впадением в обратное состояние развития, что значит, омолодившись – коммунистическая, т.е. вновь мистическо-атеистическая, но на новом витке мистицизма, иллюзии развития, абсолютного равноправия, свободы, достоинства всех, справедливости, что составляет вершину магической формы, несущее, тем самым, полное отрицание духовного мира, в «единстве противоположностей» наоборот его утверждая (в итоге получая состояние недоатеистов). Другими словами, выдвинуто учение достижения мистической истины, а вследствие этого, и благоденствия через скрытое соединение мистических позиций линейности и цикличности, сумма которых открывает взрывной потенциал исходной точки саморазвития, т.е. «ничто», внешне позиционируя лишь аксиому цикличности, поскольку линейность есть необходимое страдание мира мистического благоденствия.
Философы-материалисты предложили возврат к древним корням, принципам омоложения в поклонении характера целостности, с древнейших времен несущее солнце-лунно-фаллическую природу, что должно было поспособствовать движению вперед, т.е. с внешней атрибутикой некоторого производственного прогресса, которое, в свою очередь, непременно сподобилось бы достичь высочайшей степени при появлении гиперфактора полного уничтожения любой зависимости, т.е. конкуренции, что в «единстве противоположностей» несет позицию зависимости, причем при посредстве самой фаллической основы гармонии. Эта модель фаллического прогресса независимости фактически стала конкурирующей моделью Библейского положения независимого ни от кого и ни от чего Божественного абсолютного творчества – «Я творю все новое»152, что только воочию подтверждается сильно распространённым употреблением в XX и в нашем -начала XXI века, т.е. под началом Москвы, в разговорной речи российского общества выражений относящихся к половым органам, как отображение его духовной составляющей, культ нации, свидетельствующее о прежнем ориентире страны искания не Бога, а «Омолаживающее Достоинство», за которым должно последовать благоденствие, и чем больше, тем лучше… Упоминание в разговорной речи матерных слов создает (или подтверждает) направление следование общества к мистической целостности и ее принципам эволюционизма-омоложения, и чем чаще, тем сильнее, – нигде в мире так низко не сквернословят, как в России, – впрочем, в противоположности гармонии представляющееся высокой культурой изощренного этикета, – воплотительнице состояния справедливости и достоинства в наивысшем проявлении, государственной политике вектора самостановления из хаоса, для наглядного примера представляемое поговоркой (и попутными этому выражениями) распространенной особенно среди офицеров советской армии – «пьем все, что горит, yebom все, что шевелится», – корнями уходившее к стремлению к т.с. истинной старине русской православной церкви, т.е. ее неосознанного желания омолодиться, ну и, конечно, соответственно, среди солдат, и вообще простого люда – «нас yebut, а мы крепчаем».
Масонские поиски «истинного христианства» того времени, столь увлекавшие Н. Новикова, И. В. Лопухина, С. И. Гамалея, И. П. Тургенева и других масонов, станут предтечей концепции «достоинства христианства и не достоинства христианства», получившие широкое распространение в России в начале ХХ века. В поисках «истинного христианства» русскими масонами XVIII века находится одно из основных тенденций внецерковного направления православно-христианского реформаторства XIX – XX века, стремившееся обрести «истинное христианство», так сказать, в дополнение к христианству традиционному, лежащему в русле официальной церкви. Именно здесь лежали истоки взглядов русских философов-идеалистов конца XIX -начала XX веков, – стать настоящими христианами или через церковную атмосферу гуманизма, в искания истины и смысла происходившего, или посредству очищенного (высшего) гуманизма, подверженного скептицизмом ко всему потустороннему: и то и другое будет параллельно идти в России до самого прихода к власти большевиков, которые, прямо сказать, объединят и тех и других, отрицая и Бога и мистику построят сверхмистическое государство.



