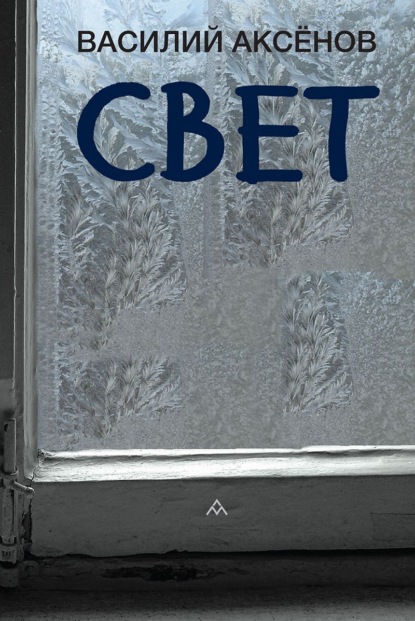
Полная версия:
Свет
Жили в Сретенске, как я уже сказал, несколько Маланий, но на ум, заслонив всех остальных, одна явилась – Маланья Григорьевна Скурихина. Была на моей памяти Маланья Хромая, а эта – Кривая. Прозванная так из-за настрогавшегося на левом глазу бельма. На сучок острый в лесу наткнулась этим глазом. По рассказам: бегом бежала от медведя, так испугалась, ещё в девчонках. Кривой уже и замуж выходила, но и с бельмом, жених ею не побрандовал: любовь пламенная у них была – не по расчёту.
Мужа её в сорок втором году призвали, в сорок втором же и убили его на фронте, под Ленинградом. Одна растила дочь и сына, двойняшек, родившихся перед войной. Сын Степан был и нормальным вроде с виду, но сумасбродом неуёмным. В четырнадцать лет, исколов и сложив крёстной поленницу дров, отведав у неё же на Первомай канунной бражки, угнал из колхозного гаража гусеничный трактор, смял на нём клубный палисадник, а потом завалил возле сельсовета телеграфный столб, и в результате стал насельником детской воспитательной колонии в городе Канске. Из колхозишка, благодаря тюрьме, вырвался и паспорт получил, и дал другим пример, как это сделать. Без паспорта тогда куда бы ты, колхозник, сунулся – только в соседнюю деревню да в раён.
Были и такие, говорят, ребята, хоть и немногие, двое, трое ли, что воспользовались этим способом – кто окна в магазине или в клубе демонстративно побил, кто в драке ножичком помахал, никого при этом не поранив, – лишь бы, пусть срок какой и отсидев за это, уехать из деревни.
Завербовался, как говорили, после колонии Степан на какую-то комсомольскую стройку в Заполярье, и в Сретенске с тех пор не бывал, мать ни разу не проведал и на похороны её не явился.
Дочь Зинаида, сестра Степана, была глухонемой. С рождения. В прошлом году ушла из жизни. От худой болезни.
Жила Маланья Григорьевна на соседней, параллельной нашей, улице, называвшейся Забегаловкой. Потому что с двух концов, чтобы попасть на неё, надо было вбегать в крутую горку, в угор, как говорим мы здесь. Огороды, наш, арефьевский, и их, скурихинский, смыкались, разделяла их лишь редкая изгородь из кольев и осиновых жердей – так поставленная, для близиру, и бороздой могли бы обойтись. На воротцах, выводящих из ограды в огород, висел у Маланьи Григорьевны на крюке или гвозде медный таз, ярко блестевший в солнечные дни, отправляя в глаза озорные золотые зайчики. Мы с Никитой, ума-то не было совсем, выбрали его как самую яркую мишень в обозримом пространстве. Первым, по старшинству, стрелял из тозовки Никита. Попал он или нет, мы не поняли, но таз не звякнул, или не услышали, с гвоздя не сорвался и даже не шевельнулся. Выстрелил я. И тоже вроде как промазал. И расстояние тут не великое – метров двести, вряд ли больше. А через секунду, наверное, две ли, воротца открываются, и появляется в них Маланья Григорьевна. Нас с Никитой – глупые-глупые, но – тут же пот прошиб холодный. Лук выходила пощипать тётка Маланья, окрошку, наверное, готовила. Нащипала стрелок луковых и скрылась за воротцами в ограде.
В тот день, поставив тозовку в кладовку, где ей и было место предназначено, мы с Никитой уже не стреляли.
Отца дома не было, был он в то время в Маковском, на каком-то убийстве, Маланья Григорьевна ничего не заметила, потому и шуму не подняла, и мы с братом скоро расслабились. Начало летних каникул, пока свободные – рано для ягод и грибов, им не сезон ещё, и для покоса ещё рано, прополкой грядок сестры занимались, – успеваем, пользуясь свободой, нагуляться (не было, правда, так, чтобы когда-нибудь успели, всё нам её, свободы этой, не хватало): отправились мы на следующий день в тайгу палить по шишкам, сосновым, пихтовым и еловым, и по прихваченным с собой в двух хозяйственных сетках стеклянным банкам и бутылкам. Пока все их не расколотили, домой не пошли – патронов были полные карманы, тех и не убыло почти – так ими были обеспечены мы, во что сейчас поверить трудно – прям дикий Запад. Но было, было, сам свидетель. Мало свидетель – и участник-соучастник.
Впрок от отца, пусть и не за это, мы с Никитой всё же получили. Нам и стараться, зарабатывать особенно не надо было. Не в духе прибыл он, отец, не в добром настроении, всего-то, и мы ему попались под руку. Не попадайся. Оплошали. Но так в тот раз сложилась ситуация, не в нашу пользу: отец, в дверях внезапно появившись, нам преградил отход – удрать не получилось.
Дня через два после этого, через три ли, поздно вечером, при вынырнувшей из ельника рыжей луне, под доносящуюся с танцплощадки музыку, беспрерывный пересвист засевших в картофельной ботве перепёлок и дружный стрекот кузнечиков на полянах, перебравшись из нашего в соседский огород, подкрались мы с братом к тем воротцам, на которых висел таз, осветили его, для полной видимости и уверенности, фонариком и обнаружили, что не было на нём ни пробоины, ни вмятины от пулек. Осмотрели доски вокруг таза, и там отверстий не нашли. Решили, что патроны устарели, ослабли, и пульки упали на землю, цели не достигнув. Бывает. Ведь не могли ж мы промахнуться, с нашим-то опытом. Конечно – нет.
Тогда и в голову прийти такое не могло, теперь подумаешь: и тут Бог уберёг – то ли меня и Никиту от Канской детской воспитательной колонии, какой другой ли, то ли её, тётку Маланью, более заслуживающую Божьего внимания, от ранения или от смерти, то ли наших родителей от горя и позора.
Огород скурихинский, каким он был тогда, таким и остаётся, на том же месте, но с другой уже изгородью – колючей проволокой в четыре ряда на листвяжных нетолстых, не ошкуренных столбах. Городские оккупировали заброшенный огород, картошку в нём сажают – да и ладно, пожароопасной дурниной – лебедой, коноплёй, морковником и крапивой – не зарастает, – а потом, ближе к осени, наезжая всей семьёй, под громкую музыку, русский шансон, низко бухающую из машины с открытыми дверцами, выкапывают и увозят восвояси.
А вот дома скурихинского уже нет – испилил, наверное, кто-то его на дрова. В моё отсутствие. Или разобрали и перевезли в тайгу, смастерив там из этих брёвен тёплую охотничью избушку. Стайку кто-то ли сложил, хлевушку или баню. И нет тех воротец, на которых висел когда-то медный таз, отправляющий в ясный, погожий день в нашу сторону заманчивые солнечные зайчики.
Ох, это Время.
Тётки Маланьи крестник тут же вспомнился. Жили они рядом в Забегаловке. Володя Могило (пусть и не Могила, но мы, вся наша околоточная компания, только так его и называли в детстве, на что он, молодец, никак не реагировал, у других тогда и хуже были прозвища, а тут и не прозвище вроде, просто в фамилии изменена одна лишь буква и ударение случайно сделано не там, где нужно, а потому и не на что тут обижаться). Одноклассник. Отслужив водилой срочную в Хабаровском крае, вернувшись на родину, женился на ровеснице, за которой в школе ещё, в девятом классе – десятый бросил, поступил в профтехучилище, – живя в яланском интернате, ухлёстывал, шибко уж глянулась она ему, и переехал из Сретенска сначала к ней в Ялань, а потом, в Ялани не найдя работы подходящей и с родителями её не поладив, вместе с уже беременной женой перебрался в Усть-Кемь, куда годом раньше переселился из Сретенска с семьёй его родной дядя. Днём Володя работал на шпалозаводе, а по ночам ловил самоловом красную рыбу, стерлядь и осетров, на Ислени. Из дому в тот злосчастный вечер, прихватив бутылку белой, чтобы было чем согреться в лодке, на рыбалку ушёл, а домой не вернулся. Крючок в руку, насквозь пронзив ладонь, воткнулся, и махом выдернуло рыбака самоловом за борт из казанки. Не успел освободиться от крючка и шнур перерезать – так, наверное. Не сам же в реку сиганул, причин для этого у него вроде не было, и не столько же он выпил, да и пил не первый раз, и все пьют, не он один – дело обычное, – в реку никто же не бросается, разве что искупаться ради отрезвления. Звёздной гулкой августовской ночью. На Погодаевской яме. Восемнадцать метров глубина. И течение дай боже. Смертельно опасную снасть после – знали, где он промышлял, – кошкой зацепили, на берег вытащили, и там – Володя. Улыбается – без губ. Всегда он, Володя, в одиночку рыбачил, без напарника: делиться не любил добычей – на свою семью горбатился. Оставил сиротами дочь и сына. Выросли уже, взрослые. И жену молодую – вдовствовать. Так, говорят, замуж она больше и не вышла, одного хватило разу. Я давно её, Зинаиду Могило, Малышеву в девичестве, не видел, со школьной поры, а если и увижу, вряд ли узнаю. Глаза у неё, помню, были разного цвета: один полностью – густого чая, а другой – наполовину голубой. И в школе звали её Панночкой. В честь той, что в гоголевском «Вие». Хотя обычная была девчонка, весёлая и добродушная. Вот по глазам, возможно, и определю. Конечно. Если расцветка их не поменялась.
Кстати, в семье своей Володя был Тарасом. Почему-то. Мы не вникали. Друга нашего Андрюху Устюжанина тоже иначе дома называли. Алексеем. Что тут такого, дескать, так бывает. Ну а прозвище у Андрюхи было Дурцев. И не мы его так прозвали, а его родной дедушка. И батогом, бывало, стукнет внука, если тот зазевается, не увернётся. Вредный Андрюха был, и получал. Чаще за то, что подворовывал табак у деда. Или махорку. В одиночку Алексей-Андрюха не курил, делился с нами.
День прибыл на полчаса, ночь настолько же укоротилась. На целых или только? В каких измерить единицах, кроме минут? Тридцать долей тихого ещё, зарождающегося ликования? Слабой пока надежды? Надежды неосознанной? На что-то. На Кого-то. Я в эту пору, глядя на закат вечерний и на утреннюю зорьку, начинаю оживать, и явно это чувствую. Как медведь, наверное, в берлоге, перевернувшись с боку на бок и немного приоткрыв глаза, чтобы в толсто и туго заснеженном окне-лазе своего временного жилища-спальни разглядеть слабый свет, смутно обещающий, что придёт всё же, как и всему в природе, конец зимовке долгой; раньше же, не обманывая, приходил. И поминал уже: с этого времени принимаюсь я, чтобы не забыть и не оставить что-нибудь важное и нужное, наполнять рюкзак, с которым отправляюсь каждым летом из Петербурга в Сретенск. Неизменно. Непременно. День прибывает – наполняется рюкзак. Можно судить по рюкзаку – насколько прибыл день текущий. К летнему равноденствию он уже битком и окончательно заполнен, готов – бери его и поезжай. Ну и, как правило: беру и еду.
Потеплело. Тридцать с небольшим. Для нас, чалдонов, не мороз. Четверо суток, не прерываясь, крепко вьюжило, плотных сугробов намело – мы говорим субои, не сугробы, что то же самое, – дорожки с верхом занесло, их расчищали и натаптывали заново. С утра сегодня погонял вяло по затвердевшему, как наст, полотну снега низовой ветер сухую, колкую курёху, к вечеру стих, в тайгу убрался, среди деревьев подметать, мышей пугая. Воздух без изморози сделался прозрачным, будто отсутствует, звёзды на небе стали ясными, лучистыми, и их число умножилось без меры, самые малые меж крупных обозначились – мерцают: не забывайте и про нас.
Можно на улицу и в одном свитере выйти – не замёрзнешь. После шестидесяти-то. В одном свитере, без телогрейки, и дров наколол и в дом их натаскал, к печке и к камину – про запас. Мама меня немного пожурила: разжарел, дескать, вот как простынешь, парень, и узнашься, будешь на улицу так вылетать, долго ли на себя накинуть что-нибудь, будто одёжи в доме нет, ну, мол, как маленький.
Угу.
Походил по дому, дрова в печке клюкой подшевелил, берёзовое полено, для жару, к осиновым добавил и в свою комнату подался.
Прохожу мимо.
– Ты почему в одних носках? – говорит мама. – Пол-то, как лёд, поди, холодный. Надень-ка валенки, будь добр.
Послушался, стал добрым – надел валенки. Отцовские. Моих здесь нет. Нет, правда, валенок и там, в Петербурге. Уютно в них – отцом ещё разношенные, и тепло его ещё, пожалуй, сохранилось в них. Хоть увози с собой – не будут лишними. Никита скажет: нет, брат, оставь, – и сам в них ходит, бывая здесь. Пусть будут тут – приветом от отца.
Раздвинул тяжёлые шторы, заменяющие двери, чтобы и ко мне доходило от печки тепло. Глянул сначала в окно, то чистое, без наледи, оттаяло, снизу лишь снегом запорошено, на дом, что напротив, затем – в ноутбук.
«Важные события 13 января».
1263 – битва у Терека между войсками Золотой Орды и хана Хулагу.
1703 – вышел первый номер газеты «Ведомости».
1872 – в России начала работу Служба Погоды, вышел первый прогноз погоды.
1910 – состоялась первая публичная радиопередача.
1912 – в Петрограде состоялось открытие арт-клуба «Бродячая собака».
1990 – армянский погром в Баку.
1991 – штурм советским спецназом телебашни в Вильнюсе.
В прошлом. История. Не Вечность.
К Вечности возвращаясь, вышел из комнаты. К телевизору подступил. Помедлил чуть, включать не стал: да что я там ещё не видел? Спросил у мамы:
– Будешь смотреть?
– Да нет, не буду. Если уж вечером… кино какое, передача.
– Пойду, – говорю, – прогуляюсь.
Желудок у неё расстроился, и меня, думаю, стесняется. Пойду, на самом деле, прогуляюсь.
– Ступай, ступай, – говорит мама, – засиделся. Меня не надо караулить – не убегу, – и улыбается. И говорит: – В гости к кому-нибудь зайди. Хоть повидаешься. Сколько живёшь, в деревне ещё не был.
– С кем повидаться? – говорю. – Тут никого из наших не осталось.
– Ну, в клуб зайди, – говорит мама. – Там-то полно, наверное, народу.
– А в клуб зачем?.. Кино давно уже не ставят. А для танцулек староват. Как ты? – спрашиваю.
– Как я… Да лучше всех. Жалуток только донимат, и чё такое утром съела?.. корочку хлеба пососала. Иди, иди, – говорит. – Я подремлю, устала чё-то, и ничего вроде не делала. Вот уж где горе-то, дак горе… самое тяжкое – безделье. Как же лентяям трудно жить. Так полежи да посиди-ка…
– Физзарядкой, – шучу, – займись.
– Займусь, – улыбается. – На части развалюсь, кто меня будет собирать?.. Если смогу, чуть-чуть в себя приду, картошки хоть сварю в мундире. Поешь с капустой или с огурцами. Грибы – в подполье надо лезть, я не смогу, дак ты спустись, если захочешь… То ходишь голодом – ослабнешь.
– Ну, отощал.
– И отощаешь.
– Не помешало бы.
– Удумал… Поди, не барышня какая.
Я усмехнулся: ну, времена такие… гендерная дисфория.
Сегодня мама не вставала с кровати. Занемогла маленько. Чай и поесть я приносил ей на подносе, устраивая его на табуретке рядом с кроватью. И аппетиту нет совсем. Так уж, немного поклевала. И кипятку полчашки лишь осилила. Без сахара, без мёда, без варенья.
– Ну вот, насытилась, Ванюха, отвела, – говорит, – очередь. А чё уж будет… ну, да ладно, ведро-то рядом.
Делая обычный обход по старикам, посетила нас сегодня новая медичка, смерила у матери давление, послушала сердце, оставила какие-то таблетки, сказала, как, когда и по сколько в день их принимать. Вырвав из записной книжки листочек, написала на нём номер своего мобильного телефона.
– Звоните, если что, – сказала мне, но на меня не глядя. – Зовите. Я или дома, или в фельдшерском пункте. Знаете, где?
– Конечно, знаю.
Надела голубой пуховик и голубую вязаную шапку, которые сняла и положила на стул до того, как подойти к маме.
– Спасибо, – сказал я. И спросил: – А как вас звать?
– Не за что, – сказала она, так же не глядя в мою сторону. – Валентина… Викторовна. До свидания.
– До встречи.
Ушла. Проводил её взглядом в окно. Там, где я расчистил, идёт ровно и смело, дальше, где не расчищал, – осторожно ступает, рукой в красной варежке балансируя, чтобы не упасть и не зачерпнуть снегу в красивые полусапожки. Смотрю – вижу – стройная. Скрылась в заулке. К старикам Мизоновым, больше там не к кому, направилась, дальним нашим родственникам по отцу. Тётя Наталья и дядя Егор, бездетные. Был ребёночек – заспала, был ещё один – хиленький, помер, и годика не прожил. Смирились, больше не рожали.
Глаза у неё, думаю, у новой медички, под цвет пуховика и шапки. И щёки розовые – от мороза. И волосы густые, светло-русые, на солнце, может быть, и золотые.
– Хорошая, – сказала мама.
– Наверное, – сказал я.
– Издалека откуда-то приехала. Оттуда вроде, где воюют.
– Не местная. У нас так: «хде» – не произносят.
– Да я, сынок, не понимаю, так, не так ли, кто как произносит… И дети есть, двое, – сказала мама, – а мужа вроде нет, то ли погиб, то ли в разводе… Детей сюда пока не перевозит. Живут где-то, у бабушки, может, у той, у другой ли. Я уж не спрашиваю, с разговорами не лезу. Нравится мне она – простая, вежливая, много не говорит.
Я промолчал.
– А Анна Карловна – лиса… Раньше лиса была, теперь уж чё там… полиняла. Заходила как-то, в ноябре ещё, ты не приехал, ко мне, взаймы просила – на лекарства. Дала, чё было, жалко бабу. Как шторка жёлтая вон… этот рак. Откуда взялся?
– И лет немного ей.
– Кого там… только на пенсию пошла. Болезнь на возраст не глядит.
Потоптался я по дому. Подошёл к вешалке. Оделся в отцовский полушубок, валенки и шапку. И себя им, Иваном Павловичем Арефьевым, почувствовал. Чу́дно.
– Ну, я пойду.
– Иди, иди.
– Ты без меня тут…
– Обойдусь.
– Ну если что, кричи.
– Нельзя кричать мне, напрягаться, – и улыбается. Понятно.
Прошёлся по селу. Умирает. На душе от этого невесело, совсем уж. Только небо всё то же над Сретенском – радует. Голубое-голубое. Как глаза у нашей новой медички, Валентины… Викторовны.
Встретил Колю Бармина. Того, что делал для моего погибшего племянника гробик-шкатулку. На два класса младше меня учился. И учился неплохо, на чатвёрки да пятёрки, и рисовал замечательно – малых детей и стариков, те уж как вылитые, получались, лес нарисует – как картинка, коня, собаку или кошку – ну хоть на выставку вези, на стену вешай. Поступать после школы никуда не стал, и никуда, если не считать срочную службу танкистом в ГСВГ, из Сретенска не выезжал. Сначала в колхозе работал, колхоз имени Дзержинского (ссылку очередную отбывал неподалёку тут Железный Феликс), как и все другие, развалился, кочегаром в школьную котельную устроился. Теперь, как школу закрыли, разными промыслами – грибы, ягоды, орехи кедровые, охота и рыбалка, дёготь гонит на продажу, если закажет кто, и бересту дерёт, – промыслами этими да пасекой держится. В детстве на девочку похож был Коля, и спутать можно было, кто его не знал. Глаза большие, серо-зелёные, с длинными ресницами, волосы светло-русые, с завитушками на висках. Девчонки, с ним встречаясь, пели: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, а то девушки придут, поцелуют и уйдут». Краснел Коля, смущался. «Колька у меня сисьнительный, – говорит о нём его мать, тётка Прасковья. – Как тока и жанился, не оробел. Ольга сумела, охмурила, не пропустила мимо рук. Без колдовства оно не обошлось, канешна». Отец его утонул в Кеми, когда Коле было семь лет. Божий человек был, муравья не обидит.
На свежем воздухе крепкий дух недавно выпитой самогонки исходит от Коли. Уж извини, Иван, малёхо дёрнул. Да ладно, ладно. Улыбается широко – скуластый стал, остяцкая порода проявилась, оттеснив русскую – рот полый, с редкими, чёрно-бурыми зубами, от табака и чая крепкого. Может, и вставил бы, но денег нет, да и без них оно не худо – не болят, не ноют от студёного, и к врачам с имя не надо обращаться. Щёки впалые – будто курил Коля, дым в себя, всосав щёки, втянул, дым после выпустил, а щёки так всосанными и остались.
Рассказал Коля, как два дня назад, когда сильно метелило и света белого не видно было, шёл он от Сани-кержака из-за речки, из Нижней половины, заблудился. Без навигатора же был. Услышал, а потом и разглядел, что трактор сена зарод из-за реки везёт кому-то. Пристроился сзади, решив, вот он меня и выведет, мол, куда надо. Заехал в чей-то огород трактор, тракторист сани с зародом отцепил и уехал. А он, Коля, стал ходить по глубокому снегу вокруг зарода и выхода из огорода никак не может найти, и в чьём находится он огороде, понять не может. Как кто-то водит, не иначе. Потом слышит голос Ольги – жена его – и думает, что ему чудится. Голос как с неба будто раздаётся. Нет, настоящая – предстала перед ним. Как лист перед травой, хоть и не звал её, не кликал. Палкой по спине его хорошо отоварила, он сразу и выход из чужого огорода нашёл и до своего дома скоро добежал, не промазал. Дома добавила жена, уже не больно, но обидно – мёрзлой метлой, руками тока закрывался, ушёл в подсобку ночевать, а чё поделашь, драться с ней, с жэншиной, не станешь; в подсобке бражка оставалась – тяпнул.
Поговорили о том, кто из знакомых умер, кто ещё жив, кто куда жить перебрался из Сретенска, новый кто сюда приехал. Да никаво, и кто сюда поедет, вымрут все старики, и Сретенска не будет. Ялань уж вон какой была, и чё осталось – поляна, голая почти… Сколько кому платят пенсии. Ему хватат, а и добавят еслив, против он не будет. Об Украине словом перебросились. Сын Коли, Игнат, ранен был под Авдеевкой, в стегно, лечился в Ленинграде, сейчас дома. Собирается обратно. Мать ревёт, не разрешает. Уедешь туда, дескать, руки на себя от горя наложу. А ты, мол, как? А что я, дескать… Парень взрослый, сам пусть решает. Да и кому-то надо… А мать, чё мать, поплачет, станет ждать.
И: заходи, дорогу знаешь.
И ты, мол, тоже.
Разошлись. Коля – не домой – в ларёк. За паперёсами, в последней пачке штуки три осталось, кончились, и уж за хлебом заодно, это жана уж приказала.
Я – к мосту, через небольшую родниковую речку Серебрянку, ниже моста, метрах в ста, впадающую в Кемь и разделяющую село на две половины, Верхнюю и Нижнюю. Плёс подо льдом и под толстым слоем снега, а шивера свободна – парит густо, всю зиму не замерзает. На ней бельё полощут женщины, и иордань не надо прорубать. Сейчас не видно ни одной: Старый Новый год встречать готовятся. Пожалуй.
Много домов, крестовиков и пятистенков, с заколоченными окнами, а где и вовсе с выбитыми уже стёклами и снятыми с петель дверьми, с провалившимися крышами. Тоскливо смотрятся, убого среди снега. Один ровно ещё стоит – недавно бросили его хозяева. Другой – круто покосился, уткнувшись в улицу, назад ли запрокинувшись. Летом они хотя бы прячутся в бурьяне и в бузине, быстро разросшихся, без человека, – тогда не видно их почти, скрывает зелень. В сохранившихся палисадниках голо и сиротливо стоят где берёза, где черёмуха, а где сирень или рябина – задумались или спят.
Тут жили те, тут жили эти. Перебираю в памяти односельчан, умерших или уехавших из Сретенска. А в этом доме – друг, а в том – девчонка, с которой первый в жизни раз поцеловался. Губы её, припухшие от непривычки и от черники синие, но пахнущие почему-то земляникой, волосы – сеном свежим с сеновала, кожа – рука скользит по ней, не остановится… Не думать лучше, легче не становится.
Ох, это Время. Ох уж это Время. То ли твой враг, то ли помощник.
В клубе – шумно, издалека уже было слышно. Молодёжь с вахты вернулась, на Новый год и Рождество, и Старый Новый год ещё отметят дома, – вальщики, подрывники, бурильщики. В бильярд, наверное, на пиво состязаются. На вахте сухой закон. Строго, чуть запашок – свободен, парень, лучше уж воздержаться, дома наверстать. А тут часть заработанных денег жёнам или родителям отдадут, другую часть просадят за неделю – имеют право. Летом приедут, машинёшку импортную бэушную приобретут. Эту разобьют, на другую, такую же, полный сезон калымить будут.
Не стал в клуб заходить.
Ельник вокруг зазеленел, освободившись с помощью ветра от упеленавшего его за тихую погоду снега, – стеной огородил Сретенск. Издавна. Были бы лыжи, сходил бы в тайгу. И идти туда теперь подумаешь – ноги или лыжи сломать – вырублено сплошь, пни, вершиннику навалено – не продерёшься. Камень возвышается над ельником, стволы реликтовых сосен на нём обагрены солнцем. Манят. Давно на Камень не взбирался. Далеко с него видать. Даже Ялань. Москвы и Киева не видно.
Тени на снегу – тёмно-синие. Словно в воде – в тени так небо отражается. Где тени нет, там снег слепит глаза.
Чуден свет Твой, Господи, чуден.
Домой вернулся.
– Ну и как? – спрашиваю.
– Да вроде подремала, полегче стало голове, – говорит мама. – Есть как захочешь, сам найдёшь. Промялся.
– Найду, конечно.
Новости с мамой посмотрели.
– Ай, – сказала она, – всё одно и то же. Или уж я ничё не понимаю, и мне так кажется.



