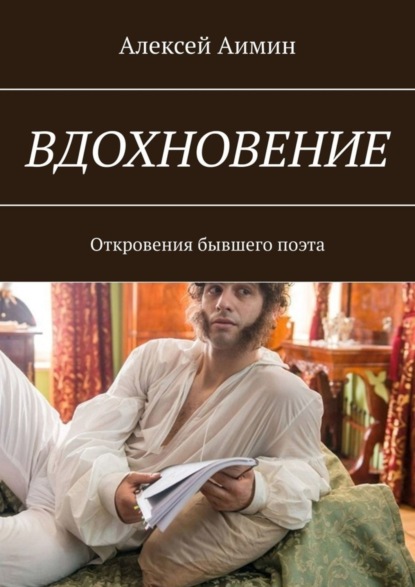
Полная версия:
ВДОХНОВЕНИЕ. Откровения бывшего поэта
Возвращаются единицы. В основном те в которых божий дар все же не смешивается с яичницей или омлетом жизни. Я тоже чуть было не смешал.
Позже понял, что мир огромен и воспринимать его можно по не обязательно через любовные порывы. Для этого надо было стать в какой-то мере циником:
Твоей руки, похоже, не добьюсь,Ведь птица ты высокого полёта…Когда поймаешь богача и идиота,В твои любовники, пожалуй, запишусь.В творчестве многое зависит от настроения и стечения обстоятельств. А еще постоянной готовности самого автора поймать самый нужный момент порыв Вдохновения. Лишь только с ним появляется неповторимый и образный взгляд на окружающий мир.
У каждого времени есть свои особенности подвигающие к творчеству. Неизменными и проверенными остаются любовь, вера и надежда. Чуть позже приходит мудрость – все они стимулируют творческий подъем.
В каждый жизненный момент этот коктейль неповторим. И так до тех пор, пока их возможности не сходят на нет. Все когда-то заканчивается.
Поняв, что пик поэтического творчества у меня остался позади, мелькнула мысль сотворить вот такой справочник:
«Как поймать Вдохновение».
Хотя тема эта сугубо личная, но общие моменты и приемы по его поиску и отлову есть.
То что вижу…
Каждый человек имеет свой взгляд на мир, на все то, что его окружает. И если его взгляд даже близок к истине и правдив, то пересказанный от одного человека другому происходят метаморфозы. Это хорошо отметил Максим Горький:
Слова имеют коварное свойство – искажать мысль
То, что истинные истории со временем становятся сказками знают все. Неудивительно, что через десятки поколений они были записаны в искаженном виде.
Из истории литературы
Предания старины превращались в красочные легенды и мифы, волшебные сказки и небылицы. Со временем к ним добавлялись нужные идиомы. Например, из сотен упоминаний и преданий о Всемирном Потопе, была принята легенда о ковчеге Ноя. А так как Ной был царем и потомком Адама в 10 поколении, то первородство сохранили только евреи. Остальные сгинули в пучине. А остальные или неизвестно откуда взявшиеся дикари и аборигены, возможно, потомки от обезьян. что доказал Дарвин. Так можно легко и до абсурда дойти.
Эту попытку перетащить "одеяло на себя" заметил Иисус, читая Тору. Он по иному понимал мир и обличал фарисеев в неправильном толковании истории.
Иисус считал, что все народы равнозначны, и каждый человек, независимо – царь он или раб имеет дар полученный от Бога – душу и он был настоящим ПОЭТОМ.
Такие проповеди иудеи считали крамолой, ересью и потому старались стереть след мессии на земле. Не исключено, что его записи уничтожались. Гонители не понимали, что тем самым пробуждают еще больший интерес к его личности делая его фантомным мифом – сверхчеловеком – пришельцем из ниоткуда. Ведь откуда он пришел в Иудею – тайна покрытая мраком.
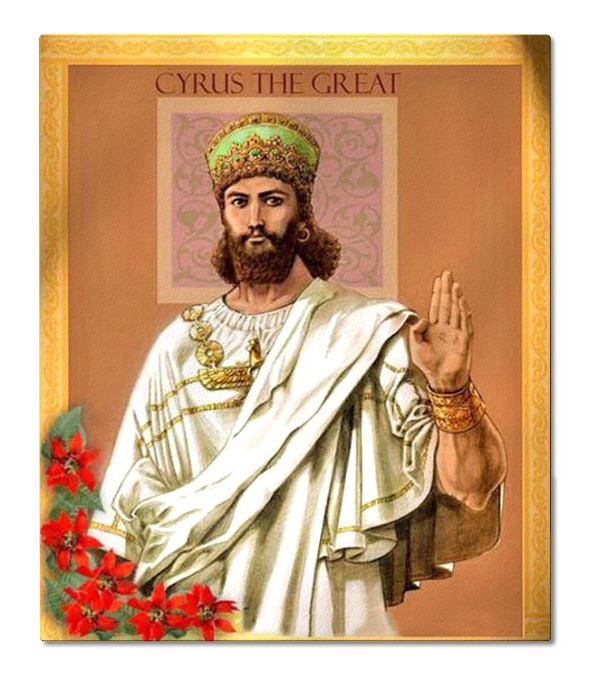
Заратустра – сочинитель первых гимнов
Жившие задолго до него пророк Заратустра начавший проповедовать как и Иисус в 30 лет, и певец Орфей, ставший проповедником примерно в том же возрасте, сочиняли гимны богам и природе. Но их поэтический слог все же сохранился.
В своих гимнах Заратустра вопрошал своего бога Ахуру Мазду:
«Что из Святого СловаИ самое могучее,И самое победное,И наиблагодатное,Что действенней всего?»И тот ему ответил:
это имя мое, которое включает все что есть лучшего на земле.Позже этот постулат вошел и в Библию:
«Сначала было Слово».Кто был первым автором – этого постулата неизвестно, да и не столь суть важно. И вообще это внутренние дела пророков и проповедников древности. Они до сих пор спорят кто у кого что украл. Индийские «Веды» и иранская «Авеста» считаются древнейшими книгами на Земле и в Ведах можно найти прототип души – Аватар (Божий дар). Слово осталось в нашем языке в чуть сокращенном виде – АВТОР.
Тем временем народная поэзия развивалась параллельно аристократической в виде припевок в танцах и обрядах колдунов и шаманов.
Известно, что песни появились раньше стихов.
Транспорт в древние времена был тихоходным – ослы, верблюды, волы. И потому на утомительно долгом пути люди просто бубнили о том, что видят:
Вон стоит один баран,А за ним еще один,На осле я проезжаюСледом друг мой Алладин.Такие «удачные рассказы» хорошо запоминались и обрастали подробностями – куда ехали, зачем и чего везли. Так эти дорожные напевки и превращались в былины и баллады.
Но не у всех хватало памяти чтобы их запомнить и исполнить. Чаще запоминали самые удачные куски, которые и стали самостоятельной формой творчества. Позже философы и поэты оценили краткость изложения и заложенный смысл. Так появился подтекст который и стал отличительной чертой стихов от песенных текстов. Песни же не любят смыслового перегруза. Они так и остались развлечением в дороге или ритмичным сопровождением танцев, как когда-то плясок у костра.
Нынешние доморощенные поэты просто лениво смотрят в окно под бормотанье телевизора и наставления жен, и занимаются словоблудием.
Рифмы любовь – кровь, грезы – слезы и подобные у них изобилуют. Примерно так как у одного моего знакомого «поэта:
Сижу, вдруг обуяли грёзы,И я с волнением пишу,Душа трепещет, душат слёзы,Я рукавом их всё сушу.От нежной веточки мимозыЯ вдохновения вкушу,Не выношу житейской прозы —Её поэзией глушу.Из спальни слышатся угрозы —Жену на дух не выношу!Меня влекут природы позы,О них я в основном пишу.Он часто покупал открытки и каллиграфическим почерком заносил на них свои шедевры. Эта открытка была с веточкой мимозы. А другой знакомый мне «кадр» совмещал свои наблюдения за природой и пышными соседками с заглядыванием в чужие шедевры. Помните у Есенина:
Твои руки – пара лебедей…Так он пошел дальше, вернее ближе к телу:
Твои груди – пара лебедей,Я не первый их ласкаю из людей!Вот так, где-то визуально, а где-то на ощупь доморощенные творцы ловили свое вдохновения с маленькой буквы. Оно приходило и к ним, но не прорастало в шедевры – почва была не та. Их страстные чувства вызывали сочувственную улыбку у редакторов:
«Восьмеркой губ подкрашенныхПроштампуй-ка свой день на мне…»«Нет подруг при встречах нелюбимых…»«Нет печалиться нам причины,Раздеваю, такое дело…»Эту волну авторов нахлынувших в последнее десятилетие ХХ века редакторы газет и журналов называли «поэтами от сохи». Позже их творчество вошло в раздел моей книги под этим названием.
Из личного опытаЛичные впечатления более интересны и значимы, если в них находят место и общественные. Даже если это общество состоит из нескольких человек. Они их обязательно оценят, как это было однажды в моей практике.
Как-то увидел свой стих на сайте профессиональных художников. Сразу вспомнил как его творил.

Студенческие грезы
В молодые годы не раз общался со студентами местного художественного училища – худющие! Они-то со мной и поделились, что самое сложное для них это рисовать продукты питания.
Однажды увидел этот питательный натюрморт, слюнки сглотнул, и написал:
На стене висит картина Неизвестного творца. А на ней кусок свинины, Зелень, хлеб и два яйца. Вот таким мазком азартным, Через добрых сотню лет, Перенесся в наше завтра Чей-то ужин, иль обед. С рамы лак давно слезает, Фон подтеками пестрит, И уже не возбуждает Натюрморта тусклый вид. Может автор зря постился, Чтоб натуру передать? Но чего-то он стремился Нам, потомкам подсказать. Что «не хлебом лишь единым» Не приемлет постулат, Явно видно по картине — Автор был обеду рад. Все меняется: погода, Чувство, нравственность и быт, И политика и мода, Только лишь не аппетит. И вот так неумолимо Мысль довел он до конца… На стене висит картина Неизвестного творца..Сразу, конечно, такое широкое полотно не создашь – переварить надо. А вот поймать идею или пару забойных строк – это элементарно.
Сам я тоже этим приемом пользовался – увидел, «сфотографировал» в памяти и прихватил первые строчки, что на ум пришли. А дальше воображение по воспоминанию зацепившего момента.

Главное – воображение
Однажды проходил по пригородной платформе. В конце перрона одиноко маячила фигура молоденькой девушки. Видимо опоздала на только что ушедшую электричку. Подойдя ближе, я увидел оригинальную картинку:
стоит стройная симпатяшка а у ее ног пустая бутылка из под водки в наборе с консервной банкой. В ее темном рассоле «плавали» несколько килек. Девушка к банке, как и банка к девушке, никакого отношения не имели, – но какова картина!
она меня никак не могла оставить равнодушным.
ДЕВУШКА С БАНОЧКОЙ КИЛЬКИ СТОЯЛА – зафиксировалась в голове не совсем «стройная» по лексике строчка. Придя домой, я тут же продолжил не меняя:
Девушка с баночкой кильки стояла,Стройная милая очень особа,Банка у ног её скромно лежала,Кем-то открытая – явно на пробу.Четко уложены, плотно, рядками,Листик лавровый, накинув как шубку,Кильки, застывшими малость глазами,Девушке нагло смотрели под юбку!Картина продолжала стоять в моих глазах, и я уже хотел добавить, что и сам бы не прочь оказаться на месте той кильки или что-то подобное, однако вовремя остановился.
А зачем?
Картина завершена, а все последующие рассуждения могут лишь ухудшить ее. Пусть каждый дорисовывает и раскрашивает ее на свой вкус. Да и вообще всякие добавки-штришки к уже достаточно завершенному произведению – это болезнь начинающих авторов.
Вроде бы все сказано и тут добавка всплывает которая не усиливает, а наоборот смазывает впечатление.
Мое правило:
Чтобы стать поэтом, надо научится ради единства замысла жертвовать несколькими удачными строчками.
Чувства извне
Будучи материалистом, в тонкие материи я особо не верил. Может потому с музой Эрато у меня отношения не сложились. Несколько любовных стишков и все.
Брошен был моими музами как несерьезный претендент на спутника жизни. Все шуточками отделывался. посвящая музам короткие комплименты:
Нет! Не забыть мне изумительные строчки!На лямках у твоей ночной сорочки.– — —Не раз, не два с тобою было мне приятно,Занятно, – что это было все бесплатно!А потом жизнь закрутила своей неустроенностью, переездами, службой в Советской Армии. Череда встреч с уникальными людьми – диссидентами и и сотрудниками спецслужб, бомжами и дворянами отвлекли от любовных дел.
Вернувшись к творчеству лет через пятнадцать в качестве поэта-юмориста пересмотрел свое отношение к мифическим персонажам, в том числе и к Музе, чуть повзрослевшей жеманной даме. Почитал своих соратников.
Валерий Пивоваров самокритично отмежевался от ее настойчивых приставаний:
Напрасно Муза дивный слог пыталась вставить…Вчера меня посетила Муза и ей пришлось вызывать Скорую…Ко мне тоже одно время приставала. А тут еще, помню, комары и мухи замучили. Вот и родилось непонятно что:
Меня раз муха укусила,Ну а затем еще комар.Потом вдруг муза посетила,Но от нее какой навар?От мухи запах неприятный,От комара на коже след,Короче, есть навар бесплатный,От музы ничего же нет.Ее не тронуть, не пощупать,Обнять нельзя и ощутить,Бывает, ляпнешь ей вдруг глупость —Она перестаёт любить.Ещё и фыркнет, отвернется,И может даже убежать.Догнать? Вернуть?Да перебьется.Ведь завтра прилетит опять!Редко кому из поэтической братии доставались Музы, на которых возраст не сказывался.
Личное мнение:
Как мужики к сорока начинают бегать на сторону, так и юные музы покидают сорокалетних.

Музы привлекают и будоражат – это их обязанность
У меня и после Эрато постоянной музы не было. К тем самым сорока, тоже стал отличаться непостоянством.
Если остаться в мифической теме, то я пытался «закадрить» Муз посерьезней:
Эвтерпу – лирическая поэзия;
Талию – комедия;
Клио – история.
Даже пытался флиртануть с Полигимнией – песни и гимны. Но выбрать одну так и не удалось. Думаю, из-за любознательности и жадности – хотелось всего и сразу.
Вначале, «набивая руку», я как многие начинающие вступил на испытанную веками стезю: что вижу – то пою. При такой творческой постановке присутствие Музы не обязательно. К тому же Муза – это все же дама, и не во все уголки и закутки ее можно брать с собой:
Там в тишине, за дверью туалета,Где ведра, швабры, трубы, вентиля,И где журчит прохладная струя,Конечно же, не место для поэта.Но в глубине, под крышкой унитаза,Куда бежит хрустальный водопад,Две звездочки далекие блестят…Ах да, конечно, – это же мои два глаза!Главное в этом изысканно-изящном оформлении – правда жизни. А музам нужна приятная лесть. И вообще – о чем с ними говорить?
Взял Александра Сергеевича томик открыл. Нашел где он предупреждает свою подружку:
Веленью Божию, о муза, будь послушна,Обиды не страшась, не требуя венца,Хвалу и клевету приемли равнодушноИ не оспаривай глупца.Из личного опыта
На самом деле как в сатире так и в юморе как-то обходился без них. Вдохновляла игра слов работавших на поднятие, если не духа, то настроения слушателей.
Сначала признали в низах – во дворах, в пивных и закусочных, в компании друзей. Там оценили мой незамысловатый юмор:
РасставаниеИсчезают: водка, пицца,Расплываются все лица,Рот немного с перекосом,Ты уже в тарелке носомИзучаешь винегрет.Мы пошли, – тебе привет!На работе тоже оценили мою сатиру и иронию к роли наших новоявленных политиков:
РазвилкаПойдешь налево, – флаг нести заставят,Пойдешь направо – там обокрадут,И только прямо – к ордену представят,Представят точно! – Только не дадут.Неудачные поиски
Постепенно стали вырисовываться первые достойные, как я считал, произведения. Хотя с высоты прожитых лет они отдают наивностью:
Я прадедов не знаю имена,а им, возможно, это неприятно.И кроме этого еще есть пятна —не только лишь от кофе и вина.Испачкан весь, и малость даже морда,хотя живу, и чту всегда закон,не бабник и не пью одеколон,не очень жадный и не очень гордый.Но сероват. Лишь лацканы блестят.Ничто не радует, не греет, нету лоска.А мысли, – мысли тоже как обноски —по мелочам пестрят, пестрят, пестрят.Я чувствую весь в пятнах непомерно —пытаюсь счистить что-то, и отмыть.А может плюнуть, да и с ними жить?Чего я мучаюсь? – Дурак наверно…Но когда пошел стучатся в литературные издания, наткнулся на сплоченные ряды конкурентов и литераторов старой закваски. Не подпустили даже близко. Только потом понял почему. Индивидуальность, смелость и критика признанных кумиров никогда не приветствовались.
Зато быстро понял, что для творческих союзов и литературных объединений никак не подхожу – не стадный.
Ближе к сорока люди становятся прагматиками и даже скептиками. Именно в этом возрасте я вернулся к творчеству, став в годы реформ безработным. Мечты остались в прошлом. Пришли совсем другие чувства с отрицательной оценкой происходящего.
Тогда я еще считал, что отсутствие Вдохновения, на которое жаловались поэты – это прикрытие неумелости. Если ты знаешь, что хочешь сказать, умеешь правильно расставлять слова и знаки препинания, то чего уже проще.
Исследователи творчества Омара Хайяма утверждают, что этот выдающийся математик и астроном писал рубаи, складывая их, как кирпичики, из подходящих слов. Я тоже провел поэтический эксперимент и попробовал написать свежо и интересно о самом заурядном действе в ванной комнате.
Вот что из этого получилось:
Как мягко бьет струя из душа,Чуть разгоняя кровь мою,И греет тело, греет душу,Я на макушку воду лью!Шампуня мне на все хватило,Мочалка тихо шелестит,Ах, мило, до чего же милоПод нею кожица скрипит!На пену я смотрю глазами —И вправду, чем еще смотреть?И шевелю в воде ногами,Приятно – просто обалдеть!Потом мохнатым полотенцемЯ, начиная с головы,Тру шею, грудь в районе сердца,Потом аппендицита швы.Вопрос возник под вашей бровью,Читая эту всю фигню? —Что чистота – залог здоровья!Я только к этому клоню.Оказалось, что нарабатывая поэтические навыки, я подготавливал почву для своих последующих встреч с Вдохновением.
А тогда во времена реформ и перестройки я похоже зачерствел… От постоянных перемен в жизни – инфляция, дефолт, смена должностей от сторожа до директора. В то время было одно спасение – забор, стена или хотя бы скорлупа. Но был и другой способ – чисто русский:
Я жизнь решил через себя всю пропускать,Через себя теперь её фильтрую,Но вот пропустишь дрянь, за ней другую,И снова фильтры надо спиртом промывать.И вот после такой промывки мозгов вдруг Музы стали появляться. Иногда такие встречи бывали даже неожиданными:
Бармен не тот смешал коктейль…Всё в голове перемешалось:Упругость губ, духи «Шанель»,И снизу поджимает малость,И хевви-метл, и два по сто,На фильтре яркая помада.Вопрос глупейший: – А ты кто?Она мне: – Я твоя баллада,Твоя поэма, твой сонет,Я муза легкого веселья.– Ты насовсем?– Конечно, нет, я ухожу,Подруге передай привет.– А как зовут? – Она в ответ:– Да тоже Муза,Только тяжкого похмелья…
Муза легкого веселья
Такие случайные связи имели тяжелые последствия. Все эти прилеты и улеты и их надо было оптимизировать, систематизировать… Короче, Вдохновение надо было «застроить».
Постепенно отношение к стихам стало меняться.
С концепцией создания стихов по подобию собирания детского конструктора я не соглашался. В малых формах это в принципе возможно, например, поймать отдельного журавля, механически балагуря-каламбуря:
Нет, не забыть мне изумительные строчки,На лямках у твоей ночной сорочки!Так что же делать ждать Вдохновения или искать?
А может почерпнуть опыт из чужих попыток поймать силки на Жар-птицу?
Но для начала надо заякориться, собраться с мыслями и оглядеться. Может пока до максимума освоить прием – то что вижу? Ведь даже предметы имеют свою индивидуальность. Начал со своей однокомнатной:
Характер, знаю, есть у всех предметов —Предметов тех, которые люблю.Вот зеркало моё – оно с приветом,С приветом тем, что сам себе я шлю.Прошел в комнату, потом на кухню. Вдохновения нигде не видно. Вернулся к зеркалу и поймал главную строчку – последнюю.
Светильник мой, хоть старый и немодный,Но создает интим, а с ним – уют.А вот стакан – ну до того он подлый,Пока в него чего-то не нальют!Вот пепельница, из неё окуркиТорчат, как будто чёртика рога.Ведь те, кто курят, – это полудурки,Как я, но и она мне дорога.Предметы все, что в жизни окружают,Мне тем близки, что существуют наяву,Лишь только отраженье раздражает —Я всё же с ним по-разному живу.Мое правило:В любом произведении самыми значимыми должны быть первая и последняя строчки.
Азы творчества
Вдохновение… Оно придет, просто надо быть к этому готовым. Решил проследить путь с самого начала: что я в багаже скопил поначалу?
Заимел грамотность на уровне средних классов школы. Три первые буквы нашего алфавита Аз, Буки, Веди в старорусском языке означало. – я буквы знаю. Это как у всех поэтов и писателей.
А вот дальше духовное накопление у гениальных творцов шло спонтанно – без какой либо цели. У каждого поэта есть фундамент из способностей и навыков полученных в детские и юношеские годы. Покопался в своем детстве и юности где все осваивал сам совершенно бездумно.
Или кто-то вел?..
В 70-80-х найти советы начинающим творцам было очень сложно. Тем более семья у меня была рабоче-крестьянская. Лишь иногда на застольях песни пели и басни рассказывали.
Фундаментом стало народное творчество скверов, кухонь и подворотен. Там рассказывали анекдоты про армянское радио и Чапаева. Дворовые стишки собирал и тайком записывал. Например, сериалы о маленьком мальчике. Впитывал необычный и оригинальный юмор, типа:
Маленький мальчик доллар нашелСпрятал в карман и в «Березку» пошел.Долго отец ходил в комитет,Деньги вернули, а мальчика – нет.«Березка» – сеть магазинов в СССР торгующих на валюту. А комитетом нас пугали на каждом углу. И хотя в «Березку я ни разу не заходил, в комитете на Лубянке приходилось.В школе собирал переделки под классиков.Над седой равниной моря,Над расщелинами скал —Гордо реял буревестникИ метал на скалы калПопадалась и доморощенная эротика (этого слова мы тогда не знали). Подделки под Есенина и Маяковского приводить не буду. Если скромненько, то это было примерно так:Зачем любить? Зачем страдать?Ведь все пути ведут в кровать…Так может проще, вашу матьВ кровати все и начинать?Позже все же узнал, что для уровня добротного стихоплета достаточно знать три основных вида рифмовки:
1. парная рифма – первая строка рифмуется со второй, третья с четвертой и так далее. Попробовал все.
В качестве примера:
Гулял однажды в своей округе,Решил зайти я к одной подруге,Вошел в квартиру – там как на свалке,И муж три года как на рыбалке.2. перекрестная рифма – первая строка рифмуется с третьей, а вторая с четвертой. При этом стихи, имеют четкое подразделение на четверостишия:
Сирены милицейские орут,И слышен топот мчащихся студентов,Вы спросите: – А от чего они бегут?А я скажу: – Бегут от алиментов.3. опоясывающая рифма – первая строчка рифмуется с четвертой, а третья со второй. Она обычно придает стиху мелодичность и грустинку:



