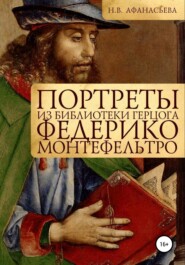 Полная версия
Полная версияПортреты из библиотеки герцога Федерико Монтефельтро
«Сумма теологии» была написана Фомой Аквинским для студентов-теологов. В ней давался полный систематический обзор католического учения. По каким-то причинам Фома Аквинский бросил работу над «Суммой теологии». Позднее она была закончена его секретарём и другом Реджинальдом. Из-за осуждения и борьбы вокруг работ Аквинского теологию продолжали учить по Петру Ломбардскому.
Последние годы Фома Аквинский провёл в Неаполе, где когда-то начиналась его учёба и служение ордену. В январе 1274 года папа Григорий X пригласил Фому Аквинского участвовать на церковном Соборе в Лионе. 7 марта по дороге в Лион Фома Аквинский умер.
Ровно через три года 7 марта 1277 года епископ Парижа Тампье вторично издал указ о проклятии, на сей раз 219 положений, касающихся еретических утверждений языческих и мусульманских философов. Он грозил отлучением от церкви всех тех, кто осмелится защищать эти положения, а также всех тех, кто будет слушать защитников. Несколько осуждаемых утверждений принадлежали Фоме Аквинскому. В том же марте 1277 года учение Аквинского осудили в Оксфорде. Споры вокруг учения Аквинского не прекращались. Первыми на защиту своего знаменитого собрата встали доминиканцы. Общее собрание ордена, защищая репутацию Аквинского, признало его учение ни в чём не противоречащим католической религии. Постепенно работы Аквинского были признаны выдающимися трудами.
В 1323 году, через 49 лет после смерти Фомы Аквинского, авиньонский папа Иоанн XXII причислил его к лику святых. В 1325 году по указанию епископа Парижа положения, касающиеся учения Фомы Аквинского, были удалены из списка осуждённых положений.
Все работы Фомы Аквинского посвящены богословию, и на первый взгляд он ничего не сделал для развития рационального мышления, в отличие, например, от Альберта Великого. В настоящий момент громадную «Сумму теологии» Фомы Аквинского изучают только специалисты. Тем не менее, именно Фоме Аквинскому обязаны сдвигу, произошедшему в сознании средневековых мыслителей, приведшему, в конце концов, к победе «рационального» в исследовании природы. Для того чтобы немного представить, как это произошло, начнём издалека.
Вспомним древо познания в Библии. Его плод напрямую связан с грехопадением. В раннем христианстве отношение к рациональным знаниям было пренебрежительным. Апостол Павел писал в своём послании: «мудрость мира сего есть безумие перед богом» – I Кор. 3:12. Знаменитый писатель III века Тертуллиан утверждал: «Христианская догматика не может быть рациональной», «Верую, потому что абсурдно». То есть в положения христианской догматики можно только верить, их в принципе нельзя осмыслить.
Такие взгляды просуществовали достаточно долго. В Эрмитаже висит картина середины XV века работы Филиппо Липпи. Она называется «Встреча Блаженного Августина и мальчика на берегу реки». Картина повествует о тщете познания. Августину приснился сон, что он встретил ребёнка, пытающегося ложкой вычерпать воду. На замечание Августина, зачем тот занимается неразумным действом, мальчик ответил: «А ты сам, не пытаешься ли вычерпать неисчерпаемую мудрость Всевышнего?».
Понимание несоразмерности человеческого существования по сравнению с Богом приводило людей к осознанию ничтожности человеческих возможностей. Считалось, что только вера в Бога является путеводной нитью к истине. Святой Августин не уставал повторять: «Если не уверуете, не поймете» (Nisi credideritis, non intelligetis).
Бог бесконечный, и не в силах человеческий разум его постигнуть. Отсюда делался вывод: истина может быть открыта только через откровение, если только Бог ниспошлёт видение истины. Снисходящий божественный свет не зависит от умственных усилий и рациональных рассуждений человека. Главным источником мудрости и авторитетом считалась боговдохновенная Библия.
Трудности в определении способностей разума начинались с вопроса: как ограниченным разумом человек может понять что-либо о бесконечном Боге? Однако простодушный человек мог задать вопрос: почему кто-то решил, что человеческий ум конечен (прямая дорожка к всеобщему Уму Аверроэса), или задать более крамольный вопрос: почему все уверены, что Бог бесконечен? Может, это и так, но откуда берётся уверенность? И что такое бесконечнось Бога? От этих вопросов можно отмахиваться, как от надоедливых пчёл, но они всегда присутствуют.
Неуёмное любопытство церковью осуждалось. Приведу слова Святого Августина, вернее не его самого, а приписанные ему Петраркой в «Моей тайне»:
«…Ибо накопляются без счёта идеи и образы видимых вещей, входят через плотские чувства и, будучи впущены поодиночке, толпами теснятся в недрах души; они-то отягощают и приводят в замешательство душу, не созданную для этого и неспособную вместить много уродства. Отсюда эта чумная рать химер, которая раздирает и дробит ваши мысли и своим пагубным разнообразием заграждает путь светоносным размышлениям, ведущим к единой высшей цели».
Появление работ Аристотеля заставило многих задуматься. Аристотель, создавший свою теорию, возможно где-то и ошибался, и его надо критиковать, но выкинуть все, что создал Аристотель, не было возможности. Однако Аристотель был язычником и не знал истинного Бога. Он пользовался только рациональными построениями, на него не сходило откровение Божие. Потому надо было разобраться с самими рациональными построениями. Фома Аквинский как раз и защищал возможность обратиться к разуму в поисках истины.
Философы всегда указывали на опасную способность фантазии человека заставлять разум отвечать на вопросы, не имеющие отношение к действительности. Известно, что человек может представить себе несуществующих животных, например дракона или единорога. Как относиться к заявлениям: «У единорога нет рога» или «У кентавра львиная голова»? Естественно, у единорога есть рог и у кентавра голова человека. Но как можно ошибаться по поводу несуществующего? В попытке реабилитировать разум, дабы признать, что от него тоже есть польза, Фома Аквинский задался вопросом, как отделить знание о реальном мире от химер человеческой фантазии. Следуя Аквинскому, на вопрос можно ответить приблизительно так: свойства фантастических существ определены предварительной договорённостью людей. Тогда в чём же разница между кентаврами и лошадьми? Фома учил: творения человеческой фантазии ограничены, их нельзя изучать, как можно, например, изучать лошадей. Создания Бога «существуют». Они не творения человеческой фантазии, они творения Бога. Творения Бога, с которыми сталкиваемся в мире, мы воспринимаем с помощью чувств и изучаем с помощью разума (за лошадью можно наблюдать). Вот он, поворот от враждебного отношения к более благожелательному по отношению к чувственному познанию и рациональному осмыслению. Фома Аквинский твёрдо придерживался той точки зрения, что озарение гораздо более важный способ познания, чем чувственное восприятие и рациональный анализ, но их нельзя исключать как метод поиска истины.
Отвечая на упрёки теологов, Фома писал:
«…Не мне, бедному монаху, отрицать, что вам принадлежат ослепительные алмазы мудрости самой совершенной математической формы и излучающие чистейший звёздный свет. Да, вы владеете этими сокровищами; они существуют до того, как мы успели о них подумать, не говоря уже о том, чтобы потрогать или послушать.
Но я не стыжусь признаться, что мой разум питается моими чувствами; о чём я думаю, во многом зависит от того, что я вижу, слышу, осязаю. Все эти ощущения настолько, насколько это касается моего разума, я вынужден считать реальными. Я не верю, что Бог создал человека только для особых, возвышенных размышлений, которым вам посчастливилось иметь возможность предаваться. Я верю, что существуют промежуточный мир фактов, становящийся через наши чувства объектом разума. Разум, как представитель Бога в человеке, властвует в этом мире. Правда, что люди, по своей природе, ниже ангелов, но они выше животных и всего того, что их, людей, окружает. Конечно, человек может быть жалким, и даже очень жалким. Но то, что смог постичь один человек, доступно и другому, и, если старый язычник по имени Аристотель поможет мне на моём пути, я смиренно поблагодарю его».
В своих усилиях по реабилитации рационального мышления Фома привёл рациональные доказательства бытия Божьего, коих, как известно, ровно пять. Сейчас может вызвать усмешку, что в своих доказательствах Фома приписал функции перводвигателя Аристотеля Богу. Но надо понимать, что с помощью учения Аристотеля Фома брался объяснять христианские догмы, которые всегда считались откровениями и в доказательстве не нуждались. Фома был уверен, что вопросы метафизики можно и нужно обсуждать с помощью рациональных рассуждений. Именно для подтверждения правомочности рациональных доводов он предпринял свою попытку. По мнению Фомы Аквинского, рационально рассуждая, можно получить ответы, которые хотя и будут неполными, но не будут и ложными, тогда как другие теологи были убеждены, что только озарение истинной веры позволяет избежать искажений в понимании утверждений, касающихся существования Бога.
Фома Аквинский не искал доказательство существования Бога как отправную точку для разговора с атеистами, которых на тот момент просто не было. Он считал, что врождённого, но, тем не менее, не очень ясного знания о существовании Бога недостаточно, и приводимые доказательства помогут воздержаться от греха тем, на кого воздействуют рациональные доводы – например, сторонникам учения Аверроэса.
Фома глубоко и искренне верил в Бога и католические догматы.
«Простое зрелище порядка и целенаправленности, господствующих в мире, достаточно для того, чтобы показать нам, что не слепая природа произвела вещи по какой-то необходимости, но что их свободно выбрало мудрое провидение». Переведя на современный язык, Фома усомнился в том, что для объяснения развития мира достаточно привлечь вероятностный подход или что-нибудь типа гениальной гипотезы Дарвина.
Чем отличается «озарение» в постижении религиозной истины от догадок исследователя, следующего рациональным рассуждениям и делающего открытие? Почему вообще происходит переход от «не знаю» к «знаю», от «не понимаю» к «понимаю»? Почему Господь снисходит до людей и открывает им истину? Возможно, наука в наши дни и не имеет чёткого ответа, но теология XIII века ответ сформулировала, и во многом благодаря Фоме – чтобы люди могли спастись. Способность воспринимать истину с помощью рациональных рассуждений Фома Аквинский считал одним из даров Святого Духа.
Фома приоткрыл дверцу для исследования природы. Можно долго обсуждать, в чём Фома был прав, а где ошибался, привнес ли он нечто совершенно чуждое религиозному мировоззрению или, наоборот, своими рассуждениями дал возможность развиваться католическому учению. Оставим это дело философам и теологам.
На алтаре в церкви Святой Екатерины в Пизе, построенной в 1341 году, висит картина работы художника Франческо Траини «Триумф Фомы Аквинского».
Позднее, приблизительно через 100 лет, картину повторил с небольшими изменениями Беноццо Гоццоли. Картина символизирует победу христианства над мусульманским учением. На картине Аристотель и Платон демонстрируют свои книги католическому философу. У ног Фомы – поверженный Аверроэс. От книги, которую держит в руках Фома, исходит сияние Истины.
Жильсон Э. Томизм. Пер. Г.Д. Вдовиной. М.–СПб.: Университетская книга 2000.
Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. М.: Издатель Савин С.А., 2003.
D'Arcy M. C. Thomas Aquinas. London, E. Benn limited, 1930.
Steenberghen F. van. Philosophical movement in the thirteenth century. Edinburgh, Nelson, 1955.
Weisheipl J.A. Friar Thomas d'Aquino: His Life, Thought, and Works. Oxford, Blackwell, 1975.
Дунс Скот
Fides quaerens intellectum.
Вера ищет понимания.
Св. Ансельм Кентерберийский «Слово к внемлющему» (Proslogion).
При изучении исторического материала часто приходится прилагать усилия, чтобы мысли не уходили слишком далеко в сторону, а внимание не распылялось. Интересных фактов много. Отдельные находки приходится откладывать, надеясь, что когда-нибудь удастся к ним вернуться. В то же время некоторые проблемы долго лежат без движения, так как целенаправленные консультации со всевозможными энциклопедиями не дают ответа. Небольшим, но раздражающим своей неподатливостью, был вопрос, что означают жесты персонажей на портретах из студиолы, в частности, такой выразительный как у Дунса Скота [Рис. 40]. Похожие жесты можно видеть у Боэция и у Фомы Аквинского. Ответ нашёлся в книге Лучиано Келеса «Студиола Урбино». Боэций, Фома Аквинский и Дунс Скот считают, приводят доводы. Жесты персонажей квалифицируют их как логиков и схоластов.
Похожий жест принадлежит ангелу на картине Караваджо «Святой Матфей и ангел» [Рис. 32]. Но обсуждение картины Караваджо придётся отложить. Она была написана более чем через сто лет после портретов из галереи Монтефельтро и к излагаемым событиям отношения не имеет. И всё-таки, любопытно, какие доводы приводит ангел евангелисту Матфею?..
Последний великий представитель схоластики и, как говорят, её разрушитель Иоанн Дунс Скот родился не позднее 1266 года в Шотландии, умер в Кёльне 8 ноября 1308 года.
Дядя Дунса Скота по отцовской линии, Илия Дунс, занимал высокий пост в ордене францисканцев и, возможно, благодаря нему Дунс Скот вступил в Орден меньших братьев. Это произошло в Оксфорде в 1281 году. К тому времени Оксфордский университет существовал около ста лет и около полувека в Оксфорде преподавали и учились францисканцы. Глава Оксфордского университета Роберт Гроссетест был первым ректором францисканской школы в Оксфорде. Сам Роберт Гроссетест никогда не был членом ордена, однако он пользовался авторитетом как в светских учёных, так и в церковных кругах, и его пригласили возглавить францисканскую школу. Роберт Гроссетест прославился не только теологическими трактатами, но и работами по физике, астрономии, оптике. Его считают одним из основателей экспериментального метода. В своих работах Гроссетест божественную силу свет подвергнул всевозможному анализу и различным экспериментальным проверкам. Гроссетест читал лекции францисканцам в Оксфорде в течение шести лет до своего назначения епископом города Линкольна в 1235 году. При нём монахи за короткое время достигли невероятных успехов, как в схоластических дискуссиях, так и в обсуждении вопросов морали, необходимых для проповедей. По свидетельству современников, братья-францисканцы были столь увлечены лекциями Гроссетеста, что шли босиком по грязи даже в самую холодную погоду к своему учителю, а затем часами слушали его сидя на полу. Созданная Гроссетестом францисканская школа в Оксфорде стала одним из наиболее важных образовательных центров Европы.
В своей деятельности Дунс Скот отдал должное увлечению вопросами физики. Он довольно подробно изучал вопросы, относящиеся к пространству, времени, движению, к существованию вакуума. Проблема вакуума первоначально возникла как теологическая проблема. Из чего Бог создал мир? Существовало ли что-нибудь помимо Бога до возникновения мира? Аристотель полагал, что мир существует вечно и вакуума быть не может. Фома Аквинский, наоборот, руководствуясь Библией, настаивал на том, что мир был создан из ничего, то есть из вакуума.
В XIII веке начался процесс переосмысления положений религии. Происходил поворот к реальному миру. Рациональные объяснения и экспериментирование вытесняли толкование Библии как основного метода познания. Большую часть в ломке старых представлений проделали сами богословы-схоластики. Деятельность Дунса Скота – яркий тому пример. Разрушительная работа Дунса Скота происходила как бы изнутри. Его называли «Тончайшим доктором» за пристрастие подробно обсуждать труднейшие вопросы и подвергать сомнению устоявшиеся истины.
В Оксфорде Дунс Скот провёл тринадцать лет (1288–1301). Сначала учился, потом преподавал. Он читал лекции по курсу теологии. По рассказам, у него было 3000 учеников. Как известно, любую цифру, приведённую в средневековых источниках, надо уменьшить, по крайней мере, раз в десять, ибо к цифрам в ту эпоху относились как к литературному приёму. Поэтому лучше сказать, что у Дунса Скота было много учеников.
Руководители францисканского ордена заметили успехи Дунса Скота и приняли решение направить его в Париж для получения учёной степени доктора богословия. Диплом парижского университета в те времена означал международное признание. В 1302 году Дунс Скот отправился в Париж. Однако в 1303 году его работа над докторской диссертацией была внезапно прервана. Причиной стали события европейского масштаба – борьба французского короля Филиппа IV Красивого с папой Бонифацием VIII.
Папа Бонифаций VIII взошёл на апостольский престол благодаря отречению предыдущего папы Селестина V. Отречение папы не предусмотрено уставом католической церкви. В связи с этим недруги Бонифация VIII обвиняли его в узурпации власти, а заодно в ереси и безбожии. Говорили, что он отрицал бессмертие души, божественность Христа и существование Бога. Сейчас эти утверждения проверить невозможно, но известно, что Бонифаций был прекрасным специалистом по каноническому и гражданскому праву, а также хорошо знал философию Аверроэса.
Папа Бонифаций VIII терпимостью не отличался. В 1302 году он опубликовал буллу Unam Sanctum, в которой сформулировал принцип управления миром:
«Два меча находятся во власти Церкви: меч духовный и меч материальный. Материальный меч должен быть поднят для защиты Церкви, духовный меч поднимает сама Церковь. Духовный меч в руке священника, материальный – в руке короля и рыцарей, но вынимать его из ножен можно лишь с разрешения священника…»
С такой формулировкой французский король согласиться не мог.
Чтобы продемонстрировать национальное единство в борьбе против папы, Филипп IV в июне 1302 года пригласил в Париж представителей трёх сословий – духовенства, дворянства и горожан. В Лувре состоялось собрание, на котором было принято решение о созыве Вселенского собора с целью низложения папы.
Студентам-францисканцам, учившимся в университете, учинили допрос, кого они поддерживают – папу или короля? Приблизительно половина францисканцев, а именно восемьдесят семь человек, и среди них был Дунс Скот, отказались отречься от папы. Всех их выгнали из университета и велели в трёхдневный срок покинуть Париж. В ответ папа Бонифаций VIII запретил Парижскому университету присваивать степени по теологии, гражданскому и каноническому праву.
Дальнейшая судьба Бонифация VIII сложилась трагично. Он готовился опубликовать буллу, в которой объявлял отлучение Филиппа IV от церкви. Узнав о намерениях папы, Филипп приказал арестовать Бонифация VIII. Папу схватили в Италии, недалеко от Рима, в его родном городе Ананьи. Во время ареста были разграблены дворцы, принадлежащие племянникам папы, и сожжён кафедральный собор. Через три дня сторонники папы сумели его освободить и привезти в Рим. Папе в это время было 86 лет. Полагают, что в Ананьи его пытали, и в Риме папа уже был сломленным человеком. Он ничего не ел, бился головой об стену, боялся любого, кто пытался приблизиться к нему. Через месяц папа Бонифаций VIII скончался.
Следующий папа, доминиканец Бенедикт XI, пробыл на папском престоле всего восемь месяцев, его отравил какой-то молодой монах. В 1305 году папой был избран архиепископ Бордо Бертран де Го, взявший имя Климента V. Новый папа в Рим не поехал. Он вызвал кардиналов во Францию, и церемония вступления в должность происходила в Лионе в присутствии французского короля. Климент V вообще никогда не был в Италии. В 1309 году он выбрал своей резиденцией Авиньон. Город находился под контролем Франции, хотя формально принадлежал Королевству Неаполя и Сицилии. Так началось авиньонское пленение римских пап.
Когда папа Бонифаций VIII умер и страсти ненадолго улеглись, Дунс Скот возвратился в Париж, защитил докторскую диссертацию и начал преподавательскую деятельность. Однако он вскоре покинул Францию. Совершенно неожиданно в 1307 году Дунс Скот был отозван орденом и направлен в Кёльн. Возможно, руководство ордена желало оградить его от каких-то враждебных действий французов. Рассказывают, что во время прогулки со своими учениками, Дунс Скот получил письмо от главы францисканского ордена. Едва успев прочесть письмо, он немедленно отбыл из Парижа. Далее биография Дунса Скота становится совсем невнятной и быстро обрывается. В Кёльне он недолго преподает и в ноябре 1308 года умирает, отчего – неизвестно. Дунс Скот был похоронен во францисканской церкви вблизи Кёльнского собора.
Как видите, большую часть биографии Дунса Скота занял рассказ о Бонифации VIII. Тут ничего не поделаешь. Биографические сведения о Дунсе Скоте настолько скудные, что одно время считали, что такого человека вообще не было, а его имя выдумали францисканские оппоненты Фомы Аквинского и использовали в качестве собирательного псевдонима.
Великий философ всё-таки существовал, на то есть неоспоримые доказательства в университетских реестрах, францисканских архивах и письмах современников.
Основные работы Дунса Скота носят названия по месту его преподавательской деятельности: «Оксфордское сочинение», «Кембриджское сочинение», «Парижские сообщения». Все его работы, хотя и в разной степени остались незавершёнными.
Как и все схоласты Дунс Скот видел своё предназначение в постижении и прояснении вопросов веры. В своём трактате «Бог и его создания» он приводит слова из Екклесиаста (1:8): «Все вещи трудны», сказал Соломон, и тут же указывает на причину, почему он так считает: «Потому что язык человека не в состоянии их объяснить». (Отметим, что цитата Дунса Скота не совпадает с русским классическим переводом библейской фразы.)
Дунс Скот поставил себе цель защитить христианство путём более точных формулировок положений католического учения.
За особое значение, которое Дунс Скот придавал понятию воли в связи с проблемой всемогущества Бога, его называют родоначальником волюнтаризма. Всемогущество Бога – один из труднейших вопросов теологии. Логически противоречивые вопросы типа может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять, теологи отметали сразу. Их больше интересовало, насколько ограничивали всемогущество Бога законы природы. Законы природы не противоречат формальной логике, и, казалось бы, Бог, будучи всемогущим, может их нарушить. Попутно возникал вопрос, всегда ли в природе может быть реализовано то, к чему можно прийти путём логики и рационального мышления? Что выделяет из всех возможных реализаций бытия то, что реализуется? Как возникает в природе сложная «реализуемая» структура? Нельзя же всерьёз считать, что, разлив случайно краски на полотне, даже разливая их очень много раз, можно получить портрет Моны Лизы. Так и природные образования, живые и неживые, достаточно ли для их существования игры природы в случайность? Доискиваясь до первопричин, можно пытаться распутать клубок причинно-следственной связи, но тогда упрёшься в какой-нибудь первый двигатель, как это произошло у Аристотеля. Насколько необходимо допустить существование непознаваемого, которое в принципе нельзя описать причинно-следственной зависимостью.
Дунс Скот такое непознаваемое ввёл. Выделяющим фактором Дунс Скот считал волю Бога. Всё, кроме самого Бога, зависит от его воли. В своём творчестве Бог свободен, ибо свобода есть свойство воли. Дунс Скот также утверждал, что Бог производит то, что хочет и то, что любит. Божественная свобода для разума человека недоступна.
Дунс Скот учил, что законы природы – это те формы, в которых Бог создал природу. Стабильная и одновременно развивающаяся природа подчиняется в таком виде контролю со стороны Бога. Поскольку Бог создал природу и намерен её сохранять, то часть явлений (как, например, восход солнца) стали необходимыми.
Бог не мыслим без абсолютной свободы воли, в то время как природа действует по законам строгой необходимости. Природные изменения подчинены всяческим законам, например, закону сохранения энергии. Воля же сама избирает, причиной каких следствий она станет.
По аналогии с божественной волей Дунс Скот трактует волю человека.
Всякая воля есть госпожа своих действий. В момент выбора человек всегда может сказать «да» или «нет». Скот отверг то, что мы называем детерминизмом, а именно, что наш выбор, как и другие явления природы, обусловлен цепью причин до нашей жизни и вне нашей власти. По Скоту, именно выбор человека абсолютное начало всех последствий, следующих за этим выбором. Поэтому Дунс Скот настаивал, что теология в первую очередь наука практическая и учит в первую очередь поведению человека.
Ко времени Дунса Скота экспериментирование как метод выяснения истины завоевывал всё большее уважение. Согласно Скоту, истинное (правильно сформулированное) метафизическое положение (то есть положение, относящееся к учению о Боге и происхождению мира) никогда не противоречит эксперименту. Всё большее число работ посвящалось экспериментам и их рациональным объяснениям. С другой стороны, нельзя не заметить, что работы выдающихся схоластов и их уточнения положений теологии приводили к пересмотру взглядов на многие представления и положения в филологии, химии, астрономии, физике. Например, изучая вполне «божественные» проблемы, Дунс Скот пересмотрел принцип Omne quod movetur ab alio movetur «Ничто не движется само по себе» – всё, что движется, приводится в движение чем-то другим. Автор принципа – Аристотель. В физике Аристотеля отличие двигающего (или, по определению Аристотеля, – двигателя) от движимого – кардинальное. Исследуя причинную цепочку событий и определяя, что чего движет, в конце концов прийдём к Перводвигателю, или Вечному двигателю, который сам по себе является неподвижным.

