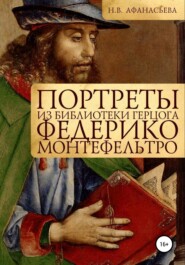 Полная версия
Полная версияПортреты из библиотеки герцога Федерико Монтефельтро
(Пер. С.К. Апта).
Выдуманный автор выдуманного текста носит имя Альберт Второй. Гессе хотел, чтобы при чтении эпиграфа читатель вспомнил Альберта Великого, знаменитого немецкого схоласта и своего соотечественника.
В понятие «душа» на протяжении веков вкладывали разный смысл. Бог вдохнул душу в Адама, или, как у Микеланджело, привнес в первого человека указующим перстом. И хотя Микеланджело творил гораздо позднее Альберта, его изображение связано с более древними представлениями о душе, чем у Альберта Великого.
На теорию души Альберта есть смысл посмотреть, не вдаваясь, что нового внёс он сам, а что заимствовал у Аристотеля или Авиценны. В его рассмотрении, казалось бы, сугубо богословской темы появились черты научного исследования. Хотя его современники утверждали, что когда у Альберта возникали трудности, ему во сне являлся апостол Павел и объяснял ему непонятные места.
В Средние века полагали, что душа руководит телом, и все чувства назывались силами души. В отличие от современных представлений считалось, что существуют не только пять внешних чувств, органы которых соединёны нервами с мозгом, но и несколько внутренних чувств (обычно четыре или пять), непосредственно расположенных в ячейках мозга. Определение пяти внешних чувств труда не представляет: зрение, слух, обоняние, осязание и распознавание вкуса. Альберт, следуя Авиценне, вводит ещё пять внутренних чувств: «здравый смысл», воображение, фантазия, оценка и память.
Английское словосочетание common sense чаще всего переводят на русский язык как «здравый смысл», что абсолютно соответствует современному использованию этих понятий в обоих языках. Но английское словосочетание, в отличие от русского, сохранило историческое звучание. Его буквальный перевод – «общее чувство».
Наблюдая, как поёт птичка на красивой ветке сирени, или занимаясь приготовлением особо изысканного блюда, мы включаем не одно, а сразу несколько внешних чувств. В обязанности «здравого смысла» или, лучше сказать, «общего чувства» входит создание в мозгу человека единого образа предмета, воспринимаемого одновременно разными внешними чувствами.
Примерно понятно, что такое и за что отвечают воображение, фантазия и память. Работу ещё одного внутреннего чувства, «оценки», проще пояснить на примере волка и овцы. Этот пример чаще всего приводили древние авторы. Овца, увидев впервые волка, убегает, почувствовав его враждебность. Почувствовать враждебность ей позволяет некоторая внутренняя сила души, «оценка» или способность определить, насколько приемлемы намерения объекта (волка), для того, чтобы приблизиться к объекту или убежать от него. (Более простой пример: когда человек накладывает себе еду в тарелку, он может оценить заранее, сколько он хочет и сколько он может съесть.)
Понятие «оценки», на взгляд совершенно безобидное, корнями уходило в языческое прошлое, и во времена Ренессанса, много позднее времени Альберта Великого, привело к формулировке «Человек – мера всех вещей». Это знаменитое высказывание принадлежит греческому философу Протагору. В отличие от Протагора, большинство греческих философов учили, что истина одна, вне времени и как бы неподвижна. Её поиски можно осуществлять только с помощью логики и дедукции. При этом всегда действует закон исключённого третьего. Эти положения были приняты христианскими мыслителями, и все логические построения схоластов подразумевали такую точку зрения.
Учение Протагора и его последователей было иным. По их представлениям, знания можно получить из отбора чувственных восприятий. Внутри человека существует как бы фильтр, пропускающий одну информацию и задерживающий другую. Этот фильтр у разных людей совпадает не полностью. У каждого есть своя индивидуальная составляющая, и она зависит от предыдущего опыта и состояния человека. Пробуя воду рукой, один человек скажет, что она холодная, другой скажет, что она тёплая. Один скажет, что она приятная, а другому она будет представляться нейтральной, «никакой». Множественность греческих богов и их воздействие на человека вполне позволяли объяснить «оценку», не впадая в атеизм, но само понятие «истина» приобретало относительное значение. Пока рассмотрение ограничивается горячей или холодной водой, это никого не пугает. Сложнее согласиться с неоднозначностью понятий «хорошо – нехорошо» или «грешно – не грешно». Сам Альберт до такой опасной черты свои рассуждения не довёл. Тем не менее, он заявлял:
«Когда между ними [философией и Откровением] нет согласия, то в том, что касается веры и нравственности, нужно больше верить Августину, чем философам. Но если бы речь зашла о медицине, я больше поверил бы Гиппократу и Галену; а если речь идет о физике, то я верю Аристотелю – ведь он лучше всех знал природу».
На основе представлений, взятых в основном у мусульманских философов и врачей, Альберту удалось создать одну из первых европейских теорий психологии. Альберт связывает разные степени абстракции с разными этапами прохождения образа по ячейкам мозга, где расположены внутренние чувства. Есть у него своё объяснение сновидений и влияния работы сердца на чувственное восприятие.
То, что Альберт сыграл значительную роль в формировании представлений о восприятии чувствами, широко признавалось его современниками. Его единственного цитировали по данному вопросу наравне с Аристотелем, Авиценной и Аверроэсом. Созданную им теорию можно было обсуждать, исправлять и развивать дальше.
Теория высшей нервной деятельности человека сейчас интересует немногих. Она занимает место работающего винтика в огромном механизме современной цивилизации, и ею занимаются профессионалы. В истории становления теории высшей нервной деятельности вúдение Альберта представляется промежуточной картинкой в бесконечно меняющейся картине мира.
Воздействие души на человека было только одним из очень многих вопросов, которым посвятил свою деятельность Альберт Великий. Он с большим уважением относился к Аристотелю, но сказать, что учение Философа было его самым важным увлечением, было бы неправильно. Христианский теолог Альберт Великий преданно служил католической церкви. Его скорее характеризовала открытость к инакомыслию, хотя и его сумели вовлечь в религиозные споры.
В исторических документах имя Альберта Великого (брата Альберта Тевтонского) в первый раз появляется в официальном документе, датированным 14 мая 1248 года. Как доктор теологии он принимал участие в публичном споре, посвящённом осуждению Талмуда. Судя по документам, Талмуд был конфискован у французского рабби кем-то из представителей папской власти. После тщательного изучения экспертами было найдено, что в книге содержатся отвратительные нападки на истинное учение, бесчисленное количество ошибок и богохульство. Такое сочинение невозможно терпеть в христианском обществе, и, следовательно, оно должно быть официально осуждено. Среди сорока подписей есть и подпись брата Альберта Тевтонского, мастера теологии. Исходя из этого документа, мы ничего не можем сказать о взглядах Альберта, кроме того что он официально поддержал позицию папы римского и французского короля. Но вполне возможно, что он совершенно искренне считал Талмуд опасной книгой.
Альберт Великий был мистиком. Слова «мистика» и «мистический опыт», как их подразумевали в Средние века, не следует путать с мистификацией и колдовством. Мистический опыт означал непосредственное общение с Богом, внутреннее озарение. Поиски такого состояния озарения привели, например, к изучению природы света.
Альберта Великого отличала почти детская доверчивость ко всякого рода сведениям. В Средние века любили составлять своего рода энциклопедии, куда наряду с изложениями правдивых фактов включались самые невероятные истории. У Альберта Великого их полно.
«Роза – это трава, цветок которой наиболее известен. Возьми её чуток и чуток горчицы и ещё ножку мыши, повесь всё это на дерево, и оно не будет давать плодов. А если упомянутое положить около сети, то в неё соберутся рыбы…».
«Чтобы женщина призналась в том, что она совершила, поймай живую водяную лягушку, удали язык и снова помести её в воду, а язык положи на сердце спящей женщины, и она правдиво ответит на вопрос».
Таких примеров у Альберта Великого сотни. В настоящее время эти истории годятся разве только в качестве прелестных сказок. Но сколь много сегодняшних представлений будет казаться ерундой или сказками – покажет время.
В XIII веке происходила расчистка пространства для научного мышления. Эту работу осуществляли западные христианские теологи, и начало этой работе положил Альберт Великий. Некоторые усматривают иронию в том, что монах-доминиканец оказался первым современным философом, заложившим основы научного мировоззрения.
Г. Гессе. Игра в бисер. СПб.: Амфора, 1999.
Грацианский Н.П., Сказкин С.Д. Хрестоматия по истории средних веков. Т. 2, Часть I.
Albertus Magnus and the sciences: commemorative essays. Edited by Weisheipl J. A. Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1980.
Leff G. Paris and Oxford universities in the thirteenth and fourteenth centuries. New York, Wiley, 1968.
Siraisi N. G. Arts and sciences at Padua: the studium of Padua before 1350. Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1973.
Фома Аквинский
В Средние века католическая церковь стала той силой, которая объединяла и вдохновляла людей на свершения и подвиги. Готические соборы восхищают нас архитектурной музыкальностью и фантазией. С другой стороны, поражают и крестовые походы, несколько похожие на коллективное сумасшествие. Кажется невероятным, чтобы жители огромных стран повсеместно бросали жильё, работу, семейный очаг и отправлялись на Восток отвоевывать у неверных Святую Землю и Гроб Господень. (Неудавшееся великое переселение европейских народов.) Поостережёмся обвинять церковь во всех прегрешениях эпохи, также как и приписывать только ей все достижения. Однако несомненно, что влияние католической церкви на образ жизни и творчество людей в Средние века было определяющим.
Сейчас уже никто не возьмётся за строительство собора, заранее зная, что на его возведение понадобится около сотни лет. Также сомнительно, что найдутся учёные-смельчаки, способные перечесть хотя бы основные религиозные трактаты схоластов. Работоспособность средневековых богословов была удивительной. Про одну из многочисленных «Сумм», а именно «Сумму теологии» Александра Гельсского Роджер Бэкон шутливо заметил: «Книга весит приблизительно столько, сколько может свезти крепкая лошадь». Трактаты схоластов напоминают современные учебники по высшей математике. Если пропустил при чтении какое-то определение или не понял небольшой пассаж, то дальше можно не читать, текст становится китайской грамотой. Поэтому возникает неотразимое желание захлопнуть книжку и никогда в неё больше не смотреть. Лежала она целый век без движения, пусть и дальше лежит.
Слово «схоластика» происходит от латинского scholastica, которое в свою очередь происходит от греческого scholastikos – школьный, учебный (schole по-гречески – «школа».) В XIII веке теология (или богословие) оформилась как университетская дисциплина. Схоласты были в первую очередь педагогами, перед которыми стояла задача объяснить истины веры. Они собирали, анализировали и систематизировали христианские догмы и защищали их против всех мыслимых и немыслимых возражений. На теологических факультетах университетов учились многие священники, в том числе и представители католической церковной элиты. Почти все кардиналы и папы римские имели университетское образование.
Когда-то достижения схоластов сочли пройденным этапом на пути к возобладавшему приблизительно с XVI века более точному научному подходу. Сейчас преобладает критичное отношение к достижениям Ренессанса. Философы в очередной раз с подозрительностью присматриваются к способностям разума. Отсюда их пристальное внимание к Средневековью и к моменту перехода к рациональному мышлению.
Совсем недавно Средние века казались не только мрачными, но и пустыми по сравнению, например, с Ренессансом. К тому же мнение, что интересы схоластов, а также их достижения, ограничены исключительно католической теологией, служило препятствием к изучению работ схоластов специалистами, не интересующимися католическим учением. В настоящее время работы схоластов привлекают внимание не только теологов и историков религии, но лингвистов, философов, историков науки. Хотя форма, в которую облекали свои рассуждения схоласты, почти всегда связана с католической религией, то что они обсуждали часто лежало за пределами религиозной доктрины. Как пример можно привести небольшой отрывок из комментария Фомы Аквинского к Евангелию от Иоанна. При комментировании самой первой фразы Евангелия – «В начале было Слово» – Аквинский задаётся тремя вопросами: что такое «Слово», что такое «Начало» и какой смысл имеет Слово в Начале. Он начинает объяснение понятия «Слово» так же, как это сделал Аристотель в своей работе «Об интерпретации». Название работы Аристотеля «Об интерпретации» не совсем точный перевод с греческого. Работу Аристотеля можно было бы озаглавить «Об объяснении мыслей словами». Слово, по Аристотелю, – знак представления в душе. Один и тот же предмет разные люди обозначают разными звукосочетаниями (например, на разных языках), но представления в душе одинаковые.
«Итак, то, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех (людей), так и звукосочетания не одни и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях, у всех (людей) одни и те же, точно так же одни и те же и предметы, подобия которых суть представления».
Аристотель «Об интерпретации» 1:16а 5–10.
Фома Аквинский развивает мысль Аристотеля. Он различает два понятия: внутреннее слово, совпадающее с тем, о чём говорит Аристотель, и «внешний набор звуков», который Аквинский тоже называет словом. Аквинский разбирает «Слово» скорее с лингвистической, чем с теологической точки зрения. Как объяснять мысль словами, является главной темой трактата Аристотеля и главной темой комментария Аквинского к началу Евангелия от Иоанна.
Естественно, что кроме проблем, напрямую не относящихся к теологии, схоласты подвергали анализу и собственно теологические проблемы. Христианские писатели комментировали Библию и другие духовные произведения, начиная с IV века. В XIII столетии в подходе к изучению религиозных трактатов возникло нечто новое. Это новое можно определить как интерес к абстрактному доказательству, к привлечению логики Аристотеля при обсуждении теологических положений. Как всегда, не очень понятно, что здесь первично, а что вторично. Проснувшийся ли интерес к абстрактному мышлению заставил схоластов обратиться к Аристотелю как к одному из авторитетов, или вновь открытые работы Аристотеля подвигнули умы на новое осмысление старых проблем.
Вопросы, которые больше всего волновали схоластов, касались соотношения веры и разума. Эти вопросы вполне можно переформулировать безотносительно к вероисповеданию: можно ли доказать существование Бога? В чём суть озарений? Как относиться к пророчествам? Всё ли предопределено Богом в судьбе человека, или человеку оставлена некая свобода?
Многие из проблем были спровоцированы работами Аристотеля. Его доктрина о вечности и несозданности мира стала вызовом для трёх религий – христианства, иудаизма и ислама, так как противоречила первым же страницам Библии и Корана. Учение Аристотеля о вечности и самодостаточности мира невозможно было отбросить. Очень упрощённо вопрос стоял так: может быть, Аристотель прав со своим вечным двигателем? Для верующих наибольшую опасность представляло не само новое мнение, а возможность усомниться в, казалось бы, непогрешимой старой истине.
Можно ещё указать на проблему души, смущавшую теологов. Аристотель определил душу как нечто, что даёт жизнь телу. По-гречески душа – «anima». От этого слова происходит слово animation – «оживление». По учению Аристотеля душа, по крайней мере, у животных возникает из внутренних причин. («О строении животных» De partibus animalium, i. I; 641b 12.) Аристотель учил, что память и любовь должны исчезнуть с исчезновением тела и только ум как нечто божественное разрушить нельзя. (De anima 43 0 a17-23.) Аверроэс, опиравшийся в своём учении на работы Аристотеля, а всед за ним и его последователи учили, что душа, будучи неповторимой и у каждого человека своей, смертна; бессмертие принадлежит только разуму, который один для всех разумных существ. Для смертной души и бессмертного ума нет Страшного суда и такие рассуждения неприемлемы в христианской религии.
Внимательно изучая учение Аристотеля, христиане, мусульмане и иудеи были вынуждены пересмотреть позиции по вопросу соотношения разума и веры. Заодно им пришлось заняться вопросами чувственного восприятия и психологии.
Мыслители различных религий пытались согласовать свои представления о высших силах с учением Аристотеля. Можно назвать имена христианина-католика Фомы Аквинского (1225–1274), мусульманина Аверроэса (1126–1198), иудея Маймонида (1135–1204). Работы всех трёх вызвали идеологические бури у своих единоверцев, но позднее были признаны классическими.
Первыми после античности с аристотелевскими проблемами столкнулись арабы. Можно проследить, как малюсенький огонёк классической философии передвигался от греков к арабам, а затем опять вернулся в Европу. Философы Авиценна, Аверроэс и Маймонид считали своим учителем Аль Фараби. Исламский философ начала X века Аль Фараби учился в Багдаде у несторианцев-христиан, и один из его учителей был знаменитый в те времена греческий учёный и переводчик. Он-то и познакомил Аль-Фараби с языческими учениями.
Общая история этого невероятно важного этапа развития человеческой мысли ещё не написана. Люди совершенно разных религиозных воззрений по очереди формулируют схожие вопросы, развивают учения и передают друг другу не только сами знания, хотя и это важно, но и формулировки вопросов, над которыми бьются лучшие умы своего времени.
Новое понимание всегда даётся с трудом. Следы борьбы с идеями Аристотеля разбросаны по многочисленным историческим документам XIII, XIV, XV веков. Приведём только один пример, отметив для себя высокие посты участников противостояния. Знаменитый немецкий доминиканец Майстер Экхард (ок. 1260–1328) занимал высокий пост провинциала Саксонии и преподавал в Кёльне. У Экхарда возникли разногласия с архиепископом Кёльна Генрихом Вирнебургским, обвинившим Экхарда в ереси. Сведения о дальнейшей жизни Майстера Экхарда пропали, но известно, что через несколько месяцев после его смерти папа Иоанн XXII издал буллу, в которой осудил двадцать шесть еретических утверждений Майстера Экхарда. В списке под номером два приведено положение Аристотеля: «Мир существует вечно».
Считается, что согласовать христианское учение с философией Аристотеля, или как, формулировали христиане, победить Аристотеля, удалось Фоме Аквинскому.
Фома Аквинский [Рис. 17] родился в 1225 году в городке Роккасекка в Неаполитанском королевстве. До 1250 года королевством правил Фредерик II Гогенштауфен, он же император Священной Римской империи. Борьба за власть между императором и папой надолго разделила Италию. Судя по всему, Фома был отщепенцем, так как большинство членов его семьи поддерживали императора. Фома в своих работах всегда отстаивал приоритет власти папы.
Когда Фоме исполнилось пять лет, родители отдали его в знаменитый бенедиктинский монастырь Монте Кассино. Брат отца был аббатом монастыря, и семья надеялась, что когда-нибудь Фома займёт этот пост. Пребывание в монастырях предполагалось пожизненным, но в 14 лет Фома неожиданно получил свободу. В 1239 году из-за войны императора c папой римским монастырь Монте Кассино на некоторое время был закрыт. Фому отправили в университет Неаполя. Он проучился в университете шесть лет, и после этого уже ничто не могло заставить Фому вернуться обратно в Монте Кассино. В Неаполе, несмотря на сопротивление семьи, он стал доминиканцем.
В 1245 году Фома приехал в Париж, в доминиканский монастырь Сан Жака.
Там он изучал работы Аристотеля, хотя, возможно, с некоторыми из трудов философа он познакомился ещё в Неаполе, где запрета на преподавание Аристотеля не было.
Летом 1248 года Фома вместе с Альбертом Великим направился в Кёльн и официально стал его учеником. По рекомендации Альберта Великого в 1452 году орден послал Фому Аквинского в Париж для получения учёной степени.
В 1254 году в Парижском университете разгорелся конфликт между светскими профессорами и преподавателями – членами религиозных орденов. Конфликт был шумным и долгим. В него были втянуты студенты, преподаватели, городские власти, доминиканцы, францисканцы, а также папа римский и король Франции Людовик Святой. Университетские власти пытались запретить нищенствующим орденам преподавание в Парижском университете, и потребовалось вмешательство папы римского, чтобы Фома Аквинский смог читать лекции.
Начиная с 1256 года, биографические сведения о Фоме Аквинском крайне обрывочны. Виною тому бурные события, взбудоражившие весь католический мир. В Италии продолжалась война пап с императором Фредериком II, а после смерти императора с его наследниками. Сам Фредерик II благополучно умер, и все бедствия достались его сыну Манфреду и внуку Конрадину.
Удручающее впечатление на самосознание католиков произвёл захват в 1261 году Константинополя императором Никеи Михаилом VIII Палеологом, положив тем самым конец Латинской империи. Михаил VIII провозгласил себя Византийским императором. Династия Палеологов правила до падения Константинополя в 1453 году.
В 1259 году Фома Аквинский вместе с Альбертом Великим участвовал в комиссии по составлению программы образования доминиканцев. Сохранилась программа обучения доминиканцев высшей школы в Римской провинции, где преподавал Фома Аквинский. Трёхлетний курс обучения включал в себя работы Аристотеля – «Метафизику», «Физику», «О душе», «О небе» и другие работы философа, а также «Книгу причин».
После работы в комиссии Фома Аквинский вернулся в Италию. Он провёл два года в Ананьи в конце правления папы Александра IV и четыре года в Орвьето при дворе папы Урбана IV. В Орвьето Фома работал с выдающимся переводчиком Виллемом из Мёрбеке. Фламандский доминиканец Виллем из Мёрбеке учился у Альберта Великого и в 1260 году путешествовал в доминиканские центры в Никее и греческих Фивах, основанных во время крестовых походов. Там он выучил греческий язык. По возвращении в Италию Виллем проживал при папских резиденциях. Под патронажем папы Урбана IV Виллем из Мёрбеке занимался переводом работ Аристотеля и других авторов на латынь непосредственно с греческого языка. Ссылаясь на неадекватность арабских переводов, учение Аристотеля то запрещали, то опять разрешали преподавать в Париже. Работы Виллема из Мёрбеке восполнили пробел в прямых переводах с греческого и постепенно вытеснили все ранее употреблявшиеся переводы. Они считались образцовыми вплоть до XVII века. Аквинский писал комментарии к двенадцати работам Аристотеля, пользуясь исключительно переводами Виллема из Мёрбеке.
С 1265 по 1267 год Фома Аквинский преподавал в Риме в доминиканском монастыре Санта Сабина. Ему было поручено организовать доминиканскую высшую школу в Риме. Для этой школы Фома Аквинский писал свой главный труд «Сумма теологии».
В 1268 году руководство ордена отправило Фому Аквинского в Париж защищать позицию ордена в очередном споре, разгоревшемся в университете.
В 1270 году епископ Парижа Этьен Тампье объявил еретическими тринадцать утверждений, касающихся католической веры. Первый пункт касался существования единого всемирного разума. Тампье также проклял отрицание свободы воли человека и утверждение о вечности мира. Он осудил утверждение о смертности человеческой души, отрицание существования первого человека, а также ряд положений, ограничивающих всемогущество и всезнание Бога. Однако разрушительное влияние идей Аристотеля остановлено не было. Аквинский был среди тех немногих, кто пытался опровергнуть их не запретами, а рассуждениями, чем, в свою очередь, вызвал недовольство некоторых религиозных деятелей.
Возможно, этим недовольством объясняется неоднозначное восприятие современниками Аквинского его работ, в том числе и главного труда – «Суммы теологии». Учебником теологии в европейских университетах служила работа теолога XII века Петра Ломбардского «Четыре книги Сентенций». Сам Петр Ломбардский почерпнул большую часть своих рассуждений из работ Августина. По ясности и логичности изложения эта книга превосходила все прочие суммы, написанные в XII веке, и в следующем веке не было крупного теолога, который не написал бы к ней комментарии. Предполагалось, что «Сумма теологии» Фомы Аквинского заменит существующий учебник.



