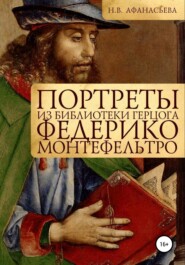 Полная версия
Полная версияПортреты из библиотеки герцога Федерико Монтефельтро
«Ничто в политической карьере этих людей не даёт основания предполагать, что у них была какая-то цель, более отдалённая, более высокая, чем собственное продвижение к власти, которая сулила личную славу и безнаказанность».
И всё же! Слава Цицерона длится более двух тысяч лет. Как-то странно называть её исторической ошибкой. Сам Моммзен, размышляя о судьбе наследия Цицерона, писал:
«Цицеронизм представляет собой проблему, которая не может, в сущности, быть решена, а только подменяется ещё большей тайной человеческой природы: речью и её влиянию на умы. Если благородный латинский язык, прежде чем ему погибнуть в народном говоре, был ещё раз мобилизован этим опытным стилистом и использован в его объёмистых сочинениях, то и на недостойный сосуд перешло кое-что из того могущества, каким обладает язык, и из того благоговения, которое он вызывает к себе».
Сказать, что Цицерон был великим оратором, мало. Он был одним из создателей литературного латинского языка. Когда Моммзен пишет «… был ещё раз мобилизован…», он сильно приуменьшает достижение Цицерона. Влияние Цицерона на латинскую прозу было огромным.
Теоретик искусства убеждения Цицерон считал, что мудрость должна сопровождаться красноречием.
«Ведь хорошим оратором может быть только тот, кто умеет мыслить; поэтому, кто посвящает себя истинному красноречию, тот посвящает себя и мудрости, без которой никому нельзя обойтись даже в пору самой тяжелой войны».
«Брут», 23.
Читатели разных эпох выбирают из наследия прошлого то, что их интересует больше всего. В настоящее время по полкам пылятся сочинения Цицерона по риторике. Их читают только историки культуры. Как руководство к действию они практически не востребованы. Ораторское искусство, некогда открытое вновь деятелями Ренессанса, просуществовало до двадцатого века и оживёт вновь, если только возродится искусство живого слова. В книге «О подборе материала для речей» (De Inventione) Цицерон писал:
«Я полагаю, люди должны изучать красноречие для того, чтобы шарлатаны не могли обрести политическую силу, способную нанести вред достойным гражданам и всему обществу».
Что перекликается со словами из другой книги Цицерона «Об ораторе» (De Oratore) Кн. III, 35:
«(142) …знать дело и не уметь его изложить, – это признак человека бессловесного, а не знать дела и владеть лишь словами – признак человека невежественного; ни то, ни другое похвалы не заслуживает, но уж если выбирать, то я предпочел бы неречистое разумение говорливой глупости. (143) Если же речь идет о том, что по-настоящему превосходно, то пальма первенства принадлежит тому, кто и учен, и красноречив. Если мы согласимся назвать его и оратором и философом, то и спорить не о чем; если же эти два понятия разделить, то философы окажутся ниже ораторов потому, что совершенный оратор обладает всеми знаниями философов, а философ далеко не всегда располагает красноречием оратора; и очень жаль, что философы этим пренебрегают, ибо оно, думается, могло бы послужить завершением их образования».
Аппиан. Римские войны. СПб. Алетейя, 1994.
Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., Наука, 1972.
Моммзен Т. История Рима. Т.III, М.: Огис-Госполитиздат, 1941.
Муравьёв М. Н. Полное собрание сочинений. СПб. 1819–1820.
Утченко С.Л. Цицерон и его время. М.: Мысль, 1972.
«Cicero Select Letters» By W. W. How, with Historical Introductions, Notes and Appendices, together with a Critical Introduction by A. C. Clark Vol I-II, Oxford, 1955.
Cicero. On Invention. The Best Kind of Orator. Topics. (Loeb Classical Library)
Вергилий
«Латынь из моды вышла ныне…»
А.С. Пушкин.
В Cредние века и позднее, во времена Ренессанса, существовала теория о двух исторических процессах, латинские названия которых translatio imperii и translatio studii, что означает «передача власти» и «передача знаний». То, что власть над миром передаётся от царства к царству – идея древняя. Ещё библейский пророк Даниил говорил о четырёх царствах, сменяющих друг друга, и пятом небесном царстве, которое никому не перейдёт и вовеки не разрушится. (Книга пророка Даниила, гл. 2) Похожие рассуждения встречаются у христианского историка V века Павла Орозия. В своей «Истории против язычников» (кн. II) он пишет о четырёх великих царствах, возникавших и уничтожавшихся по очереди. Орозий связал их с четырьмя странами света. От Вавилона с востока «власть» перешла к Карфагену на юг, затем в империю Александра Македонского на север и, наконец, в Римскую империю на запад. Рим был вознесен на вершину мирового господства для торжества христианства, и после его разрушения должен наступить конец света. В неизбежности гибели последней империи Орозий видел божественный промысел и связывал крах Рима с приближением Страшного Суда. В своём увлечении идеей преемственности власти Орозий иногда противоречил собственным датировкам. Объяснить происходящее с христианской точки зрения для него было важнее отдельных несогласованностей.
С течением времени Страшный Суд перенесли на неопределённое будущее, но идея передачи политического и культурного наследия от одной цивилизации к другой продолжала существовать. Позднее спорили, в какую часть Европы произошёл переход из Древнего Рима: в Священную Римскую империю, Францию или Англию. Сходным образом трактовалась передача знаний или древней мудрости – translatio studii. Мудрость, которую неосторожно познал Адам в земном Раю, со временем проникла в Иерусалим, затем в Вавилон, Афины, Рим и далее в Европу, например, в Париж. На данный момент нас интересует переход из Греции в Рим, литературное описание которого появилось в эпической поэме Вергилия.
Некогда на юге Италии процветали греческие колонии. В одной из таких колоний Пифагор организовал свою школу, где, по легендам, преемник Ромула царь Нума Помпилий познакомился с учёностью греков. Соперничество Рима с поверженной, но «высшей» Грецией причудливым образом отразилось в рассказах о передаче власти и культуры от Греции к Риму. Римское мифотворчество в своём развитии сделало некий разворот. К римлянам власть перешла не от греков, а от врагов греков – троянцев.
Эней, сын Венеры и Анхиза, после грабежа Трои привёл спасшихся троянцев в Италию, где неподалеку от будущего Рима основал город Лациум. Один из потомков Энея был свергнут с престола своим братом. Дочь свергнутого царя Илию сделали весталкой. Весталки давали обет безбрачия, но, по преданию, Илия родила от бога Марса двух близнецов Рема и Ромула. Разгневанный правитель приказал утопить своих внучатых племянников. Раб, которому было велено это сделать, пожалел младенцев и, уложив их в деревянное корыто, пустил по реке. Корыто прибило к берегу, где их нашла волчица и вскормила своим молоком.
Ко времени правления Августа легенды об исходе троянцев и о происхождении Рима стали уже традиционными. Вергилий выбрал одну из них. Он рассказал о путешествии Энея в Италию в поисках новой родины и о войне троянцев с италийцами за право основать город. Юность Вергилия совпала с гражданской войной, когда вооружённое противостояние первых лиц республики породили в государстве ощущение мировой катастрофы. Императору Октавиану удалось остановить гражданскую войну. Наступило долгожданное успокоение. Благодарные римляне даровали Октавиану титул Августа, означавший «возвеличенный богами». Август предпринял попытку осуществить грандиозный план завоевания всего известного римлянам мира, всей Ойкумены. Править предполагалось справедливо и милосердно, и этот план казался реальным. Империя жила ожиданием великих свершений. Связав историю Греции, Трои и Рима в один мифологический узел, Вергилий обосновал происхождение Римской империи, принесшей, по мнению многих, мир и справедливое правление всему Средиземноморью.
Публий Вергилий Марон [Рис. 33] был придворным поэтом императора Августа. Прямых сведений о жизни Вергилия мало. В начале II века н. э. римский историк Светоний написал несколько сочинений. Кроме дошедшей до наших дней книги «Жизнь двенадцати цезарей» его перу принадлежала «Книга о поэтах», в которую входила биография Вергилия. Несмотря на то, что Светоний написал свою книгу полтора столетия после Вергилия, он был добросовестным учёным, и ему можно было бы доверять. Однако «Книга о поэтах» пропала. Остался её пересказ римским грамматиком IV века Тиберием Клавдием Донатом. Но имеющийся текст рассказа Доната доверия не внушает. Его подлинность сомнительна, так как текст много раз искажался во время многочисленных переписок, и в нём уже невозможно отделить вымысел от правды. Кое-что известно о жизни Вергилия из од Горация, придворного поэта императора Августа. Некоторые сведения о жизни Вергилия можно извлечь на основании косвенных данных, так как эпоха Августа достаточно хорошо документирована.
Вергилий родился 15 октября 70 года до н. э. недалеко от города Мантуя, в год консульства Помпея и Красса. Отец Вергилия, богатый провинциал, обеспечил сыну хорошее образование. Вергилий сначала учился в Кремоне, затем в Милане и закончил учёбу в Риме. В 49 году Вергилий получил римское гражданство. В разгар войны между Цезарем и Помпеем он покинул Рим и переселился в Неаполь.
Кумиром Вергилия в юношеские годы был Юлий Цезарь. В его отношении к всесильному властителю большую роль сыграла политика Юлия Цезаря по уравниванию в правах провинций и Рима.
В сентябре 46 года Юлий Цезарь отпраздновал четыре великих триумфа в честь своих побед над Галлией, Египтом, Понтом и Африкой. Он объявил себя потомком Ромула, сына Энея Юла, самого Энея и, наконец, матери Энея богини Венеры. Цезарь поместил свою собственную статую на Капитолийском холме, среди статуй богов.
Через два года Цезарь был убит. Последовала новая вспышка гражданской войны. На сей раз Марк Антоний и Октавиан воевали с убийцами Цезаря – Кассием и Брутом, желавшими восстановить республику и власть сената. Кассий и Брут погибли в 42 году. Кровопролитная битва при Филиппах закончилась победой Антония и Октавиана. Огромная армия, принимавшая участие в императорских походах, жаждала вознаграждения. Для императорских воинов в Италии конфисковали большое количество земли. Участок земли, принадлежавший Вергилию, тоже был конфискован, но позднее возвращён благодаря ходатайству друзей и покровителей. Вергилий был одним из очень немногих, кому удалось вернуть свою землю. Большинство тщетно пытались обращаться к Октавиану. По всей Италии прокатилась волна вооружённых столкновений. Ситуация усугублялась голодом. Последовал мятеж под руководством Луция Антония. Под его знамёна собрались все недовольные политикой Октавиана, в том числе сенаторы-республиканцы и остатки армии, воевавшей на стороне Кассия и Брута. Противостояние с императорскими войсками произошло в городе Перусия (латинское название Перуджи). Мятеж был подавлен, сенаторы-республиканцы казнены, а город отдан на разграбление солдатам и сожжён.
В 39 или 38 году появился поэтический сборник Вергилия «Эклоги», или «Буколики» («Пастушьи песни»). Вместо героического воспевания битв Вергилий описал воображаемый мир простого и свободного существования на лоне природы. В первой буколике пастушок благодарит правителя своей страны за царивший мир. Через много лет Сенека в своих «Нравственных письмах к Луцилию» (LXXIII) процитирует Вергилия:
«Мудрец помнит…благодаря кому общественная необходимость не призывает его к оружию, к несению стражи, к охране стен и ко всем многочисленным военным трудам, и он благодарен своему кормчему. Тому и учит философия: быть благодарным за благодеяния и платить за них благом; но порой сама признательность служит платой. Значит, мудрый не станет отрицать, сколь многим он обязан тому, чье управление и попечение даруют ему щедрый досуг, и право распоряжаться своим временем, и покой, не нарушаемый общественными обязанностями… этот досуг, наивысший дар которого – в том, что
Он и коровам моим пастись, как видишь, позволил,
И самому мне играть, что хочу, на сельской тростинке».
Работа и бесценный досуг философа зависят от мира в государстве. Играть «что хочу» после трудов праведных – желание любого человека.
Эклоги означает «извлечения», или отдельные стихотворения. В этом значении название закрепилось за десятью стихотворениями сборника «Буколики». «Эклоги» имели огромный успех и принесли Вергилию известность. Не только высокообразованные римляне зафиксировали своё восхищение поэмой в письмах и литературных произведениях. Цитаты из «Буколик» до сих пор хранят стены Помпеи, а также граффити в бывших казармах гладиаторов и в древних мастерских.
Впоследствии особую славу Вергилию принесла четвёртая, так называемая «мессианская», эклога. В ней Вергилий упоминает Деву. Это Астрея, или Справедливость, дочь Юпитера и богини правосудия Фемиды. Она должна появиться с наступлением Золотого века.
Век последний уже пришёл по пророчествам Кумским.
Снова великий веков рождается ныне порядок.
Вот уже Дева грядёт и с нею Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
Мальчика лишь охрани рождённого, с коим железный
Кончится род, золотой же возникнет для целого мира,
Чистая, ты, люцина!..
(Пер. С.В. Шервинского.)
В Средние века отрывок о Деве и мальчике был самым знаменитым стихотворением на латинском языке. Утверждали, что в нём Вергилий предсказал приход Иисуса Христа. На «мессианском» прочтении четвёртой эклоги настаивали уже первые христианские писатели. Правда, среди них были исключения. Иероним назвал такое толкование ребячеством и шарлатанством.
Одни считают, что преклонение перед Вергилием и та особая роль, которую отводили четвёртой эклоге в Средние века, явились результатом случайной игры истории. Другие утверждают, что пророкам совершенно не обязательно знать, о чём они пророчествуют, и недаром вдохновение от Бога.
Следующее своё сочинение «Георгики» («О земледелии») Вергилий посвятил богатому и влиятельному министру Августа – Меценату, покровительствовавшему поэту. «Георгики» называли лучшей поэмой лучшего поэта. «Энеида» не была закончена, а потому не могла по древним канонам считаться совершенной поэмой. В «Георгиках» много строк посвящено крестьянскому труду. Однако вряд ли Вергилий писал свою поэму как практическое руководство по обработке земли, выращиванию деревьев или уходу за пчёлами. Назвать «Георгики» учебником по фермерскому хозяйству (что иногда делают), – всё равно, что назвать «Времена года» Вивальди учебником по метеорологии.
В качестве примера можно привести такой отрывок:
Истинно время придет, когда в тех дальних пределах
Муж земледелец, кривым размягчающий землю оралом,
Дротики в почве найдет, изъязвленные ржою шершавой!
Тяжкой мотыгой своей наткнется на шлемы пустые
И подивится костям могучим в разрытых могилах!..
Наибольшая литературная слава досталась главному произведению Вергилия – «Энеиде». Весьма вероятно, что Вергилий задумал «Энеиду» ещё до смерти Юлия Цезаря. Позднее он переработал поэму и посвятил её Августу. Так как бабкой Августа была сестра Юлия Цезаря, то божественное происхождение Августа также было вполне доказуемым. Проработав над поэмой несколько лет, Вергилий отправился в Грецию и Азию, в поисках материалов и вдохновения. На обратном пути в Рим Вергилий заболел и в 19 году умер.
«Энеида» Вергилия рассказывает о происхождении Римской империи.
Греки воевали с Троей, а у Рима был свой великий соперник – Карфаген. Богиня Юнона возненавидела Энея из-за предсказания, что её любимый город Карфаген будет разрушен римлянами. По воле богов беглец из разрушенной Трои должен привести в Италию оставшихся в живых троянцев и заложить основы Рима, власть которого будет вечной.
Для современников Вергилия разрушение Карфагена было историческим фактом приблизительно столетней давности, а для героя поэмы Энея – далёким будущим, зависящим от его судьбы.
Один из самых знаменитых эпизодов «Энеиды» посвящен истории Энея и Дидоны. Царица Карфагена Дидона гостеприимно приняла потерпевших кораблекрушение троянцев. Мать Энея, богиня Венера, сделала так, что Дидона страстно полюбила Энея. Эней ответил взаимностью, но по приказу богов оставил Дидону и продолжил путешествие в Италию. Дидона покончила с собой. По дороге в Италию Эней остановился на Сицилии, где спустился в подземное царство. Там он повстречался со своим отцом, поведавшим ему о будущей славе Рима. Там же, в подземном царстве, он встретил Дидону, не захотевшую с ним разговаривать. Слова Энея, пытающегося оправдаться перед Дидоной, стали знаменитыми и без конца цитировались:
…И не мог я поверить,
Чтобы разлука со мной принесла тебе столько страданий.
«Энеида» VI 463–4.
Оставив Дидону, чтобы исполнить свой долг и найти новую родину для беженцев-троянцев, Эней посеял будущую вражду потомков Дидоны – карфагенян со своими потомками – римлянами.
Вражда богов и богинь привела к войне троянцев с жителями Италии. Троянцы во главе с Энеем победили, они могут строить новый город. Однако Троя должна быть забыта. Владыкой мира должен стать Рим.
Энеида относится к жанру эпической поэмы. Каллиопа – муза эпической поэзии, а также знаний, считалась главной из муз, и в античности эпос считался высшей формой литературы. По своему характеру эпическая поэма является повествованием. В ней рассказывается о великих событиях и великих героях, и её характеризует возвышенный стиль. В эпической поэме обязательно присутствуют божества. В некотором смысле эпическая поэма является теорией, которую нельзя назвать «научной», но которая имеет с научными теориями сходство. Высшие силы, управляющие миром и от которых зависит будущее необходимо как-то обозначить, для того чтобы рассказывать об их влиянии на людей. Можно назвать одну из таких сил, например, Юноной. Естественно, древние греки и древние римляне не наделяли своих богов именами исключительно ради удобства изложения; в богов верили, как в настоящее время верят выводам научных теорий.
В поэме Вергилия жена Юпитера, мстительная Юнона, олицетворяет разрушительное женское начало. Она меряется силой и влиянием с не менее опасной богиней, богиней любви Венерой. Орудие Венеры – потеря разума, любовная страсть, разрушающая жертву её мести. Любовь – вне контроля человека. Благородная царица Дидона из-за роковой страсти кончает жизнь самоубийством. Дидоне противопоставлен pius Aeneas «благочестивый Эней», то есть человек, подчиняющийся воле богов. Точно так же Юноне противопоставлен Юпитер, в котором воплощён идеал правителя.
Если бы поэма ограничилась прославлением идеалов Римской империи, она бы не сохранилась. Поэма вызывала и вызывает гораздо больше ассоциаций. Например, Энея никогда не воспринимали только как героического персонажа. Мало кто оставался безучастным к судьбе Дидоны. Эней своим поступком потерял расположение многих читателей. Как написал американский писатель Томас Элиот, Вергилий впустил в литературу угрызения совести.
Перед своей смертью Вергилий попросил друзей сжечь поэму, возможно, не желая, чтобы поэма была опубликована в незавершённом виде. Друзья Вергилия отказались её уничтожить. Двум из них, тоже поэтам, Август поручил закончить «Энеиду». Они отнеслись достаточно бережно к тексту. Незавершённые куски поэмы не нарушают общего смысла. Единственно, среди комментаторов время от времени возникают споры по поводу концовки поэмы. «Энеида», как известно, кончается убийством царя италийского племени Турна, боровшегося с пришельцами-троянцами. Прегрешение Турна состояло в неподчинении воли богов. /Имперская власть схожа с волей богов. Не подчинился – значит должен умереть. А почему не подчинился, защищал ли свою землю или своё достоинство, неважно./ То, что Эней стал убийцей, можно трактовать как символ саморазрушения личности в качестве платы за полученную власть и ответственность за судьбы других людей. Путь к славе усеян чужими трагедиями, особенно при преследовании национальной идеи.
Предполагал ли Вергилий закончить поэму более оптимистично какой-нибудь сценой с триумфальными колесницами, неизвестно. Возможно, что существующая концовка задумана самим Вергилием. В дошедшем до нас варианте разрушение итальянского города и убийство Турна завершают круг, объединяясь с разрушением Трои.
Стихи Вергилия считались образцом безупречности. Их учили в римских школах, а позднее преподавали в средневековых монастырях. Поэзия Вергилия прочно и надолго вошла в школьные учебники. Историк Доминико Компаретти, автор большого труда о Вергилии, писал, что если бы пропали все манускрипты с записью «Энеиды», её можно было бы восстановить по цитатам из старых учебников грамматики.
Вергилий оставался самым любимым поэтом до тех пор, пока было кому читать и говорить на латыни. Наряду с великой любовью, на протяжении многих веков что-то в поэзии Вергилия провоцировало ироничное отношение к её автору.
Начиная со II века, в Риме сочиняли так называемые центоны (centonis). Название происходит от латинского слова cento – «лоскут». Буквальный перевод centonis – «из лоскутов». Центонами называют стихотворения, составленные из отдельных строчек поэм, объединённых в одно произведение, смысл которого очень далёк от смысла первоисточника. Чаще всего центоны писали шутки ради. Традиция старая. Первоначально центоны строились из стихов Гомера. Из стихотворений на русском языке такого жанра самое известное:
Однажды в студеную зимнюю пору
сижу за решеткой в темнице сырой
и т.д.
В Древнем Риме возникла обширная литература вергилиевских центонов. Иногда, хотя и гораздо реже, чем развлекательные стихи, появлялись серьёзные поэмы-центоны, набранные из строчек поэм Вергилия. Существует трагедия «Медея», написанная таким способом. Известны серьёзные центоны на религиозные темы. Например, в IV веке жена префекта Рима Фальтония Бетиция Проба сочинила поэму в форме библейского рассказа, начинающегося сотворением мира, и кончающегося вознесением Иисуса на небеса. Но, всё-таки, гораздо чаще стихи-центоны были весёлыми и несерьёзными.
Центонами дело не ограничилось. Учебники грамматики и имя Вергилия были крепко связаны, и где-то на рубеже античности и средневековья (VII век) появились два трактата по образцу знаменитых грамматик Доната, называвшиеся Epitomae и Epistolae. Их автор назвал себя Вергилием Мароном Грамматиком (Vergilius Maro grammaticus). То ли пародист, то ли хитрец, посмеивавшийся над школьной латынью, Вергилий Грамматик был высокообразованным человеком, знавшим древнееврейский и латинский языки. Он цитировал несметное количество книг и писателей. Правда, как оказалось, не существует ни одного источника, на который ссылается Вергилий Грамматик. С упоминаемыми им авторами тоже плохо. Хотя среди них есть знакомые имена, такие как Катон, Цицерон, Квинтилиан, Вергилий (автор «Энеиды»), но большинство имён не встречается ни в каком другом средневековом манускрипте. Некоторые имена литературных героев (как, например, Энея) приводятся им как имена авторов несуществующих книг. В книге Вергилия Грамматика находятся блестящие образцы игры слов и много мудрых наблюдений. Кроме грамматического материала книги содержат псевдофилософские и религиозные вопросы, этимологию слов, словесные игры, шифры и список выдающихся грамматиков. Аналогов книге Вергилия Грамматика нет. Наиболее близкое по духу сочинение, хотя и совершенно иное по тематике, вероятно, «Тристрам Шенди» Лоренса Стерна.
Народная любовь к Вергилию нередко принимала своеобразные формы. В XII веке кроме образа лучшего латинского поэта возник другой, меняющийся как хамелеон, но постоянно сопровождавший имя поэта – образ героя народного фольклора. Вергилий постепенно превращается в волшебника, творящего разнообразные чудеса. Он великий поэт, предсказавший рождение Иисуса Христа, и одновременно колдун с сомнительной репутацией.
По одной из легенд Вергилий, будучи школяром, проживал в Толедо. Почему Вергилий оказался в Толедо, не спрашивайте. Видимо, бывшие мусульманские земли в глазах средневековых обитателей были рассадником колдовства. На одной из прогулок Вергилий наткнулся на холм с пещерой, куда зашёл из любопытства. В пещере с ним заговорил голос, оказавшийся голосом демона. В обмен на обещание выдать ему тайные книги по некромантии Вергилий согласился выпустить нечистого из малюсенькой норки, которая была прикрыта всего-навсего дощечкой. Выпустив демона и получив книги, Вергилий проделал шутку, которую много позднее повторил Кот в сапогах. Он поспорил с демоном, что тому не поместиться в норке во второй раз. После того, как легковерный демон продемонстрировал своё искусство уменьшения в размерах, Вергилий опять прикрыл норку дощечкой. «Поэтому обманутый демон до сих пор сидит под землёй, а Вергилий стал сведущ в чёрной магии».



