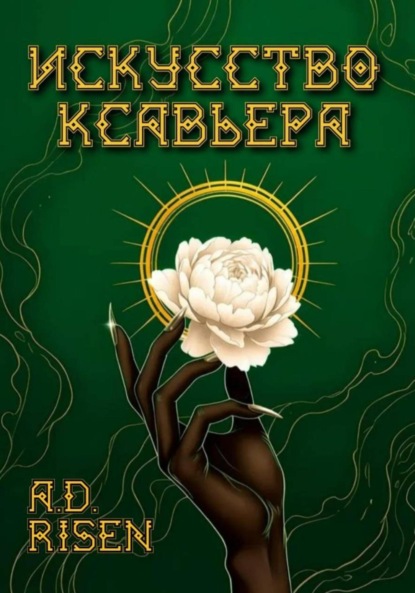
Полная версия:
Искусство Ксавьера
Ковер с густым ворсом, поглощающий ледяное дыхание бетонного пола. Не одна, а две дополнительные лампы – с теплым, желтоватым светом, создававшие уютные островки в полумраке, отодвигавшие давящие тени к углам. Небольшая этажерка, на которой появились книги – не только нотные тетради, но и сборники стихов, труды по философии искусства, те самые, о которых они говорили с Ксавьером. Он словно материализовывал темы их бесед, предоставляя ей пищу для ума помимо музыки. На столе теперь почти всегда стояла ваза со свежими фруктами, а в углу аккуратно висела сменная одежда – просторная, мягкая, не похожая на ту, в которой ее похитили.
А потом появились сладости. Сначала это было тонкое, почти невесомое песочное печенье, которое он приносил на маленькой фарфоровой тарелочке. Позже – темный шоколад с фундуком, воздушные безе, пастила. И самое невероятное – чаепития. Он начал приносить не просто чашку чая для нее, а целый поднос с заварочным чайником, двумя фарфоровыми чашками, крошечным кувшинчиком для молока и щипцами для сахара. Он садился на принесенный им же стул, наливал чай, и они могли молча пить его, или же беседа текла так же плавно и спокойно, как ароматный эрл грей из носика чайника.
Грейс стало комфортно. Физически – несомненно. Холод и сырость отступили, уступив место теплу и сухости. Голод и однообразие пайков сменились полноценным питанием и изысканными лакомствами. Но что было страшнее – ей стало комфортно психологически. Они даже шутили иногда. Сухие, ироничные замечания по поводу абсурдности какого-нибудь современного художественного течения или столь же сухие – по поводу излишней сладости печенья.
«Если бы не отсутствие окон… если бы не эта дверь с замком с той стороны… я могла бы подумать, что я в гостях у хорошего, немного странного, но безумно интересного друга.»Эта мысль вспыхивала и гасилась, оставляя после себя пугающее чувство неопределенности.
Отношения с Ксавьером, тот самый хрупкий мост, который они с Амелией возводили с таким расчетом и опасением, постепенно, но неотвратимо укреплялись. И самое пугающее было в том, что это уже не всегда был лишь расчет. План работал – настолько хорошо, что начал стирать границы между притворством и реальностью.
Страх, когда-то острый и парализующий, как лезвие ножа у горла, притупился. Он не исчез – нет, он просто отполз в самый дальний угол сознания, превратившись в фоновый гул, в смутную осведомленность о том, чем все это может закончиться. Но в ежедневном взаимодействии Грейс приходилось все меньше и меньше притворяться. Они и впрямь были на одной волне.
Их общение давно перестало ограничиваться высокими материями. Теперь оно текло легко и непринужденно, как будто они были коллегами, встретившимися в профессорской гостинной.
Он как-то принес плитку шоколада с перцем чили. Грейс, отломив кусочек, поморщилась.
– Слишком жгуче. Перебивает всю тонкость какао. Ксавьер,попробовав, скептически хмыкнул.
– Согласен. Это попытка скрыть посредственность исходного продукта броским эффектом. Банально.
– Вот именно, – кивнула Грейс, откладывая плитку. – Дайте мне лучше мой скучный классический темный, с орешками. Он честный.
На его губах дрогнула улыбка.
– Консерваторка до мозга костей.
– А вы что, революционер? – парировала она, поднимая бровь.
– Я – эволюционист, – ответил он, и в его глазах мелькнула искра удовольствия от этой словесной дуэли. – Я беру классическую форму и наполняю ее… подлинным содержанием.
Воспоминание второе: бытовой абсурд.
Она пожаловалась, что карандаши слишком быстро тупятся о плотную нотную бумагу.
– Трагедия вселенского масштаба, – произнес он и на следующий день принес небольшую коробку. – Возможно, это решит проблему апокалипсиса.
В коробке лежала механическая точилка для карандашей премиум-класса и набор стержней для нее.
Воспоминание третье: просто разговор.
Иногда они могли просто молчать. Он сидел в своем кресле, она – за столом, просматривая наброски. Тишина была не давящей, а… созерцательной. Комфортной.
– Вы знаете, – сказала она однажды, глядя на исписанные листы, – иногда мне кажется, что эта комната, эта изоляция… она странным образом помогла мне. Я наконец-то слышу только себя. Никакого шума извне.
Он внимательно посмотрел на нее.
– Одиночество – лучший катализатор для подлинного творчества.
– Или сводит с ума, – парировала она, но без прежней горечи.
– Грань тонка, – согласился он. – Но разве не в состоянии предельного напряжения рождается все самое значительное?
В такие моменты Грейс ловила себя на том, что забывает. Забывает, где она и кто он. Она видела не монстра, а умного, сложного человека, с которым ей… интересно. Амелия, наблюдая со стороны, посылала ей осторожные импульсы, напоминая о реальности, но даже эти сигналы становились тише. Они тонули в теплой, обволакивающей атмосфере ложной безопасности, которую Ксавьер выстроил вокруг Грейс с коварной гениальностью садовника, выращивающего самый редкий и прекрасный – и потому обреченный – цветок.
Если связь с Ксавьером уплотнялась, словно туман, сгущающийся в осязаемую форму, то нить, соединявшая Грейс с Амелией, наоборот, истончалась и рвалась. Та самая эхо-проекция, что когда-то была для Грейс спасительным голосом во тьме, теперь становилась все тише, превращаясь в едва уловимый шепот на пороге сознания.
Грейс почти не слышала ее. Вначале она напрягала волю, вслушивалась в тишину, пытаясь пробиться сквозь внезапно возникшую статику. Но дни шли, а ясность не возвращалась. И что было страшнее – она уже не так часто искала этого общения. Ее мир, некогда сжатый до размеров камеры и голоса призрака, невероятно расширился. В нем появилась музыка, сложные интеллектуальные беседы, даже подобие бытового комфорта. В этой новой, пусть и ложной, реальности острая необходимость в Амелии как в единственном якоре и стратеге постепенно отступала.
Амелия чувствовала это с мучительной остротой. Она, спасительница, в услугах которой больше не нуждались. Ее стратегия работала блестяще – слишком блестяще. Грейс научилась играть свою партию в этом дуэте с тюремщиком столь виртуозно, что суфлер из теней стал не нужен. Амелия наблюдала, как их шутки становятся легче, а беседы – продолжительнее, и в ее призрачном сердце скреблась горькая ирония. «Я сделала это. Я подарила ей эту возможность. А теперь я становлюсь просто… призраком. В прямом и переносном смысле».
Но она все равно оставалась рядом. По привычке. По долгу. Из той самой цепкой, неистребимой надежды, что, возможно, завтра связь вернется. Она становилась молчаливым свидетелем, тенью, парящей под потолком, в то время как внизу разворачивалась странная, извращенная идиллия.
И Грейс, хоть и не так часто, как раньше, но обращалась к ней каждый день. Это стало ритуалом, знаком того, что она помнит.
Иногда, посреди ночи, Грейс просыпалась от кошмара, в котором красивые интерьеры и умные беседы рассыпались, обнажая железную дверь и запах смерти. Она вся дрожала, прижимаясь к подушке.
– Мне страшно, Амелия, – шептала она в темноту.
Ответа не было. Лишь тихий скрип дома наверху. Но сам факт, что она произнесла это вслух, обращаясь к кому-то, кто на ее стороне, немного успокаивал. Она верила, что Амелия слышит этот страх, даже если не может ничего сказать в ответ.
Так они и существовали – в разорванном диалоге, где одна все чаще говорила в пустоту, а другая, невидимая и неслышимая, оставалась безмолвным эхом, хранящим и боль, и надежду, и горькое осознание того, что успех их общего плана ценой стал их внутренним отдалением.
***
Воздух в подвале, обычно наполненный запахом старой бумаги, чая и пыли, в тот вечер казался густым и тяжелым, словно заряженным грозой. Ксавьер вошел с привычной церемониальной точностью, неся поднос с двумя фарфоровыми чашками и тарелкой, на которой аккуратно лежало печенье с шоколадной крошкой.
– Добрый вечер, Грейс, – его голос прозвучал как всегда, бархатно и вежливо.
– Добрый вечер, Ксавьер, – ответила она, и ее собственный голос выдал легкое напряжение, которого не было в их предыдущих беседах.
Он поставил поднос на стол, и его взгляд, скользнув по скрипке, лежавшей на стуле, вернулся к ней. В его глазах читалось обычное любопытство, но за ним таилось нечто большее – нетерпеливое ожидание.
Грейс сделала глубокий вдох, собираясь с духом.
– Небольшая часть моей сонаты готова, – произнесла она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – Я хочу сыграть ее вам сегодня.
Эффект был мгновенным. Ксавьер встрепенулся, его поза, всегда расслабленная и немного отстраненная, стала собранной. Искра в его глазах вспыхнула ярче.
– Я так ждал этого, – признался он, и в его словах впервые прозвучала неподдельная, ничем неприкрытая жажда. – Давай, удиви меня.
Он не подал и виду, что все эти недели тайно подслушивал у двери, но Грейс знала. Амелия, даже в своем ослабленном состоянии, успела передать ей это знание. И сейчас это знание придавало ей странную уверенность – он уже был вовлечен, он уже жаждал услышать больше.
Ксавьер отодвинул стул и сел, сложив руки на коленях. Его взгляд был прикован к ней с такой интенсивностью, что казалось, он способен видеть саму музыку в воздухе.
– Я весь во внимании, – сказал он тихо, и в подвале воцарилась абсолютная тишина.
Грейс взяла скрипку. Инструмент, ставший за эти недели продолжением ее рук, вдруг снова показался чужим и непосильно тяжелым. Она вышла на середину комнаты, встав прямо перед ним, и приняла игровую позу. Смычок замер в ее пальцах над струнами.
Она стояла неподвижно. Секунда. Две. Пять. Десять. Внутри нее бушевала буря. Сердце колотилось где-то в горле, перекрывая дыхание. «А вдруг я сыграю плохо? Сорвусь, собьюсь? А вдруг сыграю хорошо, но это не произведет на него никакого впечатления? Он ждет шедевра, откровения, а я… я всего лишь пытаюсь выжить. Если он разочаруется… тогда конец. Тогда все это – чаепития, разговоры, уют – было иллюзией, и меня ждет только смерть». Холодный пот выступил на спине.
И тогда, сквозь панику, пробилась ясная, твердая мысль, родившаяся из тех самых недель дисциплины и отчаяния: «Нет времени волноваться. Музыка – это все, что у меня есть. Это мое оружие. И сейчас я должна его применить».
Ее взгляд, блуждавший по стенам, нашел точку где-то позади Ксавьера и зафиксировался. Глубокий вдох. Легкий кивок метроному, отбивающему такт в ее голове.
И она начала играть.
Смычок коснулся струн – и родился звук. Не просто нота, а тихий, одинокий вздох, повисший в подвальном воздухе. Он был таким хрупким, что казалось – вот-вот рассыплется, не вынеся тяжести тишины. Это была тема одиночества. Грейс вела мелодию осторожно, почти робко, пальцы левой руки едва касались грифа, вытягивая из инструмента не звуки, а призрачные воспоминания о свободе. Каждая нота дышала тоской – тоской по солнечному свету, по шуму дождя за окном, по прикосновению ветра к коже.
«Я здесь одна», – говорила скрипка дрожащим пианиссимо. «Я так боюсь».
Играя, Грейс сама растворялась в музыке. Ее глаза были закрыты, лицо обращено к грифу. Она не видела, как изменилась поза Ксавьера. Он сидел все так же прямо, но его руки, до этого лежавшие на коленях неподвижной скульптурой, медленно разжались. Пальцы расслабились. Исчезла та легкая, привычная складка пренебрежения у губ.
Мелодия усложнилась. К хрупкой теме одиночества присоединился второй голос – тревожный, пульсирующий, как учащенное сердцебиение в темноте. Короткие, отрывистые стаккато, похожие на шаги за дверью, на стук собственного сердца в ушах. Это был страх. Чистый, животный, всепоглощающий. Грейс вложила в эти звуки все те ночи, когда она прислушивалась к каждому шороху, замирая от ужаса. Смычок теперь вгрызался в струны с отчаянной силой, звук становился резче, пронзительнее.
Ксавьер медленно, почти незаметно, откинулся на спинку стула. Его взгляд, прежде аналитический и оценивающий, стал неподвижным и глубоким. Он смотрел не на Грейс, а сквозь нее, будто сама музыка материализовалась перед ним в виде призрачных образов.
И тогда, в самый пик этой звуковой паники, произошел перелом. Музыка не сорвалась в хаос, а нашла неожиданный выход. Диссонирующий аккорд разрешился – не в мажорный, радостный, а в минорный, печальный, но несущий в себе странное, щемящее умиротворение. Это была надежда. Не яркая и кричащая, а тихая, как первый луч солнца после долгой бури. Мелодия поплыла вверх, становясь нежнее, воздушнее, словно пытаясь коснуться чего-то светлого, что осталось за пределами этих стен. Грейс вела ее с закрытыми глазами, и по ее щеке скатилась единственная слеза – не от отчаяния, а от этого хрупкого, болезненного прорыва к чему-то чистому внутри себя.
Ксавьер замер. Его губы чуть приоткрылись. Он перестал быть наблюдателем, критиком, коллекционером. Он стал слушателем. Его правая рука непроизвольно поднялась и на мгновение застыла в воздухе, будто он хотел коснуться этих звуковых вибраций, поймать их. Суровые черты его лица смягчились, в глазах, обычно пустых, отразилось что-то сложное – узнавание? Сострадание? То, что он давно в себе похоронил.
Музыка стала затихать. Последняя фраза – та самая, с которой все началась, тема одиночества, – прозвучала снова, но теперь в ней не было прежней обреченности. Была лишь тихая, безмерная грусть и отголосок той самой надежды. Последняя нота истончилась и растворилась в тишине, оставив после себя звенящую, наполненную смыслом пустоту.
Смычок замер. Грейс медленно опустила скрипку. Она дышала прерывисто, вся дрожа, как струна, с которой только что сорвали звук. Она не решалась посмотреть на него, боясь увидеть в его глазах безразличие или, что хуже, разочарование.
А Ксавьер все сидел, не двигаясь. Его взгляд был все так же прикован к тому месту, где секунду назад висели последние ноты. Он выглядел потрясенным. Не восхищенным – потрясенным до глубины души. Казалось, он только что увидел не просто музыкальный фрагмент, а саму обнаженную душу той, кого он считал всего лишь материалом. И эта душа оказалась куда сложнее, глубже и человечнее, чем все, что он мог себе представить.
Несколько мгновений в подвале царила абсолютная, оглушительная тишина. Та самая тишина, что возникает после катарсиса, когда мир замирает, переваривая только что рожденное чудо. Они стояли, разделенные этим звенящим безмолвием, как дуэлянты после одновременного выстрела. Грейс ждала вердикта, сердце ее колотилось где-то в висках, сводя с ума. А Ксавьер… было сложно понять, чего ждал он. Его лицо было бледным и застывшим, но разочарования на нем не было, и это дарило Грейс призрачное облегчение. Значит, все прошло… благополучно?
И все-таки первой не выдержала Грейс. Воздух, который она вобрала в легкие, чтобы произнести слова, с шипением вырвался наруху.
– Как вам? – ее голос прозвучал хрипло и неестественно громко, нарушая хрупкий покой.
Ксавьер не ответил. Он просто продолжал смотреть на нее. Но это был уже не оценивающий взгляд коллекционера и не заинтересованный взгляд собеседника. Это был взгляд человека, который увидел нечто, перевернувшее все его представления. Глубокий, почти шокированный.
Грейс уже собралась переспросить, снова, но в этот момент он резко встал. Стул отодвинулся с глухим скрежетом. И он направился к ней. Неспешно, но с той самой неумолимой прямолинейностью, что была у него в самом начале.
Грейс, за долгие недели относительного спокойствия отвыкшая от этой стремительной, давящей энергии, инстинктивно отпрянула. Ледяная волна страха, которую она так тщательно сдерживала, прорвалась наружу.
– Ксавьер… – его имя сорвалось с ее губ дрожащим, сдавленным шепотом. Нервозность была очевидна и уже не поддавалась контролю.
Она отступала, пока ее спина не уперлась в холодный, шершавый бетон стены. Отступать было некуда. Он подошел вплотную, и теперь их разделяла только скрипка, которую Грейс в панике прижала к груди, как щит. Ее пальцы вцепились в гриф так, что кости побелели.
– Что вы делаете!? – ее голос сорвался на высокую, почти истеричную ноту. Все ее актерство, вся выдержка испарились, обнажив загнанного, испуганного зверька.
Ксавьер еще немного помолчал, его глаза, темные и бездонные, были прикованы к ее лицу. Казалось, он сам не до конца понимал, что делает.
– Это было прекрасно, Грейс, – наконец произнес он, и его голос был низким, приглушенным, будто он говорил сквозь сон.
Затем он снова замолчал, будто подбирая слова, которые никогда раньше не был вынужден использовать.
– Вы тоже… вы понимаете… – он осекся, так и не договорив. Мысль, витавшая в его сознании, оказалась слишком сложной или слишком опасной для формулировки.
И тут он резко, почти отпрыгнул от нее, как от раскаленного железа. Его лицо снова стало маской, но теперь на нем читалось смущение, даже паника.
– Прошу прощения за мою реакцию, – отчеканил он, отводя взгляд. – До свидания.
И он развернулся и почти выбежал из подвала, закрыв дверь, но не провернув ключ – впервые за все время.
Грейс стояла, прислонившись к стене, все еще сжимая в оцепеневших пальцах скрипку. Дыхание ее было прерывистым. Она хотела что-то сказать ему вдогонку, но слова застряли в комке страха и непонимания в горле. «Что это такое было? – пронеслось в ее голове. – Ему понравилось, это ясно. Но… такая реакция. Это было очень странно. И он меня напугал… по-настоящему напугал».
Она медленно сползла по стене на пол.
– Амелия, – тихо выдохнула она, – ты ведь проследишь за ним?
Ответ пришел не сразу, слабый, как эхо из глубокого колодца, но Грейс его уловила.
«Конечно».
Этого было достаточно, чтобы немного успокоиться. Она аккуратно, на автомате, убрала инструмент в футляр, закрыла застежки. Потом села на кровать, обхватив колени руками. Теперь ей оставалось только ждать. Ждать вестей от призрака и гадать, что творится в душе человека, который был ее тюремщиком, ценителем, а теперь… загадкой, ставшей еще более пугающей.
Ксавьер бежал. Он, чьи движения всегда были выверены и элегантны, почти споткнулся, поднимаясь по лестнице из подвала, но нашел в себе силы не упасть. Он вырвался из люка, вылетел из кладовки, с силой захлопнул дверь и прислонился к ней спиной, замирая в темноте прихожей. Его сердце колотилось с бешеной частотой, которой он не знал с тех пор, как был ребенком. Глубокий, прерывистый вздох вырвался из его груди. Он пытался успокоиться, заставить свой ясный, холодный разум анализировать произошедшее, но мысли путались, как испуганный рой.
«Контроль. Я всегда все контролировал. Каждое слово, каждый жест, каждый вздох в моем доме. Но сейчас…»– Сейчас все было иначе. Это не была паника жертвы или ярость противника. Это было нечто, разорвавшее его изнутри.
Спустя все их многочисленные, милые, спокойные беседы, он наконец узрел ее искусство. Не на словах, а в чистом, неопровержимом звуке. Он услышал ее музыку. Такую душераздирающую, такую проникновенную, что она физически отозвалась болью в его собственной груди. Она точно знала, о чем говорила все эти недели. Она и вправду ценила искусство больше всего на свете… Как и он.
Ему нравились их беседы. Она говорила о вещах, с которыми он был согласен, чьи глубины он постигал годами уединения. А сейчас она раскрылась по-новому, и это было ошеломляюще. Ее слова оказались не пустыми. Она играла… великолепно. Вкладывая душу.
Мысль пронзила его, как удар тока. Вкладывая душу.Без необходимости ее извлекать, препарировать, заключать в форму. Ей было достаточно ее собственного, живого, горящего огонька.
– Она не сырье, – прошептал он в темноту, и из его горла вырвался короткий, нервный смешок, полный горького прозрения. – Она творец. Как и я.
Он замолчал, пытаясь осмыслить всю глубину этого открытия. Его никто никогда не понимал. Ни родители, ни случайные знакомые, ни тот скучный, серый мир за стенами его дома. До встречи с ней. А теперь… теперь в нем бушевала буря неизвестных ему эмоций. Радость узнавания? Да. Но также и страх. И смятение. И острая, пронзительная боль.
Он всегда думал, что он один такой в целом мире. Уникальный, непонятый гений, возвышающийся над жалкой человеческой массой. А он встретил такого же ценителя. Такую же одинокую душу, бьющуюся в поисках совершенства. И сейчас, после этого общения с близкой по духу, он с ужасающей ясностью осознал, как был одинок все это время. Его величие оказалось его тюрьмой.
И теперь он не знал, что ему делать. Он нашел своего человека. Ту самую родственную душу, о существовании которой уже почти перестал мечтать. Но этот человек был пленником в его подвале. Обреченной жертвой в его коллекции.
Впервые за все годы своей деятельности он подумал о чувствах того, кого похитил. Не как о материале, не как о совокупности костей и таланта, а как о человеке. Потому что впервые он действительно, без всякой доли условности, посчитал свою жертву человеком. Даже более, он посчитал ее равной себе.
Он не знал, сколько простоял в темноте, раздираемый этими мыслями. Минуты? Часы? Он не знал, что ему делать с Грейс. Но он знал одно с абсолютной ясностью: она нарушила все его планы.
Глава №7. Золотая клетка.
Глава №7. Золотая клетка.
Наконец, отдышавшись и натянув на себя привычную маску самообладания, Ксавьер успокоился. И тут его осенило: в смятении он не запер дверь. Эта простая, техническая ошибка, немыслимая для него раньше, заставила его снова собраться. Он должен был вернуться и исправить оплошность. Восстановить контроль, хотя бы внешний.
Он спокойно, почти бесшумно, спустился обратно. Подой
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



