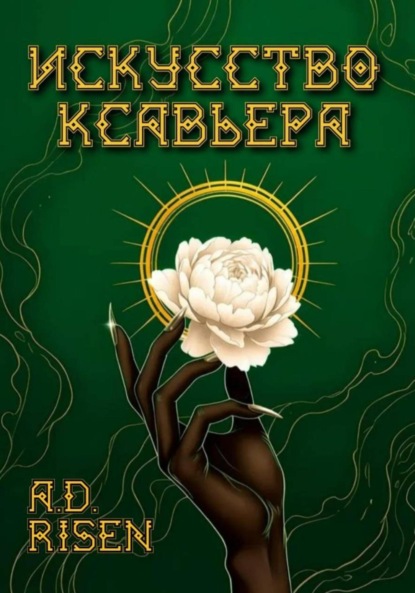
Полная версия:
Искусство Ксавьера
– Жуть, – прошептала она, обнимая себя за плечи, будто пытаясь согреться. – Но… это ведь хорошо, да? Значит, я все правильно сделала. Он ведь заинтересовался мной?
«Я тоже так думаю, – подтвердила Амелия. – Со мной он никогда так много не говорил, как бы я ни кричала, не умоляла и не оскорбляла его. Он относился ко мне как к мелкой собачке, лай которой легко проигнорировать».
– Хорошо. Пока тебя не было, я обдумывала, как действовать дальше, – поделилась Грейс, снова начиная мерно ходить по камере. – Репетировала диалоги, возможные сценарии. Но, Амелия… Я не знаю, что ему взбредет в голову в следующий раз. Как к этому подготовиться?
«Думаю, нет смысла готовиться к конкретным ситуациям, – посоветовала Амелия, ее мысленный голос прозвучал успокаивающе. – Главное создай образ. Ты должна быть гибкой, но несгибаемой. Слушай его. Отвечай не сразу, обдумывай. Помни – он ценит эстетику и ум. Не поддавайся на провокации, не показывай страх. Ты уже доказала, что можешь держать удар. Продолжай в том же духе. Доверься своей интуиции. И помни, я всегда рядом. Я буду твоими глазами и ушами».
Их мысленный разговор продолжился. Они обсуждали мельчайшие детали его поведения, строили предположения, делились страхами и надеждами. Амелия рассказывала Грейс о доме, о его привычках, создавая для нее более полную картину врага. Грейс, в свою очередь, делилась своими мыслями, находя в диалоге с невидимой подругой опору и уверенность.
Страх никуда не делся. Он витал в сыром воздухе подвала, сковывал по ночам. Но теперь он был не единственным жильцом этого каменного мешка. Его соседями стали хрупкая, но растущая надежда, острый ум и невероятно сильная воля к жизни. Две девушки – одна призрак, другая пленница – сплетали из своих страданий и надежд тонкую, но прочную нить, которая, они верили, однажды выведет их к свободе.
Глава №4. Аксиома творца.
После того разговора, того первого, опасного прорыва сквозь ледяную скорлупу ее тюремщика, в подвале воцарилось новое, странное затишье. Оно не было мирным – скорее, напряженным, как натянутая струна, готовая оборваться от малейшего прикосновения.
Ксавьер теперь всегда здоровался, входя в камеру. Его «Добрый день, Грейс» звучало с той же вежливой, безжизненной учтивостью, с какой он мог бы обращаться к случайному попутчику в лифте. Он кратко спрашивал о ее самочувствии, и в его глазах, обычно пустых, как утренний туман, Амелия с ее призрачной проницательностью улавливала тень ожидания. И он действительно выжидал, когда она произнесет нечто, что заставит его холодный, отточенный ум вновь встрепенуться от интереса.
Грейс не обманывала его ожиданий, но и не спешила их удовлетворять. Она отвечала ему тем же – вежливым, почти бесстрастным тоном, изредка позволяя уголкам губ дрогнуть в подобии улыбки, лишенной тепла. Это была ее маска, ее щит, и она оттачивала его до блеска. Каждый день, оставшись одна, она репетировала не только слова, но и выражения лица, отточенные жесты, изучая в воображении каждую трещинку в его броне.
Их молчаливая игра принесла свои плоды. Однажды, заметив, что Грейс инстинктивно потирает замерзшие руки, он в следующее свое посещение принес не только еду. В его руках были аккуратно сложенные мягкое шерстяное одеяло, подушка в шелковичной наволочке и стопка чистого постельного белья. Позже появился небольшой, но прочный столик, на который он теперь ставил поднос с пищей. И еда… она изменилась. Безвкусные пайки сменились простыми, но качественными продуктами: свежий хлеб, сыр, фрукты, куриная грудка на пару. Это была не доброта. Это была плата. Вознаграждение за ее неординарность, за то, что она разбила его скучный, предсказуемый ритуал взаимодействия с «материалом».
Они не возвращались к разговору о ее участи. Эта тема висела в воздухе тяжелым, невысказанным приговором. Но Грейс определенно зацепила его. В тихие, бесконечные часы между его визитами они с Амелией строили планы, анализировали каждую его реакцию, каждую микроскопическую перемену в поведении.
И вот, спустя примерно полторы недели этого странного, вежливого перемирия и медленного улучшения условий ее заточения, они решили, что пора сделать следующий ход. Рискованный, почти наглый.
***
«Он идет», – мысленный голос Амелии, острый и предупреждающий, пронзил привычную тишину подвала.
Грейс, сидевшая на краю кровати, мгновенно прервала свое занятие – она мысленно повторяла сложный пассаж из Чайковского, и ее пальцы бессильно шевелились на коленях. Она выпрямила спину, плечи расправились, лицо приняло привычное выражение спокойной, почти отстраненной уверенности. Маска была на месте.
Дверь открылась с привычным скрипом. В проеме, как всегда, возник Ксавьер с подносом в руках. Легкая, учтивая улыбка тронула его губы. Он вошел в комнату и направился к столу, по пути привычным взглядом осматривая свою пленницу.
– Добрый день, Грейс. Надеюсь, ты…
Он не договорил. Его слова повисли в воздухе, потому что Грейс не обернулась. Она сидела, уставившись в голую бетонную стену, словно не заметив его присутствия. Она не ответила на приветствие. Не кивнула. Не сделала ни малейшего движения в его сторону.
Ксавьер замер. Легкая улыбка сползла с его лица, как маска. Он медленно, с подчеркнутой театральностью, поставил поднос на столик.
– Грейс, – его голос, обычно галантный и ровный, на этот раз прозвучал резче. В нем дрогнули едва уловимые, но отчетливые нотки раздражения. – Я только что поздоровался с тобой. Разве ты меня не услышала?
Она продолжала игнорировать его, глядя в стену с таким видом, будто разгадывала в трещинах штукатурки тайны мироздания. Ее молчание было плотным, тяжелым, осязаемым.
Ксавьер сделал шаг вперед. Его тень упала на нее, длинная и уродливая.
– Грейс, я настаиваю…
И тут она резко, почти со щелчком, повернула к нему голову. Ее глаза, обычно притворно-спокойные, теперь горели сдержанным, но ясным огнем.
– Мне скучно, Ксавьер. Ужасно скучно. – Ее слова прозвучали не как жалоба, а как обвинение. – Здесь совершенно нечем заняться. А я не привыкла бездельничать.
Брови Ксавьера медленно поползли вверх. Его лицо выражало такое чистое, неподдельное изумление, что Грейс едва не сорвалась и не улыбнулась. Такого он точно не ожидал.
– Скучно? – переспросил он, и в его тоне зазвучало что-то от учителя, раздраженного глупым вопросом отличника. – Позволь напомнить, когда ты пыталась вырваться еще в самом начале, скучно тебе точно не было. Ты, кажется, забыла, в каком положении находишься…
– Не смотря ни на что, – вновь перебила его Грейс, и на этот раз в ее голосе зазвенела сталь, – ни на окружающие условия, ни на свое состояние, как бы ни было сложно, я всегда продолжала тренироваться. Каждый день. – Она сделала искусную паузу, давая словам просочиться в его сознание, и снова отвернулась, демонстративно глядя в стену. – А сейчас я не прикасалась к скрипке уже больше недели. Моя жизнь – это музыка, я ею дышу, я ею живу. А теперь я вынуждена сидеть в этой… адской тишине. И для меня это просто невыносимо.
Она вновь повернулась к нему. Маска спокойствия окончательно треснула, уступив место горькой, живой злости, которая была куда убедительнее любой наигранности.
Ксавьер стоял, словно опешивший. Она снова, в который уже раз, ломала его ожидания от поведения жертвы.
– Разве вы не должны меня понимать? – продолжила она, и ее голос внезапно стал тише, почти интимным. Она подняла руку и начала накручивать на палец прядь своих волос, легкий, почти кокетливый жест, столь контрастирующий с мрачным окружением. – Эти руки… они не должны бездействовать.
И тогда она плавно вытянула перед собой обе кисти. Пальцы ее были длинными и утонченными, но при этом в них чувствовалась скрытая сила, годами оттачиваемая бесчисленными часами репетиций. Это была действительно красивая, почти скульптурная часть ее тела – изящная, элегантная, созданная, казалось, для одного-единственного божественного предназначения: создавать музыку.
Ксавьер смотрел. Его взгляд, привыкший оценивать все с точки зрения будущей композиции, с профессиональным, почти хищным интересом скользнул по линиям ее ладоней, по гибким суставам, по кончикам пальцев. Он видел в них не просто часть тела. Он видел инструмент. Совершенный инструмент, сейчас молчащий и бесполезный. И в его глазах, впервые за этот разговор, вспыхнула та самая искра, которой так ждали Грейс и Амелия – искра не просто интереса, а глубокого, творческого осознания.
Что-то дрогнуло в ледяной глади души Ксавьера. Какой-то старый, забытый механизм, ржавый от долгого неиспользования, с скрежетом попытался сдвинуться с места. Это было непривычное, почти болезненное ощущение – укол. Не раскаяния, нет, а скорее… диссонанса. Диссонанса между его собственной, выстраданной философией и ее, столь же безжалостной, но произнесенной чужими устами. Он, ставящий искусство выше морали, выше закона, выше самой жизни, – это была его личная, выстраданная в одиночестве догма. А вот она, его жертва, его будущий трофей, произносила это как нечто само собой разумеющееся. Ее беспокоило не то, что он похитил ее, не то, что ее скоро ждет смерть, а то, что он лишил ее возможности творить. Это было настолько неожиданно, настолько выбивалось из всего предыдущего опыта, что его разум на мгновение застыл в ступоре.
Он начал смотреть на нее иначе. Не как на объект, не как на совокупность костей и плоти, идеально подходящую для его целей. Теперь он смотрел на нее как на необъяснимое явление.
Грейс, чувствуя его замешательство, опустила свои изящные руки и снова положила их на колени, не сводя с него взгляда. В ее глазах, чуть прищуренных, читалась уже не наигранная, а подлинная, живая злость – обида художника, чей инструмент отняли. Она смотрела на него так, будто он и впрямь совершил перед ней непростительную, низменную ошибку.
Ксавьер задумался, его пальцы бессознательно постучали по крышке столика. Он искал ответ, который вернул бы ему контроль над ситуацией, но все привычные формулы вдруг показались плоскими и неуместными. Затем он тихо, с некоторой долей самоиронии, усмехнулся.
– Действительно, – произнес он, и его голос вновь обрел бархатистость, но теперь в ней слышалось некое новое, оценивающее удивление. – Не думал, что тебе будет дело до этого. Все остальные… беспокоились о своей жизни.
– А я не другие, – парировала Грейс, и ее слова прозвучали с той самой холодной, бескомпромиссной уверенностью, что была ему так знакома по его собственным мыслям. – Я ставлю искусство выше человеческой жизни.
По спине Ксавьера пробежала молния. Не страх, не гнев – нечто куда более мощное и редкое: шок узнавания. Его собственные мысли. Она мыслила так же. Она, живая, дышащая, пугливая плоть, разделяла его, Ксавьера, самую сокровенную, самую чудовищную аксиому. Это было подобно тому, как если бы его собственное отражение в зеркале внезапно заговорило с ним на его тайном языке.
И тогда он, желая проверить прочность этой новой, хрупкой конструкции, нанес удар – логичный, безжалостный, каким всегда атаковал сам себя в минуты сомнений.
– Какой смысл тебе продолжать репетировать? – спросил он, и в его глазах вспыхнул холодный, почти научный интерес. – Ты скоро умрешь. У тебя нет времени разучивать новые партии. И зрителей у тебя тоже нет. Никто этого не оценит.
Грейс выслушала его, не моргнув. Казалось, она ждала этого вопроса. Ее ответ был отточен, как лезвие.
– Я играю не для других, а для себя, – возразила она, и ее голос зазвучал тише, но тверже. – И я не просто репетирую. В последнее время я начала писать свою музыку. Я шла к этому очень долго. Лично сочинить нечто значимое – это дело всей моей жизни. Мне необходимо закончить свою мелодию, даже если это последнее, что я сделаю.
Она сделала крошечную, идеально выверенную паузу, давая ему прочувствовать всю тяжесть этих слов. А затем нанесла еще удар, столь же гениальный, сколь и отчаянный.
– К тому же, про отсутствие зрителей вы тоже ошибаетесь, – продолжила она, и ее голос стал тише, но обрел новую плотность. Она смотрела на него прямо, и в ее взгляде не было ни вызова, ни лести – лишь странная, обреченная ясность. – Вы – мой зритель. Единственный. И, возможно, самый важный.
Она сделала крошечную паузу, позволяя этим словам просочиться в его сознание, как яд, сладкий и губительный.
– И раз уж вы – настоящий ценитель, человек, для которого искусство не пустой звук, – ее губы тронуло что-то вроде горькой, смиренной улыбки, – то я… я почти рада, что свою последнюю мелодию сыграю именно для вас. В конце концов, что может быть честнее для творца, чем быть понятым другим творцом? Даже если цена этому понимания – жизнь.
Этот последний штрих, этот оттенок фаталистического принятия, смешанного с признанием его статуса, стал тем финальным аккордом, что сработал безотказно. Она не просто констатировала факт. Она возводила его в ранг избранного, единственного достойного свидетеля ее финального акта творения. Она превращала его из палача в церемониймейстера ее собственного прощания с искусством.
В этот миг Ксавьер почувствовал нечто большее, чем просто интеллектуальный интерес. Ее слова пробудили в нем нечто архаичное, почти мистическое – чувство ритуальной сопричастности. Он более не был просто коллекционером, извлекающим душу. В ее картине мира он становился жрецом, принимающим последнее жертвоприношение художника – его итоговое творение. И этот образ, этот нарратив, был невыразимо сладок для его утонченного, извращенного эго.
Уже заинтересованного Ксавьера ее слова взбудоражили окончательно. Впервые с тех пор, как он начал смотреть на людей как на мутные, несовершенные зеркала, он увидел в одном из них не темную, матовую поверхность, а свое собственное, ясное отражение. Казалось, в этот момент в глубине его давно охладевшего, превращенного в кристалл рассудка сердца что-то дрогнуло. Он испытал странную, двойную волну чувств: возбуждение, почти радость от того, что нашел родственную душу, и тут же – стремительное, темное падение, разочарование в самом себе. Как он мог? Как он, ценитель и творец, мог лишить эту девушку, так страстно тянущуюся к искусству, возможности творить? Это была не жалость. Это было осквернение его собственных принципов.
Было видно по его лицу – благородному, утонченному лицу, которое вдруг на мгновение утратило всякое выражение, – что Ксавьер замешкался. Он стоял, словно гроссмейстер, увидевший на доске совершенно новый, незнакомый ход. Казалось, он даже не знал, что сказать.
Прошло несколько мгновений, прежде чем он проговорил, и его голос звучал непривычно приглушенно:
– Я… и не думал, что для тебя это настолько важно. – Он медленно выдохнул, и его взгляд, скользнув по ее рукам, снова встретился с ее взглядом. В его глазах читалось сложное, почти мучительное решение. – Что ж. Я достану тебе скрипку. И все необходимое. Я разрешу тебе дописать твою мелодию.
Грейс не стала ликовать. Она лишь слегка склонила голову, и ее губы тронула улыбка – на этот раз не вежливая и холодная, а чуть более широкая, почти теплая.
– Благодарю. Буду ждать.
И в этот момент в бетонной коробке, лишенной окон и солнечного света, где пахло сыростью и страхом, она сама стала этим светом – крошечным, упрямым, но невероятно ярким лучом, сумевшим пронзить самую толщу мрака.
Ксавьер, все еще находясь под впечатлением, коротко попрощался. Она ответила ему тем же, и он вышел, оставив ее одну с чувством головокружительной, немыслимой победы.
***
Едва дверь захлопнулась, окончательно поглотив звук его шагов, напряженная, собранная поза Грейс рассыпалась, как подкошенная. Она вся дрожала, будто в лихорадке, и ее пальцы судорожно впились в край матраса.
– Ну как? – выдохнула она, обращаясь в пустоту, и ее голос сорвался на визгливый, почти истеричный шепот. – Скажи же! У меня получилось?
Амелия, невидимым облаком тревоги и анализа витавшая в воздухе, тут же отозвалась, стараясь вложить в свой мысленный голос как можно больше уверенности и тепла, на которое была способна.
«Молодец, Грейс. Ты держалась безупречно. Ты видела его лицо? Ты всколыхнула в нем что-то настоящее, не только интерес, но и… что-то вроде уважения. Теперь у нас есть время. И главное – у нас будет скрипка. Это наш ключ, наш шанс воплотить замысел в жизнь».
– Верно, – тихо, уже привычно съежившись на кровати, пробормотала Грейс. Она обхватила колени руками, пытаясь сдержать новую, накатывающую волну тремора. – Но… Смогу ли я? – ее голос дрогнул, и она спрятала лицо в коленях. – Видно, что он начал относиться ко мне больше как к человеку, чем к предмету. Но он все еще планирует меня убить, Амелия! Он все еще смотрит на меня и видит будущий «шедевр»! Я не знаю, сколько еще смогу притворяться… – Она всхлипнула, и ее плечи затряслись. – С каждым днем мне все сложнее. Каждая такая сцена выжимает меня досуха. Я играю роль, а внутри все кричит от ужаса.
Амелия замерла. Она слышала эту боль, эту агонию, пронзающую каждую клеточку Грейс. Она хотела излить на нее поток утешений, ободрений, сказать, что все будет хорошо, что они справятся. Но слова застряли в горле. Вернее, в том, что когда-то было горлом. «Держись», «Ты сильная», «Мы обязательно выберемся» – все эти фразы она повторяла уже сто раз, и они истерлись до дыр, потеряв всякий смысл и утешительную силу. Они звучали плоскими и фальшивыми, как дешевая монета.
Порывом отчаяния Амелия попыталась обнять Грейс – приблизиться, обвить ее призрачными руками, дать ей почувствовать, что она не одна. Но ее объятие было ничем. Легкий, леденящий ветерок, прошедший сквозь плечо девушки, неспособный передать ни тепла, ни поддержки. Грейс лишь бессознательно передернулась, как от сквозняка.
И тут, сквозь жалость, прорвалось что-то острое, колючее, черное. Злость. Горячая, несправедливая, ядовитая злость. Она жива. У нее есть руки, ноги, сердце, что бьется в груди. У нее есть шанс, пусть и небольшой. Она может дышать, плакать, чувствовать солнечный свет на коже – если когда-нибудь снова его увидит. А я… я ничего этого не могу. Я уже все потеряла. Я помогаю ей из последних сил, я ее единственная надежда, а она… ноет. Сидит и ноет, когда должна бороться за каждую секунду! Вот если бы я была на ее месте…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



