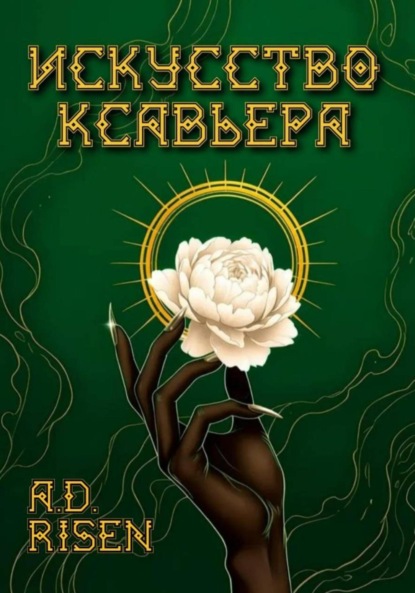
Полная версия:
Искусство Ксавьера
«Он видит в тебе собеседника, Грейс, – анализировала Амелия, невидимо присутствуя на этих сеансах. – Ты стала для него чем-то вроде живого журнала по искусству. Он черпает в этих разговорах вдохновение. Будь осторожна. Не дай ему заподозрить, что ты просто зеркалишь его мысли».
И Грейс была осторожна. Она вплетала в диалоги собственные, искренние суждения, рискуя спровоцировать спор. И он ценил это. Однажды, после ее небольшой, но страстной тирады в защиту авангарда, он покачал головой и сказал с той самой легкой, почти дружеской усмешкой:
– Вы непоколебимы в своих вкусах. Редкое качество. Большинство людей лишь плывут по течению чужих мнений.
В его голосе звучало неподдельное уважение. И в этот момент Грейс, поймав его взгляд, полный не привычной холодной оценки, а живого интереса, чувствовала, как по спине бегут противоречивые мурашки. Это был тот самый мост, который они с Амелией пытались построить. Но идя по нему, она с ужасом чувствовала, что под ним по-прежнему зияет бездна, и на другом конце ее ждет не свобода, а смерть, лишь приукрашенная интеллектуальными беседами.
***
И вот этот день настал. Его появление на этот раз было иным – не молчаливым и стремительным, а торжественным и несущим ношу. В руках он держал не поднос, а футляр. Длинный, узкий, из темного, отполированного дерева, с латунными застежками. Сердце Грейс замерло, а затем забилось с такой силой, что звон стоял в ушах.
За ним следовали и другие дары. Он молча поставил в углу крепкий деревянный стул с прямой спинкой, идеально подходящий для долгих часов занятий, и прочный письменный стол, на котором можно было бы разложить целую симфонию. Пока она не могла отвести глаз от футляра, он ловко выкрутил старую, мерцающую лампочку под низким потолком и ввинтил новую – ее свет был ясным, ярким и белым, почти как дневной, он разгонял зловещие тени, делая камеру меньше, но и менее давящей. На стол он поставил еще одну лампу – изящную, на батарейках, с темным абажуром, которая могла бы стать ее личным солнцем в ночные часы.
И только потом, с легким, почти церемониальным движением, он протянул ей футляр.
Грейс, не в силах сдержаться, сделала шаг вперед. Ее пальцы дрожали, когда она взяла его. Он был тяжелым, ощутимым, настоящим. Она щелкнула застежки. Внутри, в бархатных ложах, покоились они: скрипка и смычок из светлого, теплого дерева, отполированные до мягкого блеска. Рядом лежали кусочек темно-янтарной канифоли, метроном и аккуратная пачка нотной бумаги с острыми, как бритва, краями. Рядом – несколько отточенных карандашей и белый ластик. И последнее – складной пюпитр, чтобы можно было играть, не склоняясь над столом.
Он подумал обо всем,– пронеслось в ее голове с обжигающей ясностью. Это была не просто уступка. Это было полное, тотальное оснащение. Как для настоящего композитора.
– Спасибо, – выдохнула она, и в этом слове не было ни капли наигранности. Оно вырвалось из самой глубины ее существа, из той части души, что всегда принадлежала музыке. Ее глаза сияли, в них стояли слезы – на этот раз не от страха, а от захлестывающей, болезненной радости. Она прижала футляр к груди, как мать прижимает ребенка. – Огромное спасибо.
Ксавьер наблюдал за ее реакцией со своим обычным, аналитическим спокойствием, но в уголках его глаз залегло нечто новое – удовлетворение коллекционера, видящего, как его редкий экспонат занимает предназначенное ему место в идеальной экспозиции.
– Не за что, – ответил он вежливо. – Начинайте. Я буду время от времени наведываться, чтобы оценить ваши успехи. Мне интересно услышать… вашу музыку.
Грейс посмотрела на него, и на ее губах расцвела самая широкая, самая искренняя улыбка за все время заточения.
– Естественно, – сказала она.
И затем, не медля ни секунды, она повернулась к столу спиной. Ее внимание было полностью поглощено подаренными сокровищами. Она бережно извлекла скрипку, проверила натяжение струн, провела пальцами по грифу, ощущая подушечками знакомые шероховатости. Она установила пюпитр, положила на него чистый лист нотной бумаги и схватила карандаш. Она полностью забыла о нем. Он перестал существовать. В этом каменном мешке теперь были только она и музыка.
Ксавьер постоял еще мгновение, наблюдая, как она, уже не обращая на него никакого внимания, погружается в иной мир, который он ей предоставил. На его лице не было обиды или раздражения от того, что девушка о нем забыла, лишь легкая, одобрительная усмешка. Так и должно было быть. Художник и его творение. Он мягко кивнул пустоте и так же бесшумно удалился, оставив ее в сияющем круге лампы, наедине с мелодией, что должна была стать для нее либо спасением, либо эпитафией.
***
Скрипка, прижатая к плечу, была чужая. Другой изгиб деки, иное сопротивление струн, непривычный вес. Первые звуки, извлеченные смычком, прозвучали робко и фальшиво, резанув тишину подвала. Но для Грейс это был не диссонанс – это был голос жизни, прорвавшийся сквозь каменную гробницу.
«Всё можно пережить, если подобрать нужную песню», – вспомнилась ей чужая мудрость, и теперь она обрела буквальный, жуткий смысл. Ее жизнью теперь была эта песня. Ей предстояло не просто подобрать ее, а выстрадать, высечь из собственной души.
Она солгала Ксавьеру, сказав, что уже в процессе. Но в этой лжи была и доля правды – в глубине души всегда жили обрывки мелодий, неоформленные гармонии, рожденные в минуты особого напряжения или тихой грусти. Она много раз пыталась начать, садясь за дома с блокнотом. Но тогда всегда что-то мешало. Пропадала мотивация, накатывал творческий кризис, казавшийся непреодолимым, или ее поглощала рутина бесконечных репетиций чужих произведений. «Вот добьюсь стабильности в карьере исполнителя – тогда и займусь своим», – откладывала она, как многие откладывают свою главную мечту.
Теперь откладывать было нельзя. Ценой была ее жизнь. Эта мысль висела над ней дамокловым мечом, но парадоксальным образом именно она, эта страшная цена, сожгла все мосты, уничтожила всю шелуху сомнений и страхов. Не было выбора – писать или не писать. Было только – писать, чтобы выжить.
Собрав весь свой опыт, всю свою волю, она села творить. Сначалабыло мучительно. Она брала смычок, и пальцы сами выводили заученные, чужие пассажи – то Бетховена, то Чайковского. Она ловила себя на этом, злилась и заставляла остановиться. Она закрывала глаза, пытаясь прислушаться не к памяти, а к тому, что звучало внутри, за громким стуком собственного сердца.
Она вспомнила свои старые, стыдливо спрятанные в стол наброски. Ту минорную тему, которую когда-то сочинила после предательства – она казалась ей теперь наивной и слащавой. Ту попытку написать нечто героическое и пафосное – вышло неуклюже и вторично. Горькая волна разочарования накатила на нее. «У меня ничего не получится. Я не композитор. Я всего лишь хорошая исполнительница, обезьяна, воспроизводящая гениальность других».
Слезы подступили к глазам, но она с яростью смахнула их тыльной стороной ладони. «Нет. Не сейчас. Не здесь». Она вцепилась в скрипку, как в спасательный круг, и снова заставила пальцы скользить по грифу. Не играть, а искать. Извлекать не звуки, а ощущения. Она играла тихо, почти шепотом, слушая, как вибрация инструмента отзывается в ее костях, в ее израненной душе.
И вдруг, сквозь хаос неуверенности и страха, прорвалось нечто. Не мелодия еще, а лишь ее призрак – короткая, нисходящая фраза, всего три ноты, но в них была такая тоска, такая безысходная, одинокая красота, что у нее перехватило дыхание. Она замерла, боясь спугнуть это ощущение.
Потом схватила карандаш. Дрожащей рукой вывела на нотном стане эти три ключевых знака. Они стали якорем. Точкой отсчета. И от них повело ниточку. Еще одна фраза, на этот раз более трепетная, с вопросом. Потом резкий, почти гневный аккорд-ответ. Она писала, забыв обо всем. О времени, о Ксавьере, о своем положении. Яркий свет лампы выхватывал только ее руки, летающие над грифом и листом бумаги, и тень, метавшуюся по стене в такт ее внутреннему напряжению.
Прошли часы. Ее спина затекла, пальцы левой руки горели от постоянного давления на струны, а на правой уже намечались мозоли. Но когда она наконец опустила смычок, изможденная и одновременно возбужденная, перед ней на нотной бумаге лежало нечто большее, чем несколько тактов. Там была идея. Хрупкий, но живой росток ее собственной музыке. Первый мотив, вокруг которого можно было выстроить целый мир.
И тогда, глядя на эти закорючки, она вспомнила. Не о смерти, а о жизни. О своей старой, почти детской мечте, которую она хоронила под грузом практичности и чужих ожиданий. «Я хочу, чтобы играли мою музыку. Чтобы дирижеры поднимали палочку, а оркестр исполнял не Бетховена, а Грейс Миднайт».
И сейчас, в этом абсурдном, ужасающем положении, ее мечта с ироничной жестокостью сбывалась. У нее не было отвлекающих факторов. Не было сомневающихся преподавателей, требований моды, необходимости нравиться публике. Была только она, инструмент и абсолютная, пугающая свобода творить, рожденная из абсолютного, смертельного заточения. Она наконец-то могла посвятить себя своей давней мечте. Но такой ценой, о которой боялась даже подумать.
Грейс отложила смычок, ее пальцы дрожали от напряжения и восторга. Первые такты, робкие, но живые, застыли на нотной бумаге, обещая нечто большее. Она не могла сдержать порыва, обратившись к пустоте с сияющими глазами:
– Амелия! Ты слышала? Как тебе? Получается, правда получается!
Тишина.
Она ждала, улыбка медленно застывала на ее лице. Слушала внутренним слухом, пытаясь уловить знакомое присутствие, тот самый тихий шепот в сознании.
– Амелия? – снова позвала она, уже тише.
Ничего. Лишь гул в ушах от непривычной тишины после часов, наполненных звуками. «Вероятно, ее здесь нет»,– с обидной догадкой подумала Грейс. Эйфория мгновенно схлынула, сменившись одиночеством, таким острым, что его можно было почти потрогать. Она с досадой отложила скрипку, плюхнулась на кровать и, поддавшись внезапной физической и эмоциональной истощенности, почти мгновенно провалилась в тяжелый сон.
А Амелия стояла рядом.
Она видела сияющие глаза Грейс, слышала ее восторженный вопрос и тут же, немедленно, послала в ответ волну теплого, полного искреннего восхищения одобрения: «Слышала! Это прекрасно, Грейс! Такой живой, настоящий мотив!»
Но ее мысленный голос, казалось, ударился о невидимую стеклянную стену и рассыпался на тысячи беззвучных осколков. Грейс смотрела прямо сквозь нее, улыбка на ее лице гасла, не получив отклика.
«Я ведь ответила ей… – мысленно прошептала Амелия, ощущая леденящую пустоту. – Она не услышала. Но почему?»
Это открытие повергло ее в ступор. В последнее время их связь, казалось, только крепла. Грейс улавливала не только сильные эмоции, но и сложные образы, почти слова. А теперь… тишина. Абсолютная.
По ее призрачному естеству пробежали ледяные мурашки – странное ощущение, которого она не испытывала с тех пор, как стала призраком. Легкий, но отчетливый страх. Что, если связь ослабевает? Что, если она, единственное, что связывает Грейс с надеждой, начинает исчезать?
Но почти сразу же нашлось рациональное, успокаивающее объяснение. «Ну, она не всегда меня слышала с самого начала. Наверное, связь все еще нестабильна. Волноваться не о чем. Поговорю с ней завтра, когда она отдохнет. Сейчас ей и правда нужен сон».
Успокоив себя, Амелия отплыла в угол, решив не беспокоить спящую. Но крошечная трещина сомнения и страха уже легла на ее бестелесное сознание. Тончайшая шелковая нить, связывавшая их миры, внезапно ослабла, и Амелия не могла отделаться от ощущения, что это – дурное предзнаменование.
***
Тревожная тишина, повисшая после неудавшегося контакта с Грейс, гнала Амелию прочь из подвала. Ей нужно было понять, что происходит. И единственным источником ответов был он.
Она нашла Ксавьера в кабинете. Дверь была приоткрыта, а сам он сидел за массивным письменным столом, погруженный в работу. Сейф стоял распахнутым, и Амелия с отвращением отметила, что на столе снова были разложены материалы из досье Грейс. Мягкий свет настольной лампы отбрасывал длинные тени, делая его профиль еще более резким и отстраненным.
«Опять этот псих занимается своими мерзкими маньячными штуками»,– с горькой яростью подумала Амелия, и ее призрачное лицо исказила гримаса брезгливости. Она приблизилась, паря за его спиной, пытаясь разглядеть, что же он так усердно выводит в своем блокноте.
Но то, что она увидела, не укладывалось в привычную схему. Это не был холодный, методичный отчет. Страницы были испещрены нервными, торопливыми пометками. Он то яростно зачеркивал целые строчки, то с резким движением вырывал лист, сминал его и отбрасывал в сторону. Амелия никогда не видела его таким – растерянным, почти беспомощным. Казалось, он пытался переписать досье на Грейс, включив в него новые данные – их беседы, ее слова об искусстве, – но у него отчаянно не получалось ухватить суть. Он записывал факты, но они, видимо, казались ему плоскими, не отражающими того, что он теперь о ней знал.
В конце концов, он отшвырнул карандаш и откинулся на спинку кресла, уставившись на творческий беспорядок на столе. Он сидел так несколько минут, абсолютно неподвижный, его взгляд был устремлен в какой-то сложный, внутренний лабиринт. Амелия замерла, наблюдая за этой немой борьбой.
Затем он резко встал и с привычной, почти маниакальной аккуратностью начал собирать бумаги, возвращая их в папку. Движения были точными, но механическими, пока он не добрался до последнего листа. Здесь его руки замедлились. Он взял лист и какое-то время просто смотрел на него.
Амелия подплыла ближе и заглянула через его плечо. И застыла.
Это был рисунок. Не фотография, а карандашный набросок, выполненный с удивительным мастерством и… нежностью. На бумаге была запечатлена Грейс. Но не та испуганная, исхудавшая пленница из подвала. Это было ее лицо, каким оно, должно быть, было на сцене – одухотворенное, прекрасное. Длинные светлые волосы, изображенные легкими, летящими штрихами, обрамляли тонкие, но выразительные черты. Большие каре-зеленые глаза смотрели с портрета с глубиной и сосредоточенностью, в них читалась вся та внутренняя сила, что так поразила Ксавьера. Худоба щек была передана не как признак истощения, а как часть хрупкой, утонченной эстетики. Ни синяков, ни следов страданий – только чистая, незамутненная красота творческого духа.
Амелия, затаив дыхание, перевела взгляд на лицо самого Ксавьера. И то, что она увидела, заставило ее призрачную сущность содрогнуться. На его губах играла улыбка. Но это была не та холодная, самодовольная усмешка, что она знала. И не любопытство ученого. Эта улыбка была… теплой. Мягкой. В его глазах, обычно пустых, как заброшенные колодцы, светилось нечто, что Амелия не могла определить иначе как человеческая нежность.
«Да чтоб у этого монстра было такое выражение лица?!»– пронеслось в ее сознании с шокирующей яростью. Это было страшнее любой его жестокости. Это ломало все ее представления о нем.
Ксавьер еще мгновение полюбовался рисунком, затем с тихим, почти слышимым вздохом аккуратно поместил его в папку, закрыл сейф и повернул замок. Он вышел из кабинета, выключив свет, оставив Амелию в полной темноте – не только физической, но и метафизической. Она осталась одна с тяжким осознанием: игра только что усложнилась до невозможности. Их враг начал меняться. И они не могли предсказать, кем он станет в итоге – более уязвимым… или бесконечно более опасным.
Амелия стояла в темноте кабинета, сжимая несуществующие кулаки. Внутри нее бушевал ураган из стекла и льда, ранящий осколками осознания. Сегодня она видела теплые улыбки двух людей. Грейс – жертвы, которая по всем законам этого ада не должна была искренне улыбаться, чья душа должна была быть раздавлена вечным страхом и ожиданием смерти. И Ксавьера – монстра, творящего такие чудовищные вещи, что сама мысль о наличии у него обычных человеческих чувств казалась кощунственной.
Но, вопреки всему, она видела их странное, извращенное, но неоспоримое подобие счастья. Грейс – в объятиях музыки, Ксавьер – в лучах неожиданного, почти человеческого признания.
И это зрелище вызвало в Амелии жгучую, ядовитую зависть. Беспощадную и несправедливую. Она пронзила ее призрачную суть больнее, чем любое физическое страдание. Она ненавидела эту несправедливость. Она не могла больше ни на кого смотреть.
Порывом отчаяния она ринулась прочь, на чердак – свое прежнее убежище, которое не посещала с тех пор, как в доме появилась Грейс. Пыльное, забытое царство встретило ее гробовой тишиной. Она подплыла к знакомому окну. Сквозь грязное стекло лился бледный, холодный лунный свет. Он падал на пол, но не встречал препятствий – она не отбрасывала тени. Она была дырой в реальности, пустотой, не способной взаимодействовать даже со светом.
Она прикоснулась лбом к ледяному стеклу, за которым для нее не существовало выхода. Когда появилась Грейс, она встрепенулась всем своим существом. В ее небытии вспыхнула искра безумной надежды. Она думала, что больше не одинока, что через эту девушку сможет что-то сделать… хоть что-то. И она делала! Она вкладывала в Грейс всю свою волю, весь свой наблюдательный ум, всю свою ярость. Она была ее стратегом, ее ангелом-хранителем, ее единственной нитью к спасению.
У самой Амелии такого шанса не было. Вообще никакого. Ксавьер тогда казался ей несгибаемым, идеальным психопатом, монолитом бесчеловечности, которого невозможно было разжалобить или заинтересовать. Она не видела в нем ничего, кроме оболочки джентльмена, скрывающей бездну… до этого самого вечера.
И теперь она, с горечью признавала, что у Грейс действительно высокие шансы обмануть его и выжить. Но эту возможность, этот призрачный свет в конце тоннеля, подарила ей именно Амелия! Только благодаря ей Грейс сейчас жила относительно нормально, творила, а не тряслась в холоде и отчаянии, сломленная и обезумевшая от страха.
Но для самой Амелии было уже поздно. Ей уже никто и ничего не поможет. Хотя она ничем не хуже Грейс. Она тоже всю жизнь работала, старалась, пробивалась сквозь трудности. Она тоже заслуживала жить, не меньше, чем другие! Почему она должна быть тем, кто помогает, но никогда не будет спасен? Почему она единственный призрак в этом доме? Где другие жертвы? Почему никто не пришел помочь ей в кромешной тьме ее собственного заточения и гибели?
Раньше она яростно, без остатка, хотела помочь Грейс. Но теперь, когда их план начал работать, когда она увидела первые плоды своих усилий, Амелия… она чувствовала себя только хуже. Успех Грейс с болезненной остротой обнажил весь ужас и несчастье ее собственной судьбы. У нее была нелегкая жизнь, полная борьбы, и она не думала, что все так внезапно оборвется – именно тогда, когда благодаря годам труда у нее наконец-то начала вырисовываться светлая полоса. Но теперь все это не имело значения. Все было потеряно. Навсегда.
От этой мысли ее охватила невероятная злость на собственную слабость, на свое бессилие. Она так сильно ненавидела своего убийцу! Так сильно ненавидела то, что он наслаждается своей размеренной жизнью, попивает чай у камина, делает, что захочет, не связанный никакими оковами, в то время как она, Амелия, навеки заперта в стенах этого дома, вынужденная наблюдать за его существованием. Она столько раз пыталась хоть как-то навредить ему, но была совершенно нематериальна, а он – глух к ее беззвучным крикам.
И тут, из самых темных глубин ее отчаяния, возникла новая, чудовищная мысль, которой раньше не было: «Но теперь… смогу ли я отомстить ему через Грейс?»
И тут же она осеклась, содрогнувшись от собственной низости. «Да что я такое думаю! Нам нужно еще столько всего сделать, чтобы Грейс выжила! Раньше это казалось почти невозможным, сейчас – очень сложным, но достижимым. Это все так трудно, а я тут думаю о какой-то мести…»
Разум пытался ухватиться за логику. «В любом случае, когда Грейс сбежит, его схватит полиция. Он будет наказан по закону. Несколько пожизненных или даже смертная казнь. И именно я приведу его к этому!»
Но это слабое утешение рассыпалось в прах перед лицом ее вечной муки. «Но я… я страдаю намного больше, чем будет страдать он! Я даже после смерти несвободна, я заперта здесь, с ним!»– закричала она внутри, обхватывая несуществующую голову руками. «Я хочу справедливости! Не просто юридического наказания. Я хочу, чтобы он страдал, не меньше, чем я, чем все его жертвы!»
Она упала на колени, вернее, ее призрачная форма согнулась в пароксизме ментальной агонии. Она разрывалась. Одна часть отчаянно хотела помочь Грейс, спасти ее. Но другой, новой и страшной, этого было уже недостаточно. Ей хотелось мести. Настоящей, жестокой, выстраданной. Вернуть мучителю всю свою боль стократно, заставить его познать ту бездну отчаяния, в которой она пребывала.
«Но я без понятия, как это сделать, – с тоской прошептала она, окончательно склоняясь к пыльному полу. – Совершенно не знаю».
Она лежала в лунном свете, бестелесная и разбитая, желая лишь одного – забыться. Завтра ей снова предстояло быть опорой для Грейс, и она не могла позволить всей этой черноте, этой ярости и зависти просочиться в их связь. За ночь надо было собрать осколки себя в подобие целого. Успокоиться. Обмануть саму себя.
Завтра будет новый день. Новый этап в борьбе с монстром. Но теперь Амелия шла на эту битву с новой, отравляющей душу целью, которая могла погубить их всех.
Глава №6. Равная.
Глава №6. Равная.
Время, некогда тянувшееся в подвале густым, черным медом отчаяния, теперь обрело иной ритм. Оно текло, подчиняясь не тиканию часов, а такту метронома и скрипу карандаша по нотной бумаге. Дни сливались в череду повторяющихся, но наполненных скрытым смыслом ритуалов.
Шло время. Три недели. Двадцать один день, каждый из которых был отмечен титанической работой души, запертой в четырех стенах.
Грейс писала свою сонату. Это был не просто музыкальный опус; это была звуковая карта ее страха, ее ярости, ее тоски и той призрачной надежды, что теплилась глубоко внутри. Она выстраивала сложные пассажи, вплетала в них диссонирующие аккорды, рожденные кошмаром ее положения, и внезапные, светлые мелодические линии – воспоминания о свободе, о сцене, о жизни, что осталась за пределами этой бетонной коробки. Она писала, забывая о еде и сне, полностью отдаваясь творческому трансу, который стал для нее единственной формой сопротивления и бегства.
Ксавьер все так же приходил к ней. Их беседы об искусстве стали привычным якорем в этом море звуков. Он мог рассуждать о композиционных принципах барокко, а она – парировать тонкими наблюдениями о нервной, рваной структуре музыки XX века. Они по-прежнему говорили на одном языке, но теперь в их диалогах появилась новая, невысказанная тема – та самая музыка, что рождалась здесь, в подвале.
Однако, когда наступало время репетиций, Грейс становится непреклонной. Она откладывала смычок, и накрывала ноты рукой.
– Я сыграю вам свою музыку, когда она будет готова, – заявляла она, и в ее голосе звучала не просьба, а твердое условие художника, не желающего показывать незавершенную работу.
Ксавьер, к его собственному удивлению, вежливо соглашался. Он, всегда бывший богом и повелителем в этом пространстве, теперь признавал ее право на творческую тайну. Он кивал, его взгляд скользил по исписанным листам на столе, и он удалялся, оставляя ее в святая святых ее творческого процесса.
Но его любопытство, разбуженное и взлелеянное ею, было сильнее правил приличия. Иногда, закончив свои дела, он возвращался. Не входя, не выдавая своего присутствия, он замирал у тяжелой железной двери, прильнув ухом к холодному металлу.
Из-за двери доносились звуки. Глухие, приглушенные толщей бетона и железа, лишенные тембра и полноты, они были похожи на голоса из другого измерения. Он не слышал мелодии целиком, лишь обрывки: настойчиво повторяющийся мотив, нервный, быстрый пассаж, внезапно обрывающийся на полуслове, как вздох, застрявший в горле. Порой до него долетали лишь ритмичное поскрипывание смычка и отдаленный стук каблука, отбивающий такт.
Этого было мало. Ничтожно мало. Но это было хоть что-то. Эти обрывки, эти шепоты музыки будоражили его воображение сильнее, чем любая готовая, совершенная симфония. Он стоял в темноте коридора, совершенно неподвижный, превратившись в слух, и в его глазах горел тот самый хищный, творческий огонь, что Амелия видела в его мастерской. Он жаждал услышать больше. И это томление, это вынужденное ожидание делало предстоящую развязку еще более желанной и невыносимой одновременно.
***
В это время жизнь Грейс в подвале претерпела странную, почти сюрреалистичную метаморфозу. Из камеры пыток, пусть и замаскированной под аскетичную комнату, ее убежище постепенно превращалось в некое подобие кельи затворника-творца. Комфорт, ранее выраженный лишь в наличии кровати и стола, теперь обрел плоть и кровь.



