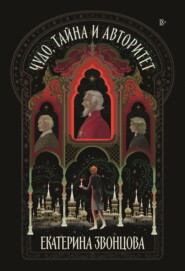скачать книгу бесплатно
– Раз: ты не избавишься от грязи, не вымаравшись в ней. Два: не тебе учить тех, кого сам ты призываешь на помощь.
«Жалкий», – снова прочиталось по глазам, по расправившимся плечам, по тону.
– На помощь, на милость, на благое дело, а не чтоб ты потешался, – упрямо шепнул К. и понял тут же: это конец.
– ПОТЕШАЛСЯ! – Дух еще отпрянул, заревел, хлестко замахнулся, как если бы хотел отвесить ему затрещину, но передумал – и над ладонью лишь зажегся шар холодного красного огня. – Ну смотри у меня… смотри, раз так! – с треском, со скрежетом лед пополз всюду чудовищными щупальцами. – Вот тебе твой… – Дух усмехнулся и закончил с шипением: – прес-с-ступник. И катись на все четыре стороны!
К. не успел ни одуматься и запросить мира, ни даже в полной мере осознать, в чем его упрекают, чем грозят. Стремительно развернувшись, вздыбив плащ, точно кровавые крылья, дух швырнул огненный шар под ноги кому-то, показавшемуся из-за поворота, и исчез. Дом дрогнул, как в агонии. Взрыв осветил длинные волосы, белоснежную рубашку с ослабленным воротом, пустые мрачные глаза на белом лице – и все померкло.
Это был верный гувернер. Аркадий Борисович R., чью сутулость еще не исправила служба, а щеку не отметила шрамом Балканская кампания.
Развенчание. Подтверждение. Правда. К. застонал.
R. спешил, но старался не шуметь; оглядывался, словно дикое животное на незнакомой тропе. К. сглотнул, попятился еще, плотнее прижался к двери взмокшей спиной, прекрасно, впрочем, понимая: не сумеет, конечно, не сумеет ничему помешать. Он ударил в створку кулаком – почувствовал костяшками древесину, но не раздалось ни звука. Время было глухо к нему. Даже гневный призрак едва колебал его необратимое течение.
– Дух… – жалобно позвал К. – Дух, нет, я не хочу; если все так, точно не хочу…
Старик не появился, но рука его словно сильнее сдавила сердце. R. подходил все так же бесшумно, быстрее с каждым шагом, и на ходу доставал из кармана серебряный ключ. К. не видел более его лица; с трудом различал разве что движения. Они не были нервными, ни одно не производило шума – и даже ключ скрежетнул в замке глухо-глухо, повернулся быстро-быстро. В эти секунды R. стоял к К. вплотную, но все равно плыл в тумане. Одно было очевидно: глаза его, обычно ясные и спокойные, странного оттенка увядающих цикориев, превратились в полные темноты провалы. Дверь медленно, без скрипа, открылась – и R. скрылся за ней. А запах, отвратительный запах, остался здесь и стал сильнее.
К. шагнул в спальню прежде, чем осознал это. Дух ведь… был в чем-то прав? Преступление легче раскрыть, если его увидеть. Как ни тяжело смотреть в бездействии.
Он вовремя переступил порог – R. тут же запер дверь. Ключ он убрал в карман, еще раз внимательно осмотрелся и шагнул к постели. Решимость К. все же изменила; несколько секунд он не шевелился, даже смотрел не туда, а в сторону, на прямоугольник полузашторенного окна, на звезды за открытой половиной стекла. Тошнота не проходила. Неужели… неужели?.. Вспомнилось страшное: вторая после ключа улика, быстро переставшая казаться неоспоримой… неужели преждевременно?
О, сколько он этим мучился. Сначала десять лет после самой беды, потом еще пуще – когда оказался у R. в подчинении. Как мотало душу, какие яростные крутились в голове мысли: сначала о нем, потом о себе, снова о нем – и так до бесконечности. «Вальжан ты? Или все же Свидригайлов, которого я покарал, а теперь вынужден терпеть рядом?» Мысли нечем было подпитать, но нечем и убить, поэтому раз за разом они умирали от голода, воскресали и возвращались – два грызущихся волка. К. сжился с ними, как мог бы сжиться с какими-нибудь язвами в желудке, а потом, в прохладном марте, на втором месяце службы R. в московском сыске, произошло то, что сломало хребет одному из волков. Сейчас мертвый зверь опять зашевелился, поднял морду, испачканную кровавой слюной. К. дрожал от одного взгляда в его глаза. И мучительно сожалел, что разозлил старика, остался один не только в прошлом, но и в темном внутреннем лесу.
Когда он все же осмелился повернуться, R. стоял у кровати, на которой D. недвижно лежал на боку. Одеяло его сбилось; под воротом ровно и редко вздымалась смуглая худая грудь; волосы черным полотном стелились по подушке. Ангельское создание… по спокойному лицу было понятно: сейчас D. не видит дурных снов. На тихий оклик мальчик не отозвался, от прикосновения к щеке не очнулся. К. вздрогнул; мысли его об ангелах быстро сменились мыслями о мертвых принцах и о тех, кто приходит к ним.
R. выпрямился и взял с прикроватной тумбы пустую чашку. Заглянул в нее, принюхался, попробовал темной жидкости, пальцем собрав ее со дна.
– Да что же это…
Чашка полетела на пол, к стене – с силой и звоном, который рассыпался по всем углам. Кто угодно подскочил бы, но D. даже не повел головой; кудри его продолжали падать на лоб; ресницы оставались плотно сомкнутыми. Несколько секунд R. глядел на него в надежде, потом схватился за голову, постоял так еще, размышляя, – и опустился в изголовье. Выводы его явно были те же, что и у K.: в таком глубоком сне сотворить можно что угодно. И остаться неузнанным, ненайденным, безнаказанным.
– Нет, – прошептал R. – Нет, не сегодня.
Он не делал ничего, просто сидел, минуту за минутой – только подрагивающая рука водила по спутанным детским волосам. Взгляд же, по-прежнему пустой и почти не мигающий, устремлен был на дверь, в точку над ручкой. К., в свою очередь, жадно, пристально наблюдал за R., нет, за ними, за ребенком и взрослым, – и тошнота, и сердечная боль уходили все дальше. Нет, второму волку не воскреснуть. К. был прав, точно прав, а слова призрака «твой преступник» знаменовали лишь насмешливое, предостерегающее напоминание: не всегда. И мерзкий запах клубился вовсе не вокруг R.; источником было что-то другое. Кто-то.
И кажется, он был рядом.
Начавший задремывать R. подскочил: в двери снова проскрежетал ключ. На этот раз звук был иным, каким-то дробным – несколько раз в скважину явно не попали, точно рука дрожала. От нетерпения, от возбуждения? Удавкой мускусный запах обернулся вокруг шеи К. В спонтанном отвращении, едва дверь начала отворяться, он отпрянул как ошпаренный, тут же спохватился, развернулся…
Нет. Нет. Нет.
Обледенелая дверь, обледенелые стены. А в коридоре плавал туман. Силуэт, замерший на пороге, он делал текучим, неразличимым. Человек… Василиск… был высок, вот и все. Лицо, плечи, одежда – все расплывалось, да еще двоилось, как К. ни напрягал зрение. Он шагнул ближе и сощурился, но ничего не изменилось; прислушался – но человек будто не дышал, так что невозможно было узнать его по сопению, шмыганью носа – любому косвенному признаку. О… как же К. мечтал сейчас об одинокой своей свече.
За его спиной R. привстал и простер одну руку в защитном жесте над мальчиком.
– Вы… – пробормотал он, но и по лицу его, полному ужаса, ничего понять было нельзя. – Отойдите, не смейте, нет…
Быстрая реакция, поражавшая К. на облавах и учениях, в те годы явно еще не была ему свойственна: R. только вставал, а дверь уже закрывалась, бесшумно, но стремительно. R. подлетел, впился в ручку – но в скважине успел повернуться ключ. Пока R. трясущимися руками искал по карманам свой, смолкли спешные шаги. Запах тоже рассеивался. К. уже почти не сомневался: это не был запах в чистом виде. R., судя по его поведению, ничего необычного не почувствовал, когда выглянул в опустевший коридор, добежал до угла, потом до парадной лестницы, потом до черной…
– Боже, боже… – пробормотал он, возвращаясь назад. Прислонился в изнеможении к двери, сполз на пол, опять схватился за голову. Никого не стал звать. Почему?..
К. стоял над ним не в силах шевельнуться. Он проклинал себя, не понимал причину внезапной слепоты: ведь видел в темноте и ребенка, и чашку, и R. А силуэт в коридоре… почему он плыл? Почему менялся каждую секунду, точно выплавленный из ртути или сотканный из ночных облаков? R. поднялся, расправил плечи, вернулся к изголовью кровати и сел. Прижал мальчика к себе, зажмурился – но через несколько секунд отстранился. Поднял глаза. Посмотрел, как показалось К., прямо на него, хотя, конечно, в точку за его головой. Закрыл лицо руками. И затрясся от сдавленного плача.
Мир тоже снова задрожал – и куда-то провалился. К. больше не тянуло крючьями, стены не двигались – он просто падал в пустоте вместе с куском паркета, над которым парил. Вокруг летели предметы, то обгоняя его, то оставаясь позади: диваны и скелеты, чайные сервизы и экипажи, турецкие сабли, книги, иконы, газеты, гнилые яблоки, шпаги, а чаще всего – часы, бесконечное множество идущих часов. Фантасмагорическое зрелище… но К. оно не интересовало. Задрав голову, он все пытался уцепиться взглядом за спальню, которую покинул. За R., оставшегося один на один с какой-то ужасной правдой. Со слишком незакаленным сердцем, чтобы справиться.
Разговор на совете не зря показался странным, а граф не зря вцепился: R. кого-то узнал. Узнал, но не выдал; еще раз мальчика терзали… и, может, терзали бы дальше, если бы чудовище не забылось, если бы не синяки, которые оно оставило, утоляя желания и за пропущенную ночь. Пропущенную… именно так, если память не изменяет. Та самая, о которой Lize говорила, ничем для D. не омрачилась, проснулся он довольно свежим, без кошмаров. Значит, девочка сказала полуправду: да, R. заходил, а вот были ли потом какие-то звуки… об этом не спрашивали, это разумелось само собой, в доме уже стоял переполох, ну а она не уточнила… забыв? Или не пожелав? Что бы она сказала, если бы задали вопрос: «Зашел, а потом?» Еще эти пляски… насколько вообще можно было верить ей? Что носила в мыслях она, эта выдумщица, сладкоежка, чертенок? И зачем дух столько ее показывал? К. стиснул зубы; его прошиб пот. Что, если это подсказка? О том, например, что не один, вовсе не один ребенок в доме из-за кого-то страдал? Или…
– Ты вошел в комнату, – раздалось рядом, и К. вздрогнул, перестал наконец смотреть вверх: все равно бесполезно.
Призрак падал в полушаге, тоже застыв на нескольких скрепленных в шахматном порядке паркетинах, и глядел на него.
Волосы и полы его одежды развевались; глаза горели, но гнев оттуда сгинул. Осталась мрачная жалость, да и только.
– Ты был прав, – К. огромным усилием не потупил голову. – Во всем. Прости меня, и я благодарю за все подсказки. Я… сам виноват, что не смог увидеть. Гордый, упрямый трус.
Призрак хмуро кивнул, но тут же лицо его вдруг смягчилось, будто чуть помолодело. Он коснулся плеча К., и падение их резко замедлилось, предметы вокруг пропали. Темная пустота задышала, засквозила, заполнилась тихим, но более не страшным, очень мелодичным звоном цепей.
– Еще сможешь, – сказал призрак. – Скоро. Но моего орудия, видимо, тут недостаточно. Иди с Богом. Прощай.
Он обхватил костлявыми ладонями свой алмазный крест, улыбнулся бескровно – и прежде, чем К. успел остановить его, стал сгустком красного дыма. Падение вновь ускорилось, но кончилось быстро; удар был такой, словно К., как злосчастная та чашка, разбился на осколки. Хрустнули кости, но, когда он смог открыть глаза – и убедился, что глаза у него есть, – вокруг вместо холодной бездны был знакомый кабинет.
Никакого льда. Огарок в блюдечке почти не уменьшился – правда, красовался на столе, а не на подоконнике. Сон? Явь?.. Бутылка стояла нетронутая. К. вгляделся в нее, вспомнил опять гулкое, покровительственно-теплое «С Рождеством Христовым», а потом почти детский плач взрослого в темной спальне – и уронил голову на стол, сцепил ладони.
– Жалкий… – прошептал он. – Мерзкий…
Но на этот раз он прекрасно знал, кому предназначено это оскорбление. Даже в зеркало не было нужды смотреть.
Совиный дом
10 лет назад
Уже через неделю после печального совета Оса разродился новым злобным фельетоном – о нежнейшей любви учителей к маленьким ученикам. В пример он приводил не только отдельные места из «Пира» и прочие возмутительные атавизмы древности, но и некий современный благородный дом на улице К. Имена не назывались, дабы пощадить, конечно же, не преступника, но жертву, и графскую честь, и ту же Lize, девичьей репутации которой в будущем могли повредить разговоры о растлении. Но материал, во?первых, был крайне обстоятельным, а во?вторых – весьма прозрачным. Не много в Москве особняков со «слепыми стражами»; с садами, «полными не только прелестных роз, но и змей, эти розы пожирающих», и прочие, прочие ядовитые метафоры. Оса проявил недюжинный дар будить тошнотный трепет, жаркое возмущение и сальное любопытство одновременно – в общем, выступил в обычном своем духе.
В свете возбудились. Умы проницательные потянулись к семье D., и, хотя та отмалчивалась, слухи множились с каждым визитом. Болезнь графини; дурное настроение графа; долгое отсутствие балов и вечеров за картами; неразговорчивость слуг; сытопьяновская еда, приготовленная без обычного лоска и разнообразия, – все доказывало, что в доме произошли и продолжаются некие несчастья. Ну а самым громким доказательством было то, что юный D. с верным белым рыцарем не показывались в саду.
Ивану не нравились эти толки и осязаемый всеобщий стыд; не нравилось, что дом словно тоже захворал. Вдобавок сердце его совсем скоро, буквально наутро после того, как материалы все попали в нужные руки, мучительно заныло, – но поменять ничего было уже нельзя. Иван и сам не до конца понимал, что стало вдруг с ним твориться, куда ушли раж, неколебимость и жажда расправы. А ведь то обстоятельство должно было, наоборот, упрочить его убежденность: R. виноват и должен ответить.
В то самое утро Иван, как и каждый день, пришел на Каретный. Позавтракал с графом в минорном молчании; зашел поприветствовать графиню, мучившуюся от очередной мигрени; поиграл немного с Lize на фортепиано в четыре руки. У девочки же выяснил: R. все еще здесь, не знает, кого на него натравили, но через пару дней его попросят вон. Ждут только шумихи, надеются, что он неосторожной реакцией обнаружит вину или, обладая натурой чувствительной, побежит каяться, ну или – «Хорошо бы!» – повесится где-нибудь в саду. Он и так уже, пусть не живет арестантом, а лишь отлучен от мальчика, кажется, «задохся»: редко выходит, не ест, «впору класть в гроб». Иван мысленно ужаснулся, но тут же себя одернул: справедливо же, все сказала справедливо, да и сам план – не отпускать, пока не выйдет статья, – предложил он. Чудо, что R. еще не убили прочие слуги, графиня, граф… но слуги не все пока укрепились во мнении о его вине; графиня же с графом прекрасно понимали: случись что – расследовать придут убийство, а не то, что на него толкнуло. План вышел дальновиднее, коварнее. Иван ждал, что R., увидев статью, наконец заговорит. Вспомнит, как и советовал граф, о родителях хотя бы. Отцу его такой позор, да без покаяния, повредит; старший R. ведь простой городской доктор, по специализации – детский. Кто его после этого подпустит к маленьким пациентам, кто не подумает: «А не в отца ли сын?»
Со всеми этими мыслями Иван покинул Lize. Дальше ноги сами принесли к комнате мальчика, он хотел было постучать, поговорить… вот только о чем? Покой D. берегли, веру в сны не развенчивали; как бы не сболтнуть лишнего. Вдобавок ребенок этот никогда не проявлял к Ивану расположения. Сначала казалось – дело в безграничной очарованности Аркадием и только им, заставляющей равнодушно отворачиваться от прочих, даже самых незаурядных, взрослых. Позже появилось иное подозрение: D. чувствовал в Иване нечто дурное. Или не дурное, но так или иначе потаенное, отталкивающее, возможно, даже скользкое – во взгляде темных оленьих глаз порой сквозило жгучее «Знаю, все я про тебя знаю, держись подальше». Ивана продирало морозом, и он не навязывался. В конце концов, больно надо, это даже не плоть от плоти графа. Чудной все-таки народец, не зря многие его сторонятся. Не приручаются дикие звереныши до конца; не становятся домашними и покладистыми цыганские дети.
Передумав, Иван спустился, вышел на крыльцо, окинул взглядом подмерзающий розарий. Было спокойно; Саша, наверное, грелся сладким сбитнем где-нибудь в кухне, с Олей и Сытопьяновыми. Ветер трепал волосы, манил прочь, будто говоря: «Душно в этих стенах, плохо; ты сделал все, что мог, оставь их, прогуляйся». Иван решил так и сделать: взять плащ – и пройтись до Петровской колокольни; купить на ужин пару капустных пирогов в монастырской трапезной; заглянуть в книжный на Кузнецком; еще как-нибудь скоротать остаток дня… Но тут, повернув случайно голову, на фасаде дома он увидел движущуюся фигурку. Мысли высыпались из головы, как горох из дырявой корзины.
По карнизу шел D. С необыкновенной ловкостью, цепляясь то за увядший виноград, то за когтистые лапы сов, он продвигался вдоль окон, к какому именно – очевидно. Иван остолбенел. Хотел крикнуть, окликнуть мальчика, но испугался: дернется ведь, упадет! Каков… чертенок! Неделю он жил словно царское сокровище; в комнате с ним днем и ночью кто-нибудь находился, а сегодня вот, по словам графа, «взбрыкнул в прежней манере, потребовал одиночества, ну а мы сочли это благим симптомом и решили уступить…» Вот почему взбрыкнул: удумал свое. Лезет в чужое окно, зная, что все равно по коридору не пройдет, тут же кто-то привяжется вроде дамы Lize, которая занимается с воспитанницей по соседству и слышит каждый шорох. А уж чтобы пустили к Василиску…
Спотыкаясь, Иван ринулся в дом. Проскочил холл и парадную лестницу, пулей оказался в жилом коридоре, пронесся по нему. Везде было пусто, впрочем, он и не спешил с шумом. Другая, отнюдь не паническая, скорее ледяная и злая мысль вдруг овладела им и показалась гениальной: выследить, все услышать до единого слова, ну а потом пересказать там, где сведения удастся использовать наилучшим образом. В кабинете ли графа, в полиции или еще где – как сложится. Доказательств много не бывает, чем не следственный эксперимент? Главное, чтоб не вышло беды от этой тяги жертвы к преступнику, но за этим-то он проследит. Кулаки крепкие, голос зычный, а дом полон людей. Но мальчишка-то… ох, дурная голова. Решил, что мало ему было горя. Нужно еще.
Когда Иван оказался у нужной двери, D. уже влезал в окно. Это угадывалось по удивленному возгласу: «Господи, что ты делаешь здесь, давай руку!» Что-то стукнуло. Иван торопливо согнулся, прильнул к замочной скважине, надеясь, что она не закрыта каким-нибудь язычком. Не закрыта. Комната, просторная, светлая и почти пустая, была как на ладони; сизые тени дрожали на полу.
R., напряженный и бледный, стоял у окна; мальчик сидел на подоконнике и цеплялся за его плечи. Пока это не было борьбой, точнее, не той, которой с отвратительной тревогой ждал Иван. Не D., а скорее R. пытался освободиться и отстраниться, умолял: «Успокойся, успокойся, тише, отпусти…» Мальчик, наоборот, схватил его за шею, нагнул к себе и порывисто обнял. Оба на несколько секунд замерли, замерло и сердце Ивана. А ну как сейчас он… его… Ком задрожал в горле. Кулаки сжались. Вранье ведь, что чудовища при свете дня не являются. Являются, еще как, особенно когда нечего уже терять. Или можно ведь задушить просто, и бросить вниз, и сказать потом…
– Ну что ты, что? – услышал он ласковый голос. Объятие вернули, робко и слабо. – Нельзя так, упасть ведь мог…
Иван нервно усмехнулся. Увы, дружище, увы. Не упал.
– У меня дурное предчувствие, вот и все, – прошептал в ответ D. Острый подбородок его лежал сейчас у R. на плече, и Иван читал по губам. – Прости, прости, но ведь я не знал, когда тебя пустят ко мне или меня…
Каким он был несчастным, как цеплялся за эту спину. Будто и впрямь упасть боялся, только не в морозный сад за окном, а куда-то, где пострашнее. Иван вглядывался в каждую его черту, вглядывался и в линию чужих плеч: в чертах искал хоть что-то, кроме нежной решимости, а в линии, в линии… фальшь? Пружинистую хищность? Тайный умысел? Ничего не находил, кроме растерянности и горя.
– Пустят? Никогда, – тоже негромко, но отчетливо произнес R., выпрямляясь и отстраняясь; мотнул головой. Мальчик соскочил с подоконника, испуганно воззрился во все глаза. – Я не могу обманывать тебя… – Свет лезвиями ножа блеснул в гладких волосах, весь Аркадий на миг словно осветился, но тут же чахлое солнце спряталось и лицо его потемнело. – Это глупо и бесчестно. Только не кричи, не плачь, прошу, выслушай… – Он качнулся. Точно хотел сделать еще шаг, дальше в тень, но не смог. – Боюсь, скоро мне придется уехать. И я вряд ли уже к тебе вернусь.
Мальчик бледнел с каждой секундой, но держался: сжимал губы, распахнутые глаза оставались сухими, одно выдавало потрясение: ногтями левой руки он впился в правую свою ладонь. Крепко впился, даже заходили жилы на запястье. R. заметил это, охнул и, подавшись опять ближе, разомкнул хватку. Сжал тонкие кисти, глянул в лицо. Сколько власти в жесте: маленькие ладони меж больших. Власти ли? Снова Иван вспомнил своего Вулича, шальную его усмешку, хризопразовые искорки глаз. Детей Вулич не переносил, все авантюры прокручивал со взрослыми, их же – только их – ласково брал за руки, трепал по плечам, хлопал по спине. А все равно по уму говорил. По уму ведь? Или…
– Не делай себе больно, пожалуйста, не… – Казалось, R. мучительно ищет хоть какое-то утешение, хоть для кого-то, а не находя неумолимо бледнеет сам. Руки он уже отдернул, будто обжегшись. – Это… ведь это однажды бы случилось. Позже, но ты же перерастешь гувернеров, прекратишь нуждаться в учителях…
– Но не в друзьях же! – Мальчик повысил голос, быстро зажмурился – наверное, прятал предательские слезы. – Почему?! – Он посмотрел в упор, обиженно и жалобно. Зачастил: – Мама тебя выгоняет? Ей, может, нечем тебе платить? Так пусть возьмет из моего наследства, она же говорила, оно…
R. рассмеялся, опять качая головой, и ничего мрачнее этого смеха Иван давно не слышал. D. осекся, все-таки всхлипнул, яростно стал тереть глаза кулаками. Даже этот жест был у него как у маленького взрослого – полный горечи, а не каприза. Слишком усталый, без ожидания, что слезы кто-то вытрет. И без надежды, что сам повод для них куда-то уйдет.
– Дядя, значит? – пробормотал он. – Он же тебя любит… разве нет? Он не может нас разлучить, он… – И тут глаза блеснули, все лицо разительно ожесточилось и стало еще взрослее. – Ну конечно! Он задумал прицепить ко мне противного своего конопатого Ванечку, чтоб тот поселился у нас! Так? Ну этого, ты его видел, вечно тут толчется…
Иван, осознав, каким тоном произнесены слова, и еще раз приглядевшись к D., аж подавился. Столько желчности на тонкой грани с ненавистью; мало того что «конопатый», так еще «Ванечка» – хотя граф сроду его так не звал; он ни к кому, кроме сестры, не использовал ласкательных суффиксов. Тем не менее Иван выдержал, лишь закусив губу и поразившись про себя. Вроде D. и не родня Lize… а общего-то больше, чем кажется. Как ни странно, именно эта мысль верховодила в его сознании, ни тени колкого «Вот же слепой неблагодарный поросенок, кого и кому ты поносишь!» не возникло. Вслед за удивлением и обидой он ощутил вдруг жалость, а не гнев и – еще внезапнее – что-то вроде… стыда? Тут все же очнулся, вспыхнул, выругал себя. Да за что стыд-то? За то, что хочет помочь, за то, что торчит тут почти на карачках, чтоб этого дурного ребенка не придушили прямо на подоконнике, не сделали еще какое зверство? Застучало в висках, заскрежетали зубы. Захотелось вломиться к ним. Оттолкнуть друг от друга, дать затрещину одному и свихнуть челюсть второму. Но почему-то еще больше – убежать прочь, забыв все услышанное и сделанное как дурной сон.
– Нет, нет! – R. провел по волосам D., прислонился к окну рядом, и мальчик тут же снова к нему прижался. – Никакого умысла нет, ни на кого не держи зла, просто произошла беда, с которой… с которой мне не удалось справиться. Но я надеюсь, что…
«Зато я найду управу на тебя», – горько подумал Иван.
– А сестрица как будет без тебя?! – оборвал Аркадия D. Странный этот аргумент он разве что не выкрикнул. – Она же тебе эти свои… писуленции оставляла, надушенные, я видел! По кому она вздыхать будет, кого…
– Кого-нибудь достойного. – R. приподнял его подбородок, строго посмотрел в лицо. – Чего и тебе, кстати говоря, желаю на будущее. – Губы оживила вдруг знакомая, почти беззаботная улыбка, словно последний обломок витража в разбитом окне. – Глупостей по ее примеру никому не пиши. Особенно выдергивая их из тех скабрезных романов, где предлагают пойти на сеновал…
– Lize не любит сено, – возразил D. мрачно, но затем все-таки улыбнулся в ответ, сморщив нос. Мимика эта была не его и резанула Ивана особенно больно. – И вообще природу. Она городская душа, ей бы в кондитерскую, а не в коровник…
Они помолчали, не двигаясь. R. глядел вперед; Ивану, нервно застывшему в согнутом положении, казалось, что смотрят прямо на него, сквозь скважину, – но едва ли. R. просто не знал, куда деть глаза, как избежать полного мольбы взгляда мальчика. Похоже, ему тоже было стыдно – но… как стыдно? В сторону D. он так и не сделал ни одного предосудительного движения. Осознание это вселяло в Ивана одновременно облегчение и ужас – словно какая-то башня рушилась не то на его глазах, не то внутри него. Пока он бежал сюда, он ведь успел вообразить много вариантов этого объяснения между учителем и учеником. Но ни один, ни один…
– Тебе пора бы… – нарушил тишину R., хотел было отстраниться, но его схватили за руку.
– Как я буду? – прошептал D., это вновь пришлось читать по губам. – Я боюсь Василиска, я ведь помню… в последнюю ночь, прежде чем он нашел меня, ты крепко-крепко держал меня за руки, вот так. – Он чуть сдавил пальцы. – Долго… прося не бояться и обещая, что все кончится. И хотя потом он все равно пришел, злее, чем обычно, но больше-то я его…
R. дернулся – с такой му?кой, будто в него всадили нож; Иван тоже – и тошнота затопила его. Крепко держал… в ночь, когда появились синяки? А за горло? Растерянность исчезла, схлынул и страх, и тем более стыд. Хватит! Пора было удариться в дверь грудью и кулаками, воскликнуть: «Выходи, скотина!», приволочь сюда весь дом, наконец поймать ночной кошмар с поличным, но…
– Ты спас меня. Да? Как-то спас. – И еще крепче сжались детские пальцы.
Иван уперся в створку ладонями и лбом, зажмурился, рвано выдохнул. Гнев его, праведный и здравый, был отчего-то… ломким, неуловимо расколотым ровно посередине. Иван бессильно задыхался от него и одновременно отталкивал. Будто был второй какой-то смысл у слов. Что-то иное… Он стиснул зубы, впился себе в волосы, легонько потянул их, чтобы успокоиться, – и не отпрянул, продолжил слушать; снова глянул в скважину.
– А что ты помнишь еще? – дрогнувшим голосом спросил R., склоняясь к мальчику. Без тени страха, скорее… с надеждой? Тот помотал головой. – Лицо Василиска… нет? Было у него лицо?
– Не знаю… нет… – D. обхватил себя за плечи, поежился, но тут же руки упали на колени. – Другое важно. Он вернется. – Глаза его опять требовательно, испуганно взглянули в бледное лицо R. – Вернется без тебя, я точно знаю, вернется…
– Нет! – воскликнул тот с отчаянием. Ивана передернуло, но и следующие слова были не теми, которых он ждал, запутывали все безнадежнее. – Не вернется, не решится. Но на всякий случай я дам тебе три напутствия: может, они тебя уберегут.
– Лучше бы ты… – Но R. так отчаянно и затравленно глянул на мальчика, что очевидное «остался» застряло в его сжавшемся горле.
– Первое, – R. кивнул на тумбочку, где стояла обычно вечерняя чашка, – не пей больше на ночь шоколад, не бери его ни из чьих рук, ни за что и никогда. Второе, – он посмотрел на дверь, – кроме замка, у тебя есть задвижка наверху. Она старая, ею давно никто не пользовался, но она работает. Задвигай ее на ночь. Всегда. И третье… – Он склонился ближе; D. подался к нему. Лбы их почти соприкоснулись, голос R. стал совсем тихим, и Ивану пришлось напрягать слух: – Если вдруг увидишь это… существо еще хоть раз, напиши в любую из московских газет, что приносят твоей матери. Напиши редактору, что тебе нужен человек, зовущий себя Осой, и что у тебя есть рассказ для него.
– Рассказ?.. – пробормотал D., но по глазам читалось: он все запоминает.
R. улыбнулся, и уже не холод, но жар ударил Ивана, точно плеть.
– Оса собирает дурные сны. И побеждает чудовищ.
– Любых-любых? – Как всякий ребенок, D. не удержал робкого восторга.
– Почти всех. – R. помедлил, ненадолго отошел к комоду, но вскоре вернулся. Стоя к Ивану спиной, протянул что-то мальчику со словами: – И возьми еще вот это. Хотел подарить тебе на день ангела. Но пусть сейчас, пусть тоже тебя бережет. Я люблю тебя.
Блеснул металл. Снова они молчали какое-то время… а потом D. сорвался, обнял его, спрятал лицо на груди, обхватил дрожащими руками, такими смуглыми на белой ткани рубашки.
– Не уезжай, не уезжай, не… – горячо, но все тише бормотал он, и R. никак не мог оторвать его от себя.
– Я люблю тебя, – повторил он, покоряясь, обнимая худую спину в ответ. – Что бы ни случилось, помни об этом. А сейчас тебе…
– Что это вы тут делаете-с?
Высокий голос из-за спины заставил бы Ивана подпрыгнуть, а может, и врезаться в дверь лбом, если бы у него остались хоть какие-то силы. Но силы истаяли; голова заболела, кровь застучала исступленнее – и более всего отвратительное чувство походило на… вину. За что? Да за что, бога ради, пусть даже ничего сейчас и не стряслось меж двумя шепчущимися по ту сторону двери? Иван не понимал, не понимал вообще ничего. Ведь только что он получил довольно веское доказательство их с графом подозрений – второй приход R., эти синяки, слова мальчика, тайна, которую он от всех скрыл… где торжество? Почему вот-вот загорятся уши, точно его, Ивана, глубоко опозорили? Так или иначе, никак не выдав эту внутреннюю бурю, он как можно плавнее выпрямился, развернулся и с самым строгим видом приложил палец к губам:
– Тсс…
Перед ним стоял секретарь – в обычном костюме мышиной, а вовсе не петушиной расцветки; с одуванчиковой шапкой русых волос; с расчетной тетрадью под мышкой. Цепкие выпуклые глаза его забегали по Ивану вопросительно и настороженно, явно выискивая что-то подозрительное.
– Добрый день. – Иван кивнул и безмятежно улыбнулся. – Дособираю… – он помедлил, сделал внушительный вид, – материал, так сказать. Черты к портрету; ничто ведь так их не прибавляет, как наблюдение тайное…
Он даже сумел двусмысленно подмигнуть – помог задергавшийся глаз.
– Отвратительно. – Бледно-розовые губы Петуховского жеманно-одобрительно изогнулись, а потом он, явно потеряв к беседе интерес, зевнул. – Но умно. Ладно-с, а мне вот нужно бы заглянуть к мальчику, проведать… – И он пошел было дальше.
– Не ходите, он спит! – выпалил Иван и сам себе удивился. Петуховский был удивлен не меньше, заозирался. – Я уже заглядывал, ну, подглядывал и за ним тоже…
Звучало ужасно в контексте всего пережитого маленьким графом, но мысли Ивана слишком заметались. Путь по коридору у этого длинноногого секретаря займет меньше минуты, а вот тот же путь по карнизу даже у такого ловкого существа, как D., – минуты четыре. А может, R. так и не удалось его выпроводить; может, он еще тут; может, оба они, затаившись, слушают разговор в коридоре…
– Когда? – осторожно поинтересовался Петуховский, глянув Ивану через плечо.
– Да вот пять минут как. – Тот прислушался. В комнате то ли не говорили, то ли говорили теперь совсем шепотом. – И мне кажется, лучше бы зайти через полчаса или вроде того; может, проснется… жалко будить, у него ведь плохо со сном. Нет?
– Может быть, – задумчиво кивнул секретарь и, чуть оживившись, устремился к черной лестнице. – Что ж, раз так, пойду-ка пока в сад, выберу последние розы для графини, и пусть Александр срежет. Со мной пройтись не хотите-с…
Да что за народ эти деятели без тени обломовщины! В сад! Еще лучше! Иван спешно шагнул к секретарю, ухватил его под локоть и развернул в другую сторону.