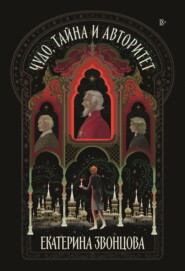скачать книгу бесплатно
– Что же. Отчалю. – Но сначала R., наоборот, прошел в несколько размашистых шагов к столу и торжественно, с легким стуком водрузил на него бутылку. – Не скучай, Иван. Не засиживайся. И не иди к милой и к ее родителю с пустыми руками. От меня можешь передать всем им теплый привет. С Рождеством Христовым.
– С Рождеством.
Лицо захотелось спрятать в ладонях, отстраниться, лишь бы не глядели так ясно и по-доброму. Выражение вязалось с отвердевшими чертами и шрамом тяжелее, чем сутулость с офицерской осанкой.
R. кивнул, беглым движением пятерни зачесал назад волосы, устремившиеся было на покатый лоб, распрямился и вышел, не сказав более ни слова.
Не прошло и пяти минут, как K. зажег ту самую свечу на подоконнике. Постоял, посидел, а потом и лег грудью на стол, прижав к сомкнутым рукам пылающий лоб и проглотив немного злых, отчаянных слез.
«Светлые мысли летят на свет. Нужны они тебе – просто зажги свечу».
Зажги свечу, Ваня. Знай мать, что он зовет, кроме мыслей, – осудила бы, а может, и посмеялась: таки не крестьянка, не купчиха, особа из благородного пансиона, просвещенная и рациональная. Сказала бы: «Так то Бог, Вань, Он есть, а это…»
А этого всего не бывает. Еще немного – и он придет в себя. Задует пламя, пойдет домой переодеваться, быстренько схватит экипаж, ну а до Дмитровки недалеко. Там все хорошо, только нужно будет улыбаться, и ничего не выдавать, и на любой упрек в угрюмости прижиматься губами к прохладной щеке: «Ничего, Нелли, трудный день, сама знаешь. Вот пустят женщин в полицию, поработаешь с мое, тогда и будешь меня…»
Мысли были не светлыми, а тяжелыми, возились в мозгу, точно толстые свиньи в слишком мелкой луже. Но лицо обсыхало от слез, тело расслаблялось, разжималась понемногу и хватка на сердце. K. засыпал, и, как ни пытался сам себя разбудить, напомнить о бале и о костюме, вроде бы неглаженом, – все это более не казалось важным, да что там – даже и настоящим, так, сон над снежным оврагом…
Свеча задрожала. Окно распахнулось: его с силой толкнул ветер. Костлявой рукой огарок подхватили, точно сорванный в снегу цветок, и понесли к столу.
Совиный дом
10 лет назад
Дом – сливочно-белое подражание веронским палаццо – стоял в самом начале Каретного, в густой зелени лип и кленов. Стерегли его совы: грозные птицы поглядывали вниз с фасада, обнимали когтями высокие окна, расправляли крылья, точно силясь ими соприкоснуться и замкнуть особняк в зачарованный круг. В них часто всматривались с улицы, любопытные подходили и к воротам, чтобы увидеть получше. Совы ведь не девы-нимфы, не амуры и не пошлые Прометей с Гераклом. Белоснежные существа эти, вырезанные из камня с необычайной детальной искусностью, одним видом говорили: люди в доме обитают тоже незаурядные.
Граф и графиня D. жили словно супружеская чета, хотя четой не были. Связывало их нечто более глубинное и мистическое; напоминали они двуглавое односердечное создание, единое взглядами и помыслами. Волоокие, стройные, статные, они были близнецы – причем того загадочного подвида, который срастается в материнской утробе. После рождения пришлось разрубать их ударом ножа, стиснутого в суеверно дрожащей докторской руке. Но даже разрубленные, выросшие, разъехавшиеся по разным губерниям, они словно никуда друг от друга не девались и обречены были рано или поздно соединиться. Овдовели в один год: возлюбленный идальго графини погиб, спасая лошадей из горящей конюшни, а ангел-панночка, жена графа, из-за малокровия не вынесла родов. Вместе граф и графиня вернулись в семейное гнездо – почерневшие от горя, находящие тусклые улыбки лишь друг для друга. У графа осталась хотя бы дочь, крошка Lize – белокурая, хорошенькая лицом, вся в мать, только вот чахлая и вдобавок горбунья. У графини и такой отдушины не было, не успелось. «Бедная» – иначе ее не называли, как ни была она богата. Говорили, еще чуть-чуть – и горемычная наложит на себя руки.
Все изменил случай в одно светлое Рождество. В тот день, самолично приехав с пожертвованиями в любимую Троицу в Листах, графиня обнаружила на задворках ее, в обледенелом закутке внутреннего двора, цыганку. Несчастная к тому времени совсем закоченела и умерла, но на руках ее возился спеленутый в несколько шалей мальчик, едва года от роду. Смуглый, чернявый, он строго поглядел на склонившуюся графиню, а потом вдруг улыбнулся – и все было решено. Она выхватила ребенка из мертвых рук, понесла прочь, забыв о молитве, и увезла, чувствуя себя истинной преступницей. Впрочем, мальчика не хватились. Граф, пользуясь членством в благотворительных обществах, споро состряпал документы, подмазал формальности – и цыганенок стал законным сыном графини. Поддерживая скандальный поступок сестры, любящий брат, конечно, хватался за соломинку. И знал, что делал: ребенок спас ее раненое сердце так же, как Lize спасла сердце отца. Разъезжаться близнецы уже не стали; дом постепенно ожил и засверкал. D. полюбили гостей; все обустроили, украсили – и зажили, веселее с каждым годом.
Об их семейных превратностях говорили на удивление мало, сплетня о цыганенке быстро потеряла пикантную свежесть и перешла в разряд обыденности – возможно, из-за удивительного сходства приемыша с матерью и дядей. Подрастая, мальчик словно брал от графини и графа все больше знакомых их друзьям черт, внешних и внутренних. Как и граф, он был любопытен до наук; как и графиня – нежен и мягок. Его тянуло ко всему живому: цветам, голубям, приблудным котам и собакам, которым графиня позволяла жить в саду, а зимой – греться в летнем домике. Такой она была натурой, привечала всех: зверей, сирот, друзей покойного мужа. Тепло у нее находили и всевозможные голодные студенты, особенно – дети давних пансионных подруг.
Одним из таких и был Иван. Мать его жила в обнищавшем имении в Твери, а он изучал в Москве законы, рьяно мечтая о какой-нибудь – не обязательно, впрочем, юридической – карьере. Позорно беден он не был; сносно содержал себя; мыслить не мыслил о странных способах поправить положение, например стукнув топором чистенькую злобную старушонку. И все же в дом на Каретном, под совиную сень, он захаживал часто, каждые несколько дней, и, конечно, не пренебрегал приглашениями на вечера и балы, ставшие со временем регулярными. Иван тосковал по матери и по самому этому чувству, которое будят в одиноком юноше светлое жилище, улыбка женщины и тарелка супа. Нравился ему и граф – знаток Платона, вин и искусств. Граф уже тогда рисовал изумительную графику, с которой позже блистал на вернисажах. Образы его удивляли: хрупкие нимфы, пойманные карандашной штриховкой; созданные единым чернильным росчерком эльфы с трогательно точеными ножками; набросанная углем Мария-Антуанетта – на эшафоте, в оголяющем ключицы рваном платье… Граф был фигурой во всех смыслах внушительной, а вот все, что он рисовал, – нежным, буквально эфемерным. Иван восхищался тогда еще потаенными работами: видел в них уязвимую, сокровенную грань широкой этой души.
Граф вечно окружал себя «сестриными приблудышами» – прогрессивными юношами и барышнями. Уже тогда он часто шутил, что глазами пьет их кровь, хотя не так чтобы нуждался в омоложении: ни болезни, ни облысение, ни даже брюшко – ничего ему не грозило; разве что смуглое лицо из-за богатой мимики не щадили морщины, особенно в углах пухлого, яркого рта. Ивана он из кружка выделил сразу – поначалу просто зацепился взглядом за ярко-рыжие волосы, но вскоре завел привычку беседовать с ним наедине, чаще всего о литературных новинках. Иван, в свою очередь, тянулся навстречу, настолько, что однажды – как раз когда граф ему одному показал рисунки – в ответ рассказал самый важный свой секрет. Граф тогда лишь щелкнул многозначительно языком, подмигнул и крутанул в пальцах большой медальон с портретом Диккенса – одну из многочисленных подвесок, которые носил на жилетной цепочке и под настроение менял. «Вот вы какая натура…» – пробормотал он и впоследствии к теме возвращался лишь раз-два, а потом деликатно забыл… До времени.
Вообще в Совином доме было много интересных лиц, как среди хозяев, так и среди прислуги. Последняя состояла из нескольких стариков, служивших еще деду и бабке D., и из целой ватаги их подросших детей. Смешливые горничные Оля и Танечка обхаживали графиню и читали с ней по ролям фривольные романы. Средних лет чета Сытопьяновых, оправдывая фамилию, готовила блюда как в Париже. Печальный лопоухий Саша воскрешал почившие еще во времена крестьянской реформы розы. Желчный Петуховский всеми командовал, вел часть семейных дел и выбивал долги из злоупотреблявших добротой. Брил, стриг, а в неопасных случаях и лечил всех бездомный студент Лигов, племянник покойной жены графа. Были и пухлый кучер-татарин, и сухая, как прошлогодняя свинушка, гувернантка Lize, и семейный портной Котов, тайно (как самому ему казалось) щеголявший по вечерам в недавно сшитых платьях, и прачка с задатками оперной певицы – в общем, слуг куда больше, чем господ, что Ивана всегда забавляло. И был человек, занимавший особое, достаточно непонятное положение.
Аркадий служил гувернером и одновременно учителем маленького D. по большинству предметов. Высокий и тонкий, с непропорциональными ладонями, он разделял длинные, почти до плеч, волосы на пробор и укладывал по моде молодого Листа. Когда он улыбался, нос его чуть морщился, а ходил он словно скользя водомеркой. Была у него и броская привычка поматывать головой, чтобы русые пряди не лезли вперед, – из-за длинной шеи, какую у женщин называют лебединой, движение выглядело особенно дурацким. Аркадию было двадцать два, но восемнадцатилетнему Ивану он казался вопиющим, возмутительным мальчишкой, не только внешне. Жизнелюбие и веселость, умение просто объяснить сложное, желание ухватить все на свете интересное, хоть по верхам, – все это делало его в глазах проницательного ласкового ребенка бесценным товарищем, а в глазах Ивана – чудаком. Одним своим существованием чудак этот, недавний студент, отказавшийся от юридической карьеры, рушил наивную Иванову убежденность в том, что двадцать с хвостиком – немалый срок жизни, недостижимая звезда, под светом которой он-то станет уже богат, сыт и известен, найдет и займет правильное место. А этот… ну какие двадцать два, думал Иван, наблюдая, как Аркадий вышагивает среди пестрых роз, а D. семенит рядом, слушая о Македонском и его любви к духа?м. Какие? Иван снисходительно усмехался, а юноша наигрывал мальчику «Песнь свободного человека», смешно и грозно склоняя голову на бетховенский манер. Какие? Эти двое то сражались на палочных мечах, то рисовали карту несуществующей страны, то лепили из глины Луну. Систему воспитания и обучения, которую Аркадий использовал, можно было назвать либеральной: он поощрял все, что нравилось мальчику, и мало к чему принуждал, а D. все равно делал успехи, вопреки убеждению, что цыганские дети от природы ненавидят учиться и не умеют сидеть на месте. D. довольно рано начал играть на фортепиано и петь, хотя голос его уже в детстве казался необычайно низковатым. Он, как и дядя, рисовал, но предпочитал яркие краски и экстравагантно украшал работы то сушеными цветами, то перьями, то камнями: чтоб было объемнее. Ему отлично давались языки, неплохо – естественные науки, чуть хуже – письмо на русском и счет. Графиня и граф были довольны, подход их удивлял, раз за разом они заводили разговоры вроде «А не возьмете ли вы и Lize, если мы станем платить больше?». Аркадий смущенно отказывался, поясняя, что склонности у всех разные, и каждому ребенку в идеале нужен индивидуальный педагог. Он трезво оценивал свои силы: Lize учиться не так чтобы любила, барышней была нервной, да вдобавок с наемными учителями, особенно мужчинами, ладила плохо. Не проходило и месяца, чтобы кому-нибудь не отказывали от дома из-за ее криков: «Вы что, смотрите на мой горб?» или «Вы дурак, я вас не понимаю!».
Юношу можно было бы обвинить в желании идти простым путем, но проницательные наблюдатели видели иное. Он отдавал мальчику все силы, и не только их. Связь меж ними казалась столь же крепкой, сколь меж графиней и графом; никому более ребенок так не доверял. Перед матерью и дядей он все хотел выглядеть получше, вызывать гордость, получать похвалы. Он утаивал от них многие горести, но обнажал перед учителем. К примеру, на балах, стыдясь жгучей, слишком необычной даже в этой южно-красивой семье внешности, D. прятался за него и вкладывал ладошку в его ладонь. «Они говорят, у меня кожа темная. И лицо неправильное…» Аркадий хмурился, но раз за разом повторял: «Да. Но вы не отличаетесь ничем, кроме… можно сказать, масти. Как лошади. Или кошки. И это ничего не значит, это уже поняли все умные люди», – а затем все же мягко выталкивал подопечного поиграть с детьми гостей. Наивное объяснение неизменно успокаивало D., заставляло повеселеть, – ну а другие мальчики и девочки, услышавшие про лошадей и кошек и точно загипнотизированные этими словами, подумать не могли не принять цыганенка в круг. Им тоже нравился чужой гувернер. Он нравился всем.
Секрет был прост: Аркадий словно становился ребенком, смеясь со своим подопечным, а ругая – давал понять, что видит в нем маленького взрослого, с которого и требует соответственно. Никогда не оставлял вопросы без ответов. Не закрывал глаза ни на одну его беду, даже самую маленькую. Юноша этот, светлый обликом и спокойный сердцем, был словно чудесный алебастровый рыцарь, у которого мальчик – не родной собственной матери, уголек в серебре – всегда мог найти защиту и участие. Как они, казалось, любили друг друга… и как эта любовь сожгла одного из них дотла.
2. Инквизитор
Сущевская полицейская часть
1887 год, 24 декабря, вечер
Белое блюдце, посреди которого сонно оплывал огарок, встало на стол с чеканным стуком – так же тихо, но явственно, как пожалованная R. коньячная бутылка. K. вздрогнул; его прошиб колкий озноб: точно побежали от корней волос к пальцам ног кусачие красные муравьи. С жалобным стоном «А? Что?..» он дернулся, вскинулся, разлепил ноющие веки. Над ним нависал желтолицый старик, озаренный льдистым потусторонним светом.
Гость был худ, как скелет, но статен; густые седины его бесконечно колыхались, точно кабинет полнился сквозняками. Багрово-золотые одежды, тоже колышущиеся, доходили до пят, но пола не касались – ведь высокий силуэт парил над паркетом на расстоянии примерно пальца. Именно эта деталь осушила горло K., пригвоздила к нёбу язык, согнала последнюю дрему с рассудка. Потерев кулаком щеку, он попытался сглотнуть. Выше рука не поднималась, даже в крестном знамении, – словно отсохла.
– Ты звал меня, слуга закона, – сказал старик.
Речь его была словно литая. Каждый звонкий согласный он неуловимо усиливал, из-за чего «з», «н», «л» и прочие звуки напоминали звенья цепи. Собственно цепи тоже имелись: одна, тяжелая и длинная, опоясывала одеяние, перекрестьем шла по груди. Крупный, мерцающий алмазами крест покоился на цепи потоньше – той, что в два нахлёста обвивала длинную сухощавую шею.
K. открыл рот, но из горла вылетел только хрип. То не был ужас, благоговение, неверие – потрясение, лишь оно. Шевеля губами, глядел он на старика, парившего все так же недвижно и – теперь это стало ощутимо – обдававшего уличным холодом. Нет, не уличным… сильнее. Он наполнял полости костей промозглым ветром; он покрывал столешницу – в местах, где старик только что положил ладони, – кружевом изморози. Кружево это было не цветочно-витиеватым, как рождественский лес на окнах, но тревожно-изломанным, как битое стекло. Колючий узор неумолимо ширился, множился, полз все ближе к рукам K. Только вокруг блюда со свечой золотился еще островок теплой полированной древесины.
– Да… – собравшись, произнес наконец K. и, вытянув дрогнувшую руку, поймал на пальцы несколько капель воска. – Да, я звал… наверное.
Воск из-под самого пламени обжег, кожу засаднило – но нужно было проверить. Боль окончательно убедила его: он не спит; и лед, и старик – все настоящее. Напоминало, по правде говоря, старую книжку, любимую у матери; и даже не одну книжку, а вообще все, что выходило из-под пера одного обожаемого ею англичанина. Но правильнее было ведь еще посмотреть, послушать. К. нервно про себя усмехнулся: изумительно, что получается строить логические цепочки и вообще хоть чуть-чуть думать в эту минуту, под этим взглядом, в глубине которого переливаются серебристые от лунного света проруби!.. Запавшие глаза старика блеснули ярче, а стол тихонько затрещал: лед вдруг уплотнился. Предостережение – «Не смей, не смей умничать пред моим ликом».
– Кто бы вы ни были, – пролепетал K., – я рад, что вы пришли. – Не зная зачем, он опять протянул руку, в этот раз навстречу. – Вы поможете в моей беде… правда?
Старик еще раз качнулся, с брезгливым выражением опустил взгляд на ладонь К. Пожатия не случилось, не случилось, впрочем, и удара – только ногти и плоть под ними ожгло все тем же колким льдом, и пришлось отдернуть руку, с шипением тряхнуть ею в воздухе. Краснота быстро спала. Старик засмеялся, тихо и скрипуче.
– Не упрямишься, – прошелестел он. – Не споришь. Не обороняешься. И сам зажег свечу. – Он убрал со стола ладони, спрятал за спину и вдруг, развернувшись, поплыл к стоящему в углу шкафу. – Мне это по душе, не то что прочие. Хорошо. – Он бегло, будто даже лукаво глянул через плечо. – Я – Дух Рождественского Правосудия. Мое орудие – Тайна. И сегодня я в твоем распоряжении. Но сначала…
Остановившись перед затворенными дверями шкафа, дух вытянул руку и погрузил прямо в правую деревянную створку, точно нож в масло. K. не представлял, что он там ищет, а спросить не решался. Шкаф предназначался для личных вещей, но сейчас там вроде не было почти ничего, кроме меховой накидки и шапки…
– Расскажи мне, зачем я тебе нужен, – продолжая неспешно что-то нащупывать, велел старик. Голова его опять повернулась к K. – В чем ты повинен, раз изменил обычным для смертных методам и убеждениям? В чем таком, что я услышал твой зов?
Под взглядом этим язык К. вновь прилип к нёбу. Во-первых, поворот вышел противоестественным, на добрый совиный полукруг; человеческая шея бы от такого хрустнула, сломалась. А во?вторых, было очевидно: ответ духу, скорее всего, известен, а вопрос – лишь некая проверка. К. не стал медлить, не отвел глаз и, сложив на коленях руки, точно провинившийся ученик, произнес самое простое, правдивое:
– Десять лет назад я… кажется, предал нынешнего моего начальника, очень хорошего человека. – Неожиданно этого показалось мало, и слова посыпались сами, заскользили с губ, как стая щенков по льду. – Начальником мне он тогда не был, а человеком хорошим уже был, сильно другим, правда, нежели ныне, а я…
– Кажется? – перебил старик так вкрадчиво, будто дальнейшее было и вовсе прахом.
– Кажется, – повторил К., прислушался к собственной жалобной интонации, закусил губы. – То есть я почти уверен. Но уверен бездоказательно. Доказательства как раз говорят о другом, но… но… я сам не понимаю, хотя так хочу понять, поверьте…
Может, духа разозлила внезапная сбивчивость мыслей, а может, он просто проявил своеобразное милосердие – мало ли что свойственно подобным сущностям, да еще в святую ночь. Вторая ладонь его быстро, властно приподнялась:
– Хорошо. Довольно. Замолчи.
K. смолк одновременно с облегчением и с досадой. Слова, еще множество, кипели внутри, но он понимал: услышит их со стороны, в тишине, сейчас – и может не сдержаться: вскочит и, пробежав через кабинет, сиганет в окно. Срыв неумолимо близился уже год. С январского дня, когда R. впервые собрал новых подчиненных в нижней зале, представился, выслушал имена, должности и тут же – жалобы-предложения. В минуту, когда их с К. взгляды пересеклись, и R. бархатисто, дружелюбно спросил: «Ваше имя?», K. назвался с внутренней дрожью, готовый к чему угодно, – даже к тому, что новый чиновник по особым поручениям сдернет с пояса наградной пистолет и выстрелит ему в лоб. Не произошло ничего. Имя, жалобы-предложения, лицо K., его голос, манеры – всё просто приняли к сведению, кое-что обсудили, за кое-что похвалили. R. не вспомнил его; более того, на лице не отразилось и тени мучительно-провального припоминания. Они улыбнулись друг другу, и R. отвлекся на следующего человека. K. несколько месяцев ждал, когда вскроется ловкое притворство, когда новый начальник начнет мстить, планомерно руша его карьеру и жизнь. Подставит в деликатном политическом вопросе; напишет донос о выдуманных пытках или укрывательстве каторжников; подбросит компрометирующее письмецо или деньги; уведет невесту; просто застрелит на очередной из обожаемых обер-полицмейстером утиных охот… Но R. его не выделял, а если вдруг выделял, то в хорошем смысле: хвалил за показатели, передавал в подчинение лучшего сыщика, ищущего перевода, вступался за проштрафившихся по глупости агентов и выручал внедренных; советовался по сложным делам. Они не дружили – R. друзей вообще не заводил, – но подобных отношений с начальством у K. еще не складывалось. Прежний, суетливо-говорливый W., больше кричал, чем делал; цифры для кривых бессовестно подгонял, а если попадался, валил это на подчиненных; сквозь пальцы (и крайне благосклонно) посматривал на мзду. Он был хорошим отцом шестерых детей – может, в том числе поэтому расточать заботу людям вне семейного круга не жаждал. R. был полной его противоположностью: внимательный, вдобавок азартный до блестящих раскрытий. Вне сомнения, сегодня чиновник по особым, имеющий в подчинении пяток надзирателей, – а завтра, может, и полицмейстер. Показательно бодрый, но глубоко печальный в самой сути человек. И – ну что за горькая ирония! – Жан Вальжан, воистину, во плоти. Глядя на него, К. долго метался между двумя одинаково чудовищными чувствами: глубокой личной расположенностью, крепнущей внутри, и скользким жаверовским возмущением, расползающимся извне. Потом одно из чувств победило, но стало только сложнее.
Дух нашел искомое; в руке его, выпростанной из недр шкафа, что-то блеснуло. Он подлетел обратно к столу и… бесплотными пальцами коснулся бутылки коньяка. Пробку выдрал простым зверским движением, каким сворачивают шею гусю, обхватил горлышко и поднес к глазам. K. показалось даже, что сейчас суровый гость к коньяку приложится – а вдруг, неспроста же покойникам оставляют подношения на могилах, все эти яблоки и хлеб? Но нет. Второй рукой дух тихо поставил что-то на стол, точно меж K. и собой. Это оказалась старая стопка, наверное тоже прошлого хозяина кабинета, – дорогая, хрустальная, с толстыми резными стенками, но вся грязная.
Дух наклонил бутылку и наполнил стопку до краев. И тогда – почему-то лишь тогда – K. увидел: на дне свернулось огромное насекомое. Желто-черное полосатое тельце зримо дрожало под янтарной жидкостью, но к поверхности не поднималось, точно прилипло к хрусталю. Мертвая оса. Не пчела, не шмель – оса. Ну конечно же.
Стало муторно; лицо и уши, похоже, вспыхнули, но K. промолчал. Опустив голову, глядел он на стопку; лишь раз посмотрел в лицо призраку – и убедился, что тот все видит ясно; оса – не бесчеловечное совпадение. Старик вернул бутылку на стол, опять уперся в него ладонями, склонился и легонько дунул. Стопка, точно ее подтолкнули, проехала по льду к K. и замерла на краю столешницы с его стороны. Коньяк не выплеснулся через хрусталь, даже не дрогнул. Оса лежала все так же покойно и скрюченно, точно сжавшийся в испуге чудовищный младенец.
– Мне… пить. – Вопроса не получилось.
K. торопливо сглотнул, не дожидаясь кивка. Старик покачивался и светился, без сомнения зная: заставлять не придется.
– Ты сам воззвал ко мне, – только и произнес он; лицо его застыло. – Назад решил повернуть? Так уже не выйдет.
Не выйдет? Да что это? То был секундный порыв – выплеснуть коньяк на пол, вскочить, разразиться бранью и отпрянуть. В конце концов, не в таких масштабах он думал, зажигая свечу; в конце концов, ему обещали лишь светлые мысли, а дальше он сам, возможно, что-то себе намечтал. Ему не так чтобы не верилось в подобные силы, нет, но он не сомневался: чтобы призвать их, умения и душевный склад нужны иные, чаще свойственные диким женщинам, а не усталым полицейским. Что, если его, например, разыгрывают, как-то прознав всю постыдную подноготную? Если все – большая мистерия кого-то из родных Нелли, охочих до шуток в духе «Волшебной флейты» Моцарта? Или самого R.? И К. сейчас просто возьмет, да и выпьет коньяк с дохлым насекомым на дне? А то и придется эту осу проглотить? Желудок скрутило; горло сжалось сильнее; рассудок запротестовал, ища новые и новые белые нитки, которыми наверняка шит весь странный разговор, весь образ костлявого гостя… Но рука уже послушно тянулась к стопке. На ощупь стекло оказалось ледяным. Разум обреченно смолк.
В конце концов, разве это важно – подлинное объяснение? Он заслужил что кару свыше, что людскую месть. Он все заслужил – и, как видится, именно это, а не мистический дар и не свеча, помогло духу найти дорогу. Пятиться и открещиваться бессмысленно, все равно сам съест себя поедом, рано или поздно. Почему не начать прямо сейчас?
– Что ж, твое здоровье, призрак. – Не сдержавшись, он бросил легкую шпильку хотя бы парадоксальными этими словами. И опрокинул коньяк в себя.
Пожалуй, хорошо, что зажмурился: когда верхнюю губу пронзил укол, это потрясло меньше, чем если бы K. увидел, как оса воскресает, выползает из рюмки и впивается в него. И все же он вскрикнул, дернулся, пальцы разжались, и зазвенел разбитый хрусталь. Жужжания не было – только боль пульсировала раз за разом, точно оса продолжала жалить, ползая вокруг рта. Открыв глаза, K. машинально махнул рукой перед лицом, но никого не увидел; старик же начал дрожать, двоиться, расплываться. Потолок качнулся. Стены надвинулись, ноги подогнулись. K. уперся взмокшими ладонями в стол, с отвращением и ужасом ощутил, как они примерзают к ледяным узорам, но сделать ничего уже не смог.
– Что ты дал мне, дух? – прохрипел он, силясь овладеть хотя бы взглядом.
Руки жгло; стужа глодала их, вонзая искристые зубы до самых костей.
Старик, кажется, улыбнулся и приблизился. Пальцы его легли поверх ладоней K. и резко надавили. Дух словно пытался толкнуть стол, а может, и проломить им пол, сбросить на нижний этаж вместе с паркетинами, коньяком, свечой и K…
– Вольному воля, дорога дальняя, грешная душа, – шепнул он.
Стол провалился в черноту.
Совиный дом
10 лет назад
В те годы в огромном фаворе был один вольный корреспондент. Материалы его выходили в разных московских газетах, от «Русских ведомостей» до «Будильника», неизменно под псевдонимом Оса. Текстов этих жаждали; внезапно много читательских умов влек их благородный яд. Были в них новизна и наглая оголенность – не то что приевшийся, тяжеловесно-сладкий дым отечества. Осе, бестии, любую сладость на свете заменяла горчайшая тема – домашние страдальцы: избитые, запертые в холодных сенях, растленные, заморенные, проигранные в карты… женщины, а лучше дети, дети – их муки особенно раззадоривали беспощадного писаку.
Жало его разило. Оса сполна оправдывал кличку, неприкрыто мнил себя новым Иваном Карамазовым, но не тепличным рефлексирующим интеллигентом Достоевского, а могучим борцом, нещадным ко всякой похотливой, твердолобой сволочи. Недели не проходило, чтоб Оса, что-нибудь где-нибудь нарыв, не раздул фельетон, или памфлет, или хоть заметку. Кусал он не страшась: домостроевцев всех сословий, полицию, попов, чиновников – тех, кто мучил, и тех, кто мучения спускал. Бывал от материалов настоящий шум, вмешивались опека и суды, пару раз лично государыня. Чем ярче разгорался скандал, тем выше были и шансы на справедливость в том или ином виде. Закрывались голодные дома призрения, слетали с постов начальники-растлители, женщины нападали на обидчиков и восстанавливались в правах. Осе было чем гордиться, а вот поражений он не знал; никто никогда не прививал его от заразы мессианства. И конечно же, он, вездесущий, невидимый и необходимый, не остался в стороне, когда в доме на Каретном пошли те самые чудовищные разговоры.
Начала их Lize. Она обладала чутким слухом и любопытным носом; страдала бессонницей, но лечиться чем-либо, кроме молока с медом, отказывалась. Вечерами ее частенько можно было поймать в кухне: она вертелась подле служанки, варившей младшему D. шоколад, и выпрашивала в дополнение к меду пенки. Сладкое – шоколадные эти пенки, пломбиры, суфле, марципаны, леденцы – вообще было радостью ее сердечка в любое время суток, может, поэтому она так плохо и спала, в отличие от брата, позволявшего себе одну чашку шоколада вечером и никаких лакомств днем. Уже тогда это портило ей кожу и зубы, сводило на нет крохи красоты, которые достались от матери… Но в тот раз любовь ее к сластям оказалась обстоятельством ценным. Ведь трудно сказать, чем могло бы все обернуться при ином раскладе.
Спальня Lize была рядом с комнатой D. Вплотную. Она-то первой и упомянула, что в некоторые ночи слышит через стенку странные стоны и крики; что там порой подолгу стучат, скрипят… на кровати скачут? D. только-только исполнилось десять. Lize, будучи старше всего на два года, природы звуков могла не понимать, но вскоре и слуги кое-что услышали. Они, впрочем, тоже поначалу не думали о чем-то скверном и проверять не проверяли: мальчик неизменно запирался на ключ, а если его звали, если начинали стучать в дверь и выспрашивать о шуме, отвечал, что видел кошмар, и только. Недетская его черта – отвращение к капризам, нежелание кому-то лишний раз помешать – и здесь, видимо, давала о себе знать. Впрочем, дело было не в ней одной.
К завтраку D. выходил разбитым, хуже в такие дни занимался, беспокойно ерзал, порой прихрамывал… Но домашние верили в сны – пока однажды мальчик не вышел с синяками на запястьях и шее. Огромные, черные, они напоминали следы рук и ничем другим быть не могли. Тогда же прачка пригляделась наконец к его постельному белью, вместо того чтобы по обыкновению небрежно бросить в стирку, – и нашла на простынях вполне понятные следы да вдобавок немного крови. С ее-то крика, полного ужаса: «Барин! Барин!» – в Совином доме все и переменилось.
Если бы D. мог на кого-то указать! Но как к нему ни подступались, он твердил одно – об огромном Василиске, во сне являющемся из темноты. Василиск неизменно вжимал его в постель, терзал, душил, а в конце оставлял лежать в горячей слизи и уползал сквозь дверь с тихим шипением и скрежетом. Целый месяц подобных «снов». Месяц, в который все были «слепы как кроты и глухи, как этот ваш Бетховен» – ревел граф, грозясь вышвырнуть всю прислугу не глядя. Простоватый, добродушный, на все прежде глядевший сквозь калейдоскоп жизнелюбия, он пришел тогда в истеричное неистовство: сестра с детства оберегалась им как сокровище, и воинственная медвежья защита эта распространялась на всякий дорогой ей предмет, мысль, тем более – ее сына. Сама же графиня не кричала – только глядела так, что лучше бы бранилась. Темные глаза ее были что у оленихи с развороченным животом.
В доме подобного не случалось; чистым и благонравным он был не только снаружи. Слуги давние, гости приличные – да они почти и не оставались с ночевкой. Кого подозревать? Как проверять? Все, разумеется, клялись в невиновности; кто-то говорил и об алиби, дескать, в такую-то ночь уезжал, в такую – пил снотворное, в такую – мучился животом. Был и другой вариант, менее для обитателей дома оскорбительный, но столь же тревожный, – что посторонний влезал, например, в окно.
Он неспроста появился: незадолго до первого «сна» мальчика возле Троицы в Листах окружила ватага пестрых цыган, стала хватать за руки, загалдела, пугая, – кучер еле разогнал. Жилистые чернявые молодчики позже мелькали и у дома, один мужчина, притащивший патлатого остроносого мальчишку лет двенадцати, вваливался в ворота и требовал хозяйку, но в конце концов всех отвадили. Надежно ли? И не из-за цыганской ли ворожбы D. все твердил о Василиске, не о людях? Впрочем, следов вторжения не обнаруживалось. Да и чтобы месяц кто-то, хоть самый ловкий хитровский вор, пробирался в дом ночами?.. Граф жил мирно, охраны, конечно, не держал, даже собак. Но не вытоптать ни разу клумбу, не сломать пару роз или побег плюща, не оставить на паркете грязных следов? Разве возможно?
Доискиваться было сложно; полицию привлекать – разговоров же не оберешься! Мальчика обезопасили, но сделала это графиня на дикий материнский манер: уперлась, что, пока не найдут виновного, будет ночевать на софе в детской, и не просто ночевать, а держа подле себя коробку с дуэльными пистолетами графа. И обещание свое исполнила.
Цыгане к тому времени пропали, версия о них как-то забылась, а вот потрясения не сгладились. Графиня упорствовала: не могло все быть так просто. Фараоново племя дико и хитро, но учинить подобное? Они скорее украли бы мальчика и Lize заодно, обворовали бы дом, в конце концов, навели бы какое проклятье – а может, и навели, раз все у семьи так разладилось. Но Василиск, считала она, не цыганского племени. Василиск все еще здесь, затаился близко, она чувствует. Тяжелые были слова… но многие в доме, особенно женщины и чувствительный, ранимый Котов, ее поддержали.
Исподволь, не сразу, мысли домочадцев приняли новое, пренеприятнейшее направление. Задали вопрос: «Кто у нас самый новый?» Спросил благоразумный Петуховский, тут же, впрочем, оговорившись, что «Это, конечно, ничего не значит-с, просто примем к сведению на всякий случай». Вспомнили быстро: последним взяли гувернера для D. И хотя никто этот факт не прокомментировал, Совиный дом погрузился в еще более тревожную задумчивость. Тут все дружили, с таким облегчением начали думать на цыган… и вдруг опять ищи змею не в траве, а на груди?
Аркадий на момент найма не имел рекомендательных писем, кроме как от университетских профессоров, давних знакомых графа. D. был первым его подопечным, место в доме – подработкой, но, окончив курс, он не подал в отставку. Объяснял это привязанностью к ребенку и охлаждением к стезе: как раз в месяц его выпуска по стране прогремело несколько позорных вердиктов – вроде дела Карауловых, где на каторгу отправился тот из наследников имения, кто отца явно не убивал. Но в свете ужасного происшествия невинные слова заиграли подтекстами: даже Иван их запомнил, хотя значения поначалу не придал. По его мнению, подкопаться надуманно можно было к половине слуг. К Котову – любителю платьев. К Лигову – ценителю разнузданных писулек де Сада и да Понте. Или к самому Ивану – он периодически в доме все же ночевал и знал планировку. Компрометирующее обстоятельство, например умение ловко лазать по деревьям, нашлось бы и у него.
Три года – все же немалый срок, а именно столько Аркадий прожил в доме без единого нарекания, да и рекомендовавших его профессоров граф уважал. Хотя отношения его со всем окружением охладились, обвинений он, разумеется, не предъявлял, заверяя: «Грязь лить – не платье отстирывать». Остальные домашние юношу обожали, при малейшем сомнительном намеке за него вступались. Волос не стрижет? Дело вкуса. Разговоры вольные? Такая сейчас вся молодежь! В тюрьме не был, приводов не имел, с нигилистами не путался, родители образцовые, среднего класса… Так что против него не было никакой вражеской коалиции, во всяком случае, не более, чем против кого-либо еще.
Одно обстоятельство все переменило: Lize мялась-мялась, да и сболтнула, что в недавнюю ночь – буквально за одну до той, когда брату оставили синяки, – кое-что видела. Тогда она, опять мучаясь бессонницей, подсматривала в замочную скважину: думала застать что-нибудь интересное, например, как Танечка и Котов в платье опять станут целоваться в коридоре… Но вместо них появился Аркадий. Он постоял немного, осматриваясь и прислушиваясь, а потом открыл дверь мальчика ключом и вошел. Когда вышел, Lize не знала – все-таки уснула, ведь значения случившемуся она не придала. Подумала: может, его что встревожило? А может, его позвали, а она не слышала? Тетка напустилась на нее: «Что же ты молчала?», но за растерявшуюся малышку вступился отец: «Глупая потому что, но честная, напраслину возводить не хотела, мое яблочко… Так, ангелок?» Lize закивала и прижалась сначала к нему, а потом к графине, лепеча: «Простите, простите…» – и шмыгая носом. Никто больше не стал ее допытывать.
На совет позвали почти всех, но бедный Аркадий ни о чем не подозревал. И ему, конечно, сильно повредило то, как он обмер, как заметался взглядом, услышав обвинения, точнее, поначалу вопросы графа:
– Что вы там делали ночью, у моего племянника? А ключ у вас откуда? Мне не говорили, что вы его брали.
Все это звучало пока мягко, но юноша долго, слишком долго не мог найти слов. На него многие теперь глядели с испугом и удивлением, а он забился в угол софы как громом пораженный. Лоб вспотел, глаза округлились. Он мотнул головой, но как-то неправильно, и волосы упали не назад, а вперед – сальные, неопрятные. Наконец, убрав их дрожащими руками за уши, он ответил одно-единственное, коротко и нервно:
– Ничего, ваше сиятельство. Хотел проверить мальчика, опасался за него, вот и вспомнил, что сделал когда-то свой ключ…
Сделал ключ! Графиня ахнула и упала без чувств – видимо, долгое напряжение и плохой сон помогли ей дорисовать не одно страшное продолжение простых слов. Все засуетились и загомонили, но Лигов подхватился, скорее унес ее в гостиную, стал настежь открывать там окна. Граф, выбитый и признанием, и обмороком из колеи и, видимо, напуганный, подскочил, грузно опустился на софу рядом с гувернером, сгреб его за ворот и разразился длинной, сбивчивой тирадой.
– Проверили? ПРОВЕРИЛИ? – заходился он, все бледнея, как если бы надолго задержал дыхание. – Почему не сказали? И какого же черта вы его сделали, кто вам дозволил, зачем?.. Не думали вы, что именно у вас этот ключ и крадут? С кем вы якшаетесь, с кем?!
Аркадий лишь загипнотизированно уставился на его перекошенный рот. Слова потрясли его, и он никак не мог осмыслить их подтекст.
– Я… ни с кем… на случай, если какая-то беда… – прошелестел он наконец и затравленно огляделся. Слуги смотрели на него, но все старались не столкнуться прямыми взглядами; сидели, почти одинаково вжав в плечи головы и комкая рукава или складки одежды на коленях. – Простите…
О, как это было жалко, как запоздало. Граф оскалился, криво усмехнулся:
– Ну вот и беда… А не вы ли наша беда, сударь, нет?.. Будь это все хиханьки, спросил бы: а от моего стола, от сестрицыной спальни ключи у вас имеются-с?
Казалось, он готов схватить жертву и за горло, и, пожалуй, ему хватило бы одного захвата для удушения. Его крупно трясло, пальцы скрючились. Но Аркадий к тому мгновению себя как-то переборол, более того, задетый, он одновременно и вспыхнул злым румянцем, и посерел. Скверно дышалось, видимо, уже и ему.
– Вам ли не знать, что нет. И тем более что я… я никогда не тронул бы его ни в каком из смыслов, – сказал он неожиданно тихо, но ровно, не пытаясь освободиться. – Будь это в моей власти, я никому не позволил бы его тронуть… – Он помедлил, приподнял подбородок, и незнакомый огонь сверкнул в его мягких глазах. – Более того, если только смогу, я своими руками убью того, кто сотворил это.
Все ахнули от этого апломба, казавшегося полным искренности и боли. Повисла тишина.
– Так вам известно что-то? – Граф даже перестал рычать, но глухой голос его зазвучал еще более угрожающе. Звериные глаза тоже блеснули, хрустнули пальцы. – Вам есть на кого указать? – Тут он чуть смягчился, перешел на шепот: – Так мы слушаем-с, мы для того и здесь, попробуйте… За ложь удавлю, за правду расцелую.
Оля, Танечка и Котов тихонько взвизгнули от страха. В молчании Аркадий глядел на графа несколько мгновений, а тот – на него, и терпение его таяло на глазах.
– Ну же… – Вернулась горькая злоба, но тоже истаяла, сменилась ледяной гадливостью. – Что молчите? Поборитесь за себя или покайтесь, хоть что-то.
Во взгляде графа читалось одно желание – использовав глаза как крючья, вынуть душу вместе с правдой. Сжимались кулаки. Тряслись губы. Саша, Сытопьянов и Петуховский наблюдали сцену все с большей тревогой, привстав с мест: подозревали, что вот-вот придется предотвращать смертоубийство.
– НУ! – Граф снова рыкнул, так, что многие вздрогнули. – О семье-то подумайте… не об этой, так о своей.
И Аркадий сдался, опустил голову; лицо его вновь занавесили волосы. Последние слова он произнес почти неслышно, но их словно разнесло призрачное эхо:
– Мне нечего сказать. Я знаю одно: этот человек будет гореть в аду.
Граф выругался, оттолкнул его в угол софы и прошипел:
– Змеюка! – Рука метнулась к груди, затеребила жилетную цепочку, на которой сегодня висели лишь прадедовы наградные часы с рубиновой крышкой. – Сволочь…
Не выдержав, он вскочил и, хлопнув дверью, ринулся в гостиную – проверять сестру. Прочие, поняв, что совет окончен, тоже начали расходиться – только Аркадий сидел, сжавшись, уставившись в пол и держась за грудь. Ушли все быстро, стараясь даже ртов не раскрывать – точно он враз стал прокаженным, чье рваное дыхание заразно.
Дальше все разговоры были только о нем и о графе; о ключе и неозвученном признании. В доме становилось все душнее, гаже. Графине понадобился вдобавок к Лигову настоящий доктор: лихорадка ее угрожающе разрослась. Мальчика же изолировали, вообще запретили ему выходить из комнаты одному, отдали его под строгий надзор гувернантки Lize. Но больше в тот день ничего не произошло. Все только начиналось.
Ивана на совет не позвали, но он там был – слушал из коридора, смотрел в замочную скважину. У этого шпионажа в духе Lize имелся умысел: нужно было все увидеть в красках, и как можно более сочных. Граф лично позволил это Ивану, еще когда пошли первые разговоры. Теперь Иван был потрясен. Какой отвратительный скандал, да еще ключ… ключ! В доме и так был запасной комплект, хранился у управляющего, проблем с доступом к нему не имелось. Так зачем? Всеобщее подозрительное настроение – особенно сумеречный, отчаянный гнев графа – заразило Ивана. Остаток дня он не находил себе места. Вечером они с графом встретились в кабинете и недолго поговорили.