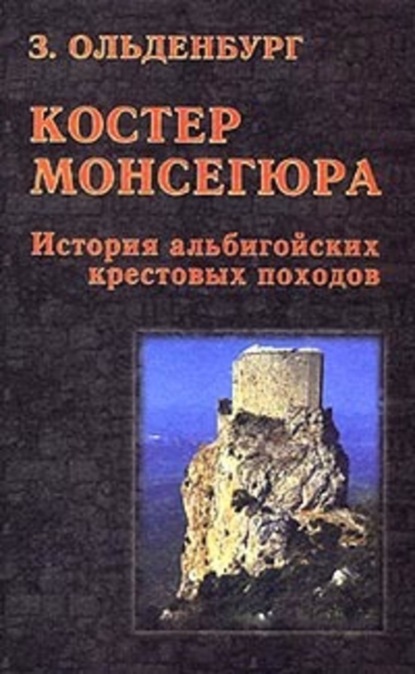 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов
Но Церковь уже не выглядела победительницей, явившейся, чтобы хозяйничать в покоренной стране. Это была поверженная Церковь. Истинные победители – крестоносцы, король и прежде всего народная нищета – сослужили делу катаров отличную службу. Все усилия Церкви рисковали оказаться сведенными к пустым угрозам, и хотя бы отчасти спасти свое лицо ей могло помочь только оружие оккупантов. Чтобы отвоевать себе положение в стране, нужно было прекратить прибегать к помощи мирских властей и срочно изыскать другие средства, придумать новую систему подавления, более эффективную, чем оружие.
Задача была не из легких. Однако реформаторское движение, начавшееся внутри Церкви еще с 1209 года, позволило ей навербовать среди своих членов большое количество энергичных борцов, готовых на все во имя торжества своей веры. Но если бы они начали действовать, как действует полиция или миссионеры, они бы расписались в том, что имеют дело с сильным противником, и других рычагов воздействия у них нет. Чтобы сломить ненависть окситанцев, им не хватило бы ни доброты, ни справедливости, ни умеренности. Для этого им надо было попросту убраться восвояси, а до таких пределов их милосердие не простиралось.
2. Тулузский Собор
В ноябре 1229 года кардинал-легат де Сент-Анж прибыл в Тулузу, чтобы с подобающей случаю помпой отпраздновать наступление новой эры мира и процветания в Лангедоке, процветания католической Церкви под эгидой мощного и счастливого покровительства короля Франции и мира в единой вере и в верности Церкви и королю.
Торжественная церемония имела место здесь же в Тулузе. Граф должен был снова публично изъявить покорность легату, который на этот раз не бичевал его, но и не обращался с ним, как с полновластным сувереном, снисходя к мятежнику из милости, прощая его и возвращая часть его доменов. Текст договора был публично зачитан вслух в присутствии собрания епископов и местной знати, которая присягнула свято соблюдать все его статьи.
Ромену де Сент-Анжу, чья карьера во Франции завершилась столь блестяще, предписывалось не покидать пределов Лангедока, пока он не обеспечит прочной базы для новой политики Церкви. Обязательства графа и присяги его вассалов на этот раз не должны были остаться, как это уже не раз случалось, благими намерениями, которые они же сами потом объявят невыполнимыми. Надо было ковать железо, пока горячо, и легат велел созвать в Тулузе Собор с участием всех южных прелатов для решения следующих вопросов: 1) основание или, скорее, обновление Университета в Тулузе (легат Конрад де Порто во время крестового похода уже заложил основу этого католического Университета); 2) надежная и эффективная организация репрессий против ереси.
Любопытно читать циркуляр, выработанный Собором для преподавателей нового Университета и предназначенный для рассылки в крупные учебные центры Запада, чтобы привлечь в Тулузу новых студентов. Ромен де Сент-Анж привез с собой из Парижа профессоров теологии и философии, покинувших Университет в результате распрей между учебными заведениями и верхушкой Нотр-Дам. Новый Университет не имел недостатка в средствах, граф каждый год должен был вносить на его содержание четыре тысячи марок серебром. Почитать рекламные письма, составленные новыми профессорами, так выходило, что страна, куда они пытались завлечь студентов, это тихая гавань среди войн и невзгод, сотрясающих Европу, народ ее тих и гостеприимен, жизнь недорога, квартир сколько угодно, климат прелестный и т. д. И наконец здесь, «где, словно лес, разросся колючий кустарник ереси», новый Университет был призван «взрастить до небес могучий кедр католической веры». Он должен был противопоставить военной бойне мирную борьбу научных споров[147]. Короче, примирение графа с Церковью принесло стране мир, торжество веры и обещание процветания и благополучия.
Этого действительно желали не только католики, но и сам граф и уставший от войны народ. Мир, пусть насильственный, пусть жестокий, давал Лангедоку возможность вздохнуть, крестьяне могли посеять хлеб и не дрожать каждый год от страха, что поля вытопчут.
За двадцать лет в Тулузу хозяевами входили Симон де Монфор и принц Людовик, Фульк и легаты. Город по опыту знал, что правление новых хозяев будет не дольше правления их предшественников. Граф сохранил часть своих полномочий, а легат рано или поздно уберется в Рим.
Очевидно, что Ромен де Сент-Анж не рассчитывал одолеть ересь одним росчерком пера или при помощи «мирного оружия научных споров». Наоборот, больше никакая научная дискуссия не вспыхнет в этой стране между католиками и еретиками.
Ни на кафедрах теологии, ни в любых других местах, кроме тюрьмы, еретики не смогут более выдвигать никаких аргументов, и мирные дискуссии превратятся в монологи. Согласно Парижскому соглашению, легат составил список распоряжений, которые, если и не были образцом новации в церковном законодательстве, то применялись более систематично и постоянно. Преследование ереси теперь входило в свод общественных законов наряду с гражданским и уголовным правом и строжайше вменялось всем гражданам без малейших исключений. Согласно этому новому уложению, даже какая-нибудь девчушка лет двенадцати, по болезни или из-за отсутствия не успевшая дать клятву истреблять ересь или по какой либо причине не причастившаяся в Пасху, могла попасть под подозрение и подвергнуться судебному преследованию. Но что действительно поражает и распоряжениях легата, так это их методический и, даже можно сказать, бюрократический характер. Они устанавливают, по крайней мере, на бумаге, настоящий полицейский контроль за населением. Напрашивается вопрос: располагала ли Церковь достаточными средствами для их выполнения. Во всех случаях на это должны были уйти годы. Вот как выглядят основные статьи уложения:
Архиепископы и епископы должны назначить в каждом приходе одного священника на двоих или троих мирян, которые обходят и осматривает дома, погреба, чердаки – словом, все подозрительные места, где могли бы укрыться еретики. Если таковые будут обнаружены, о них надлежит донести епископу, сеньору и баилям и действовать согласно их решению. Такие же облавы предписано проводить сеньорам и аббатам в домах, селениях и в особенности в лесах. Если кто-либо приютит еретика на своей земле, он тут же этой земли лишается, а его самого предают суду сеньора. Даже если его контакты с еретиками не доказаны, он подпадает под статью закона, буде обнаруженные на его территории еретики многочисленны. Дом, где найдут еретика, следует сжечь, а землю, на которой дом стоит, конфисковать. Баиль, выказавший нерадение в розыске еретиков, лишается имущества и места. Наказать еретика или сочувствующего можно только после решения местного епископа или церковного судьи. Каждый волен произвести розыск еретиков на чужой земле, и баили обязаны ему помогать. Королевские баили могут выслеживать еретиков на территории графа Тулузского и наоборот – граф Тулузский может проводить облавы на землях короля. Еретик, отошедший от ереси добровольно, объявляется вне подозрений, однако должен сменить жилище, нашить на грудь и спину кресты, отличающиеся по цвету от одежды, не может исполнять никаких общественных должностей и допускается к подписанию документов только после того, как папа или легат указом восстановят его в правах. Тот еретик, что вернулся в католическую веру не по доброй воле, а из страха смерти, должен быть посажен епископом в тюрьму. Те же, кому перейдет его имущество, должны позаботиться о его содержании, а неимущих содержит епархия. Все мужчины старше четырнадцати и женщины старше двенадцати лет обязаны отречься от ереси, поклясться в верности истинной Церкви и обещать доносить на еретиков и на всех, кто с ними общается. Все обитатели прихода поименно произносят эту клятву перед епископом или его доверенным лицом. Отсутствовавшие должны присягнуть в течение пятнадцати дней по возвращении. Если же они этого не сделали, что легко проверить по спискам имен, то попадают под подозрение в ереси. Клятва должна обновляться каждые два года.
Лица обоего пола, достигшие совершеннолетия, обязаны трижды в год исповедаться у своего кюре или у другого священника с разрешения своего кюре. Если пастырь не вызывает к себе особым распоряжением, то исповедаться надлежит на Рождество, на Пасху и на Пятидесятницу. Уклоняющиеся от исповеди навлекают на себя подозрение в ереси. Главам семейств предписывается присутствовать на воскресных и праздничных мессах под страхом штрафа в двенадцать денье. Извинить отсутствие на мессе может лишь болезнь или другая уважительная причина.
Прихожанам запрещается иметь Ветхий и Новый Заветы, за исключением Псалтыри, молитвенника и Часослова, и тех только на латыни.
Заподозренные в ереси не могут заниматься врачеванием. Больного, принявшего причастие, следует стеречь, чтобы к нему не приблизился еретик или заподозренный в ереси.
Завещания могут составляться только в присутствии кюре либо другого священника или мирянина с хорошей репутацией, иначе они считаются недействительными.
Сеньорам, баронам, рыцарям и шателенам запрещается доверять управление своими землями еретикам и сочувствующим.
Тот, кого изобличило общественное мнение, и чью дурную репутацию подтвердил епископ, считается обесчещенным[148].
Как видно, чтобы выполнить все эти декреты, нужен был немалый персонал надзирателей. Несомненно, составить списки своих прихожан, выявить уклоняющихся от присяги и причастия, объявить их подозреваемыми в ереси мог каждый священник. Однако если нарушителей было много, то предать суду всех уже становилось трудно. Страх навлечь на себя беду мог толкнуть многих верующих к конформизму, но церковным властям приходилось еще долго доказывать этот конформизм.
Может, и нетрудно было в каждом приходе найти двух-трех мирян, желающих поискать еретиков, но надо было еще, чтобы их поддержало большинство населения, иначе арестовать обнаруженного еретика становилось проблемой.
Алчность толкала сеньоров завладеть землями тех, кто укрывал еретиков, страх потерять имущество или место и перспектива увидеть свой дом разоренным заставлял многих отказывать еретикам в приюте. Но для того, чтобы заниматься разрушением жилищ и конфискацией земель, должна была существовать очень сильная власть. Мало того, что подобная система репрессий вызывала в стране неизбежные беспорядки. В выполнении всех своих мер она не могла рассчитывать ни на графа с его вассалами, ни на королевских чиновников, занятых другими обязанностями. Епископы располагали вооруженными отрядами, но, чтобы арестовать еретиков, их надо было сначала найти, а они очень ловко путали следы. К тому же среди «обесчещенных» было много знатных вельмож, к которым непросто подступиться и которые присягнули в своей ортодоксальности.
Ромен де Сент-Анж не удовлетворился простым обнародованием своих декретов. Ему надо было перед отъездом в Тулузу поразить общественное мнение громким процессом для устрашения тех, кто полагал их практически неприменимыми. У него под рукой было двое еретиков, недавно обнаруженных и арестованных людьми графа Тулузского, который, чтобы заслужить доверие легата, посчитал нужным представить ему это доказательство своей доброй воли. Оба еретика были совершенными. Один из них, Гильом, упоминался также Альберихом из Трех Ключей[149] как «папа» (апостоликус) Альбижуа. Скорее всего, речь шла о епископе диоцеза Альби, весьма почтенном старце, которого назвали папой, дабы придать больший вес его аресту. Другой совершенный, его тезка Гильом де Солье, тоже был уважаем и хорошо известен в Тулузском диоцезе.
Так называемый папа альбигойцев шел на казнь с присущей катарским священникам твердостью и был торжественно сожжен в Тулузе кардиналом-легатом, а вот Гильом де Солье обратился в католическую веру и стал одним из ценнейших споспешников Церкви. Церковный Собор его оправдал и официально принял его показания. Этот человек выдал многих верующих, принадлежавших к катарской Церкви. Знакомство с ними, знание всех их укрытий и мест сбора оказались ему весьма кстати. Однако совершенные в его доносах не фигурировали, он доносил только на простых верующих.
Епископ Тулузский вызвал к себе тех, чья правоверность не вызывала сомнений, и потребовал от них свидетельства против еретиков в числе их знакомых. В результате вместе с показаниями Гильома де Солье получился впечатляющий список подозреваемых. Все они предстали перед церковным судом.
Однако эта затея не принесла заметных результатов: подозреваемые отказывались говорить на допросах. Некоторые, кто побойчее или поопытнее, показывали на тех, кто свидетельствовал против них, и без этих взаимных обвинений не обходилась ни одна юридическая процедура. Стало ясно, что случай не совсем обычный, и судьи не могли больше обнародовать имена информаторов, боясь, что им начнут мстить и тем самым напугают будущих осведомителей. Когда кардинал-легат отказался назвать имена доносчиков, обвиняемые преследовали его до самого Монпелье, где вручили ему очередное прошение. Ромен де Сент-Анж пустился на хитрость: он согласился показать обвиняемым список всех включенных в дознание, не сообщая, против кого они давали показания и давали ли вообще, и предложил указать в этом списке своих личных врагов. Сбитые с толку, не ведающие, кто показывал за, кто против них, обвиняемые не осмелились указать никого и попросили прощения у легата. Потом эта уловка Ромена де Сент-Анжа широко применялась в церковных трибуналах.
Процесс над еретиками легат устроил не в Тулузе, а в Оранже, созвав там Собор, чтобы обнародовать по всему Лангедоку свое уложение, учрежденное в Тулузе. Его сопровождал Тулузский епископ Фульк, на которого была возложена обязанность привести в исполнение наказания, назначенные легатом. Ромен де Сент-Анж покинул юг Франции и вернулся в Рим, где папа не замедлил наречь его епископом Порто.
3. Бессилие Церкви и реакция доминиканцев
Теперь легат мог сказать, что «Церковь наконец-то обрела мир в этих краях» (Г. Пелиссон). Но действия инквизиции, невзирая на сожжение совершенного Гильома и оглашение списка подозреваемых, не произвели большого впечатления на тулузцев. Епископ Фульк, которому доверили осуществление репрессий против ереси, был настолько непопулярен, что не отваживался передвигаться без вооруженного эскорта, и с огромным трудом добивался уплаты церковного налога. Граф по вполне понятным причинам не делал абсолютно ничего, чтобы защитить права своего епископа, и престарелый прелат горько и не без цинизма сетовал: «Я скоро снова окажусь в изгнании, потому что только там я бываю хорош»[150]. Фульк не остался долго на епископском престоле в Тулузе. Старый, усталый, а больше всего обескураженный непобедимой враждебностью к нему его же собственных прихожан, он удалился в аббатство Грансельв готовиться к смерти и сочинять гимны. Умер он в 1231 году.
Методическое подавление ереси, вмененное Меоским договором и торжественно начатое Роменом де Сент-Анжем, на деле оказалось неосуществимым. Полицейские меры, принятые против ереси церковными властями, морально изолированными от страны, привели к тому, что и еретики, и сочувствующие научились скрываться и пользовались этой наукой систематически и со знанием дела. Новые законы не действовали, ибо все, кто так или иначе имел дело со священниками, торжественно заверяли их в своей правоверности, но на деле жизнь Лангедока ускользала от контроля церковной полиции, которая была малочисленна и мало кого пугала.
«Еретики и их паства, – пишет доминиканец Гильом Пелиссон о годах, последовавших за Меоским договором, – приобретали все больший опыт и направляли все свои силы и хитрость против Церкви и католиков. В Тулузе и ее окрестностях они натворили больше беды, чем во время войны»[151].
О деятельности катаров в этот период мы знаем только то, что сохранилось в документах судебных процессов и в доносах или то, что касалось очень известных в их среде людей. Очень многим из знаменитых совершенных удалось уйти от преследований, так как судьи не были всеведущи, а информировать их никто не спешил.
Владетели Ниора, герои долгого показательного процесса, о котором у нас еще пойдет речь, публично оказали гостеприимство пяти совершенным, от которых не пожелали отречься, невзирая на приказы архиепископа Нарбоннского, объединили еретиков и организовали убежище для множества попавших под подозрение. Их мать, Эсклармонда, известнейшая на всю страну совершенная, пользовалась таким авторитетом и влиянием, что получила от своих духовных пастырей специальное разрешение принимать мясную пищу и лгать (в вопросах веры и единоверцев), если дело дойдет до насилия.
В 1233 году к замку Рокфор стеклось множество еретиков со всей страны, чтобы послушать проповеди Гильома Видаля. Фанжо всегда оставался признанным центром катарской Церкви. На собрания под председательством Гийаберта де Кастра съезжалось все рыцарство, а владетельница Фанжо, Каваэрс, в 1229 году пригласила всю окрестную знать в замок Монградей на торжество по поводу вступления ее племянника Арно де Кастельвердена в катарскую веру. Дом Аламана де Роэ в Тулузе (семья Роэ дала приют графу Тулузскому, когда епископ выселил его из дворца) стал настоящим «домом еретиков», где принимали странствующих совершенных и устраивали собрания. Замок Кабарет был резиденцией диакона Арно Хота. Хотя в 1229 году его оккупировали французы, через два года он уже снова стал местом собраний окрестных еретиков. Совершенные и диаконы катаров пересекали страну из края в край, не особенно заботясь о том, чтобы прятаться, совершали обряд consolamentum, проповедовали, словом, отправляли свою службу, как обычно. Совершенный Вигоро де Бакониа бывал почти во всех землях Тулузы и долины Арьежа, и ему не приходилось прятаться, поскольку, едва узнав о его появлении, верующие из соседних городов сбегались, чтобы послушать его проповеди и наставления.
Декреты Тулузского Собора ни в коей мере не охладили религиозного пыла катаров. Напротив, раздражение от французского военного присутствия, от того, что надо отдавать Церкви военные трофеи, от необходимости платить церковную десятину и сдать крестоносцам Монфора (или их отпрыскам) отнятые у законных владельцев замки – это вполне оправданное раздражение росло. Грабительское Парижское соглашение, навязанное стране в одностороннем порядке и выгодное одной лишь Церкви, не могло восприниматься как окончательное.
Разоренная и униженная знать, провоевавшая двадцать лет, только и думала, что о заговоре, и выжидала случая взять реванш. Страна сложила оружие только потому, что не хватало денег продолжать войну. Досадуя на принятые обязательства, граф прикидывал, как бы помешать прогрессу, которого явно смогут добиться Церковь и французы, окрыленные легкостью, с какой им удалось заключить мир. Покорившиеся сеньоры по-хозяйски распоряжались своими землями и вовсе не желали отказываться от прав на них, тем более, что присяга в верности Церкви в принципе ограждала их от подозрений. Представители местных властей открыто выступали против розыска и арестов еретиков и не назначали строгой кары тем, кто поднимал оружие против королевских чиновников.
Так, сенешаль Андре Шове (Кальвет) был убит в ходе облавы на еретиков в Ла-Бессед[152], которую сам организовал. Убийство осталось безнаказанным, и в этом покушении обвинили окрестных вельмож (владетелей Ниора) и самого графа Тулузского. Те же владетели Ниора, находясь в подчинении у архиепископа Нарбоннского, в 1233 году с оружием вторглись на территорию архиепископства, взяли в плен нескольких служителей, угнали скотину, а потом, проникнув в резиденцию архиепископа, ранили его самого, побили священников, похитили паллиум (знак архиепископской юрисдикции) и множество ценных предметов, после чего устроили пожар. Архиепископ (Пьер Амьель) послал папе жалобу, в которой объявлял означенных сеньоров еретиками и мятежниками. Протестовать-то перед папой он мог, зато навести порядок в собственном диоцезе ему не удавалось, несмотря на присутствие в стране французских властей.
В Тулузе антицерковная реакция населения была тем более острой, что ее почти открыто поддерживал граф. После того, как доминиканец Ролан Кремонский проповедовал с кафедры нового Университета против еретиков и обвинил тулузцев в ереси, консулы громко запротестовали и потребовали от приора доминиканского монастыря, чтобы тот заставил замолчать ретивого проповедника. Брат Ролан продолжал клеймить жителей Тулузы и спровоцировал скандал, приказав эксгумировать трупы двух недавно скончавшихся людей: доната капитула Сен-Сернен А. Пейре и Гальвануса, священника-вальденса, похороненного на кладбище Вильнев. Оба они, хотя и были еретиками, пользовались огромным уважением в католических кругах. Подобные акции, предпринятые «для вящей славы господа нашего Иисуса Христа, благословенного Доминика и в честь матери нашей римской Церкви» (Г. Пелиссон), отвратили от себя общественное мнение и вынудили консулов еще раз выразить протест приору доминиканцев и потребовать отозвать брата Ролана. Тот же Пелиссон сетует на граждан Тулузы за многочисленные облавы на тех, кто занимался розыском еретиков. Процедура розыска стала столь опасной, что само ее продолжение требовало от духовенства немалого мужества, не говоря уже о препровождении подозреваемых в церковные тюрьмы, чтобы допросить их и предать суду.
Трудность заключалась не в том, чтобы обнаружить еретиков, а в том, чтобы их поймать. Трибуналы зачастую ограничивались заочными приговорами или арестами тех, кого невозможно было обвинить в чем-либо серьезном. Так произошло с Пейронеллой из Монтобана, девочкой двенадцати лет, воспитанной в катарской обители и обращенной епископом Фульком. Зачастую горожане атаковали противников их же оружием. Некий П. Пейтави в пылу ссоры обозвал пряжечника Бернара де Соларо «еретиком» (причем не без оснований), а тот подал жалобу за диффамацию. Консулы вызвали Пейтави на совет и приговорили к нескольким годам ссылки, возмещению морального ущерба пряжечнику и к штрафу. Пейтави пострадал не за то, что заподозрил пряжечника в ереси, а за то, что слишком явно выразил свои католические чувства. Он в свою очередь пожаловался тулузским доминиканцам, подал апелляцию епископу и при поддержке доминиканцев Пьера Сейла и Гильома Арно с шумом выиграл процесс в церковном трибунале, а его недруг вынужден был бежать в Ломбардию. По этому поводу Пелиссон писал: «Да будут благословенны Господь и святой Доминик, которые умеют вступиться за своих!»[153]. Уже само по себе значение, которое Церковь придала столь пустяковому эпизоду (кстати, двое доминиканцев, помогших Пейтави, станут потом инквизиторами в Тулузе), говорит о том, насколько тяжела и бесплодна была в тот период времени борьба церковной верхушки с консульской властью. Церковники воздали хвалу Господу, потому что им удалось отменить приговор в пользу заподозренного в ереси, но убедить в своей правоте консулов им так и не удалось; они убедили только собственного епископа.
Этим епископом был Раймон дю Фога (де Фальгар), из семьи Мирамон, уроженец окрестностей Тулузы, принявший пост после смерти Фулька. Фанатичный доминиканец, он, по словам Гильома Пюилоранского, «начал с того, чем закончил его предшественник, преследуя еретиков, защищая права Церкви и то силой, то лаской понуждая графа к добрым делам»[154]. Епископ, видно, и в самом деле обладал недюжинной энергией, ибо ему удалось увлечь графа во главе вооруженного отряда на ночную вылазку, в ходе которой в лесу близ Кастельнодари было застигнуто врасплох собрание еретиков. Арестовали сразу девятнадцать человек, и среди них файдита Пагана (или Пайана) де ла Бессед, рыцаря, известного своей храбростью, одного из лидеров катарской знати. Пагана и его восемнадцать товарищей тут же приговорили к смерти и сожгли по приказу графа. Спрашивается, какими соображениями руководствовался епископ, вынуждая графа на несвойственную его характеру жестокость, которая к тому же являлась предательством по отношению к вассалу: рыцари-файдиты всегда были самыми преданными сторонниками Раймона. Во всяком случае, предоставив Раймону дю Фога неоспоримое доказательство своей доброй воли, граф мог рассчитывать, что его на какое-то время оставят в покое, и не стал предпринимать ничего против откровенных выпадов знати и консулов в адрес церковных властей.
Волнения в стране были так велики, что папа, убоявшись переворота, повел в отношении графа Тулузского достаточно мягкую политику: в 1230 году он рекомендовал новому легату Пьеру де Кольмье не обращаться с графом сурово, «дабы поощрить его усердие по отношению к Господу и Церкви». Он предоставил графу отсрочку в уплате десяти тысяч марок, назначенных Меоским договором в возмещение убытков Церкви, разрешил ему для уплаты этих десяти тысяч затребовать пособие у церковнослужителей и, наконец, 18 сентября 1230 года принял к рассмотрению посмертно дело Раймона VI, которого сын уже отчаялся похоронить, согласно его последней воле, на христианской земле. Этот шантаж на сыновних чувствах Раймона VII продолжался довольно долго, и в результате останкам старого графа было навсегда отказано в христианском погребении. Папа, однако, не переставал, по крайней мере для виду, щадить графа, поскольку, «дабы взрастить его благочестие, необходимо было бережно поливать его, как молодое деревце, и вскармливать молоком Церкви»[155]. Такое милостивое отношение, далеко не полностью оправданное графом, возможно, и не было продиктовано желанием папы укротить амбиции пятнадцатилетнего французского короля, с которым матушка, досадуя на его энергию, справлялась уже с трудом. В контактах с графом папа изыскивал возможности влиять на чересчур взбудораженное общественное мнение и поддержать Церковь в стране, которая становилась к ней все более и более враждебной.
Вы ознакомились с фрагментом книги.



