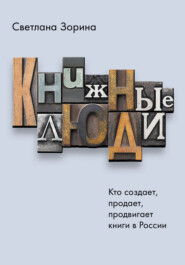скачать книгу бесплатно
Сегодня Евгения Владимировна возглавляет один из крупнейших департаментов «АСТ» – департамент прикладной литературы, состоящий из 15 подразделений, 12 из которых – редакции. Профессия журналиста ей очень помогает в работе. Ведь редактор в департаменте прикладной литературы – это обладатель особого таланта, который еще и демонстрирует высший пилотаж журналистики. Он должен уметь находить тренды и превращать их в печатное слово.
Журавлева – яркая и увлекающая личность, книжник по духу. Друзья и коллеги называют ее «зажигалкой», и это очень меткое определение – Евгения буквально заряжает своей энергией, любовью к профессии. И неудивительно, что наша многочасовая беседа превратилась для меня в захватывающий многосерийный фильм, рассказывающий о первых шагах в профессии, становлении издательского дела в России, старом и новом «АСТ», о профессии редактора, «кухне» издательских проектов и трендах книжного рынка.
Для Евгении Владимировны очень важны люди ее окружающие – ведь именно они делают книги, и через них издательство обращается к сердцам читателей. Удивительно, с какой любовью и вниманием она относится к своим сотрудникам и бережно растит молодые кадры, которые уже завтра будут определять лицо российского книгоиздания.
«Партия игры в ромашку…», или первые шаги в профессии
Евгения, вы окончили факультет журналистики Ленинградского государственного университета. С чего начинался ваш путь в профессию?
В 1988 году я окончила университет, тогда еще существовала система распределений, и я, как обладатель красного диплома, могла выбрать любую путевку. Но, поскольку мой супруг-однокурсник был из Якутии, выбор остановился на этом регионе. Его отец Виктор Иванович Журавлев, известный в то время журналист, возглавлял в Агентстве печати «Новости» (АПН) отделение по Сибири и Дальнему Востоку. Жили в Якутске, в служебной квартире, в кабинете свекра стоял телетайп. Разница с Москвой – шесть часов. Виктор Иванович работал по ночам, передавал новости и статьи. Это был мой первый учитель.
17 лет – студентка 1-го курса ЛГУ
Я работала на Крайнем Севере чуть больше трех лет: радио, телевидение, комсомольская газета «Молодежь Якутии». Объездила весь Север, от Тикси до Нерюнгри и БАМа. Когда началась перестройка и открылся доступ в бывшие колымские лагеря (Верхневилюйск, Среднеколымск, Верхнеколымск) поездила по этим страшным местам, общалась с людьми, которые полжизни провели за колючей проволокой. Они все еще не верили, что наступило другое время, и боялись говорить. Я занималась также подростками, и даже оказалась однажды «подсадной уткой» в детском республиканском распределителе для несовершеннолетних. За мою, наделавшую много шума, статью «Партия игры в ромашку, или Взрослым вход воспрещен!» про неблагополучных детей из Нерюнгри меня чуть не выслали из республики. В этот шахтерский город приезжали люди «за длинным северным рублем». Взрослые с утра до ночи работали на шахтах, а дети, предоставленные сами себе, жили в своем социуме: антисанитария подвалов, детское пьянство, подростковая беременность… А когда вышел мой второй разгромный материал про расходование бюджетных средств, предназначенных для строительства якутского кукольного театра, началась серьезная травля. Меня спасло заступничество очень авторитетного тогда человека, дирижера симфонического оркестра Гостелерадио Якутской АССР Галины Михайловны Кривошапко. На всю жизнь запомнила ее напутствие: «Ты смотри, можешь испортить себе всю жизнь. Если бы это было 3–4 года назад, я бы тебя не спасла: перекрыли бы весь кислород, и в профессию ты бы уже не вернулась!».
Книжная выставка. Сын работал вместе с мамой
Вернулась в Ленинград. Сын должен был идти в первый класс. Проработала какое-то время в англоязычной газете «NevaNews», а потом попала в «Труд». Зарождались рекламные агентства, и мы с мужем открыли первое такое агентство на базе «Труда», перешли на коммерческую основу.
С 1994 года вы в книжной отрасли. Вы, журналистка по крови и мышлению, как попали в издательство?
Вы правы, журналистика – это мой базис, мое всё. Но в начале 90-х годов у меня изменились семейные обстоятельства, пришлось искать более оплачиваемую работу, поскольку в журналистике платили мало, доходы были непостоянные. Пошла в коммерческое агентство и заполнила там какую-то безумную анкету из 400 вопросов! Оттуда меня отправили на собеседование в издательство «Питер», небольшое, мало кому тогда известное. И меня приняли… начальником отдела маркетинга. Я тогда даже слова такого – «маркетинг» – не знала! Это был 1994 год. Работы оказалось много, открывались большие возможности для творчества. В 1995–96 годы мы выпускали компьютерную литературу: успешные самоучители и учебные пособия. А в 1996 году издательство создало три журнала: два лицензионных «Мир INTERNET» и «Byte/Россия», а третий, по моей инициативе и моему бизнес-плану, – отечественный журнал «Женский клуб».
Моя мечта вернуться в журналистику осуществилась, и я стала директором, главным редактором и соучредителем собственного «глянца». Но в 1998 году случился дефолт, журнал пришлось закрыть. Я вернулась «в книги», стала выстраивать московскую редакцию «Питера». Вскоре мы уже делали порядка 20–25 книг в месяц. Так продолжалось до 2005 года, пока меня не «перекупило» московское издательство
«ОЛМА» и «АСТ» тогда находились в одном здании на Звездном бульваре. И вы плавно перешли из одной компании в другую?
«ОЛМА» была ранней компанией. Они в восемь-девять утра спокойно могли назначить совещание директоров, а в шесть вечера уже никого было не найти. «АСТ» же, наоборот, ночная компания, самая интересная жизнь начиналась ближе к шести вечера. И после своей работы в «ОЛМЕ» я нередко засиживалась допоздна в «АСТ». Я уже многих знала, дружила с Александром Михайловичем Радовицким. Его кабинет находился в самой тусовке на седьмом этаже. Здесь проходила вторая серия моего дня. И как-то он говорит: «Чего ты все ходишь? Переходи уже к нам работать!» Так я попала в 2006 году в «АСТ».
«АСТ» при Хелемском: время дерзких вызовов
Яков Михайлович Хелемский сам вас пригласил?
Да, он даже провел собрание в первый мой официальный рабочий день, позвал Юрия Дейкало, Владимира Ломакина, Александра Иванова. Мне было лестно. Я тогда уже твердо знала слово «маркетинг» и шла рулить маркетингом «АСТ».
«АСТ» нынешнее и «АСТ» начала XXI века сильно отличаются. По сути, тогда это была издательская империя со всеми свойственными ей противоречиями и сложностями. Каким вам запомнилось издательство в эпоху Хелемского?
В огромном «АСТ» тогда было три крупных редакционных блока. Издательство на Звездном бульваре во главе с Николаем Науменко плюс более двух десятков редакций, объединенных в издательство «Астрель» на проезде Ольминского, под руководством Юрия Дейкало, и еще так называемый ОМП (отдел межиздательских проектов, которым «рулили» Александр Иванов и Светлана Романова), через который с «АСТ» сотрудничало около полусотни редакционно-издательских площадок со статусом самостоятельных издательств: московские «Аквариум», «Зебра», «Олимп», «НТПресс», «Восток – Запад» («Муравей»), питерские «Сова» и «Полигон», ярославская «Академия развития», минский «Харвест», ростовский «Книжкин дом»… И это далеко не полный перечень! Причем количество аутсорсинговых площадок постоянно росло. Уже при мне в контуре «АСТ» появились питерские «Прайм» и «Астрель-СПб», екатеринбургские «У-Фактория» и «Ульта-культура», саратовский «М-Пресс», челябинский «Аркаим», огромная «Аванта», «Рид групп», а в начале 2012 года – «Кладезь».
Яков Михайлович Хелемский – великий книжник, руководитель «АСТ» с 1990 по 2012 год, очень уважал талантливых и самобытных людей. Если человек хотел развиваться и глаза его горели, он всегда поощрял: «Делайте, творите, придумывайте!» Особенная лояльность в этом плане проявлялась к редакторам. И поэтому у нас было много параллельных историй и редакций, выпускающих книги по схожим темам.
В то время активно развивалась торговая сеть «Буква», открывались новые магазины. И Якову Михайловичу хотелось выстроить самый широкий ассортимент и максимально удовлетворить читательские предпочтения. У нас выходили книги по всем жанрам и направлениям, с учетом всех ценовых ниш. Когда в 2012 году «АСТ» переходило под управление «ЭКСМО», наш оборот составлял 6,5 млрд рублей. Издательство на Звездном, «Астрель» и ОМП давали примерно одинаковый объем по выручке – плюс-минус 2 млрд рублей каждое.
Мое подразделение старалось работать рука об руку со всеми редакциями и всем издательским портфелем. Погружались во все процессы с головой: придумывали проекты и серии, приглашали новых авторов, «смотрели в бинокль» на рынок и конкурентов. Фильтровали идеи редакций. Не побоюсь сказать, что это было время дерзких вызовов, перемен, жажды развития. Чуть раньше меня в «АСТ» пришли яркие люди: Сергей Курунян, Борис Горелик, Светлана Полякова. Чуть позже, уже при мне, – Мария Сергеева, Александр Альперович, Елена Шубина, Варвара Горностаева, Евгения Ларина… Империя «АСТ» прирастала в первую очередь лучшими кадрами книжной отрасли.
Как выстраивалось управление этой империей, кто за что отвечал?
Перед Яковом Михайловичем все за всё отвечали! В то время компания «АСТ» была как одна большая семья, а Хелемский – душа этой семьи, буквально отец родной. И он скрупулезно вникал лично во все процессы и нюансы, начиная от расценок корректоров и заканчивая арендой складов. Я не знаю, как вмещала это все одна голова! Это был какой-то мегакомпьютер.
Представьте себе: по коридору едет тележка как в супермаркете, а в ней – книжки. Как в роддоме на тележке везут маленьких новорожденных деток. Везет эту тележку Леонид Каганов, коммерческий директор «АСТ». Подмышкой у него – большая гроссбуховская книга, такая толстенная рукописная тетрадь. И он едет с этой тележкой по коридору седьмого этажа, потому что Яков Михайлович в определенное время идет из своего кабинета в помещение Александра Иванова обедать. Он мог пригласить на обед кого-нибудь, с кем, например, только что вел переговоры. И в это обеденное время к Якову Михайловичу можно было попасть с разными вопросами. Но главный, кто к нему приезжал: это Леня с «новорожденными детьми».
В этой тележке было несколько десятков книг разных форматов и жанров. И Яков Михайлович каждого «новорожденного» брал в руки, как ребенка, смотрел и пролистывал. В этот момент ему могла прийти в голову любая идея, касающаяся чего угодно. Он мог в ту же секунду сказать: «А вызвать ко мне…». Он сам назначал цены на каждую книгу, познакомившись со своим «новорожденным ребеночком». Конечно, существовала система подсказок. Леня Каганов в своем большом гроссбухе имел подсказки почти по всем позициям. Но Яков Михайлович знал весь ассортимент как воздух, как свое дыхание. Это потрясающе! И он единолично принимал решение и назначал все цены.
Вы проработали с Хелемским шесть лет, и это была серьезная издательская школа. Какой опыт приобрели за эти годы?
Да, с Хелемским я проработала с 2006 по 2012 год, и очень многому у него научилась. Я тогда даже не думала, что, работая с ним бок о бок, я каждый день постигала новый кейс, новый метод. Все эти годы я находилась в непрерывной академии обучения. А чего стоили беседы Якова Михайловича с авторами! Это даже нельзя назвать мастер-классом, это какого-то высшего пилотажа сценарии. Как он умел построить беседу! Ведь не все авторы были одинаково полезны, не все одинаково хорошо продавались. Но как-то он мог влюбить в себя каждого! Это как к лекарю – сходил к Якову Михайловичу, и всё – навеки в «АСТ».
Видеть мелочи, видеть людей, уметь расставлять приоритеты – весь этот бесценный опыт я приобрела за шесть лет. Тогда я начала осознавать, что книга – это немножко чудо! И, слава богу, что нет формулы бестселлера. Ведь если бы она была, то в мире осталось бы одно-единственное издательство, владеющее этой формулой… Вот иногда кажется, что все составляющие бестселлера сложил…
А пазл не складывается?
Да, как в том магнитофоне: включаешь кнопку, а он не работает. И чуда не произошло. Выпустил очередной проект, и ничего более. А иногда бывает: и так не складывается, и тут надо всех соединить, и здесь много противоречий. И вдруг – раз! И книга пошла, и у нее появился большой читательский круг. Потому что чуть-чуть чудо, есть какая-то магия… И еще я тогда поняла, что в издательском бизнесе очень важен человеческий фактор. И в «АСТ» очень важны человеческие качества. У нас много талантливых редакторов.
Почему, собственно, импринты «АСТ» оказались так успешны? Потому что все идет от личности…
Да, все идет от человека. Одна личность обогащает другую. Например, Елена Шубина открывает и выводит на рынок современных российских авторов, она немножечко соавтор в каких-то проектах. Или Ольга Муравьева – скольких редакторов она воспитала, буквально создала целую плеяду главредов для отрасли! «АСТ» – это прежде всего команда ярких личностей, которые обогащают друг друга и обогащают свое дело. И с этой точки зрения я учу молодых сотрудников, говорю им: «Знаете, издательский бизнес – это чудо. Есть такая сентенция международная, что издательский бизнес трудно передается по наследству. Почему? Потому что в этом бизнесе важно слово и важны люди, которые пишут и делают книги, и обращаются к сердцам своих читателей. Все остальное – технологии». Можно создать потрясающую с точки зрения бизнеса структуру, и мы знаем много таких примеров. Но если убрать человеческое – это все равно что вытащить сердце…
Механизм может развалиться?
Да, именно развалиться, потому что это – организм. Потому что в издательском бизнесе очень много органики. Хорошо, что это осталось в «АСТ», и Олег Евгеньевич Новиков стал строить новое здание на основе наших импринтов. Таким образом мы сохранили все наши редакционные единички, а их было несколько десятков.
«АСТ» после объединения с «ЭКСМО»
С июня 2012 года «АСТ» перешло под управление «ЭКСМО». Что изменилось в издательской политике, в бизнес-процессах?
После 2012 года нам пришлось много в чем перестраиваться. Вместо безумного количества разрозненных редакций появились тематические дивизионы – сегодня это департаменты художественной, детской и прикладной литературы. Мы заново отстраивали многие бизнес-процессы. Учили новые слова, которых раньше и близко не было в лексиконе «АСТ»: 1С, бюджет, ROI, брендинг, фасилитация, KPI, управление персоналом и управление продуктом, GR и стратегические коммуникации, SKU, вовлеченность… Но!.. За этими словами стояло новое видение действительности, погружение в новые процессы и практически постоянное обучение, благо компания предоставляла и предоставляет для обучения все возможности. Знаете, мы оказались очень способными! И, что очень важно – меняясь и трансформируясь, мы превращались в мощное современное предприятие, не потеряв при этом главного – людей. Тот человеческий потенциал – и в лице сотрудников, редакторов, и в лице авторов и партнеров, – который был и сегодня остается сердцем и «самостью» «АСТ», богатством нашего издательства. Дух «АСТ» остался прежним. Только теперь он называется корпоративной культурой.
И каков портрет «АСТ» сегодня?
Сегодня «АСТ» – это часть мощного современного холдинга Издательской группы «ЭКСМО – АСТ», которая, являясь лидером рынка, демонстрирует не только самые актуальные и передовые инструменты и принципы книгоиздания, но, не побоюсь сказать, создает платформу для развития нашего рынка. Ведь что такое книги, что есть чтение вообще? Бесспорно, это часть культуры, составляющая часть мировоззрения человека, его развития, формирующая идеологические характеристики и вносящая свою лепту в национальное, духовное наследие. Вот так – ни много, ни мало! У нас это осознают все, не только топ-менеджеры компании, но и редакторы, маркетологи, пиарщики, и, естественно – авторы.
Но разве «АСТ» и «ЭКСМО» не являются конкурентами, хотя и входят в один холдинг?..
Являются, конечно! Но здесь нет ничего плохого, тем более что мы стараемся придерживаться неких правил взаимодействия… Как говорили великие, если бы конкуренции не было, ее надо было бы придумать! Она не дает спокойно спать, заставляет быть в тонусе и постоянно искать ответ на вопрос: как стать лучше конкурента в глазах потребителя? В конечном итоге выигрывают все – и мы, и читатель. Двигатель прогресса – недаром же так сказано про конкуренцию! И здесь я соглашусь со своим коллегой Сергеем Рубисом, директором Департамента художественной литературы «АСТ», который сказал, что в «АСТ» и «ЭКСМО» реализованы различные модели издательского бизнеса. Но при этом обе достаточно успешны. Я бы к этому добавила: если на рынке есть две крупные и эффективные модели, это означает, что единственного лекала успеха и развития в отрасли не существует. И, следовательно, таких моделей может быть две, а может быть три, четыре и т. д.
По каким принципам формируется и утверждается редакционный портфель?
У нас в «АСТ» есть такой орган – «Центр издательских компетенций» (ЦИК). Все наши издательские инициативы и идеи формируются внутри редакций, как правило, их создают редакторы тех или иных направлений и тематик на основе принятых бренд-буков, аналитики рынка, маркетинговых гипотез… Но все эти инициативы – как оперативные, так и перспективные, – поднимаются на уровень ЦИК, так как именно здесь формируется окончательное решение по тиражной и ценовой политике, по тематическим предпочтениям. Задача инициаторов – грамотно и досконально составить аргументацию для своих проектов, доказать их коммерческую обоснованность, на основе аналитики показать маркетинговую привлекательность или, если проект уникален, привести аргументы для защиты эксперимента. Конечно, если проект – стартап темы или автора, ЦИК утвердит нам невысокий, стартаповский, или, иными словами, пробный тираж… Нередко бывает, что именно такие проекты потом выстреливают.
Повторюсь, книга – это немного чудо, и слава богу, что нет формулы бестселлера… Например, вопреки всем правилам, книга Евгения Понасенкова была издана одним томом объемом в 70 (!) авторских листов. А книга Натальи Зубаревой имеет по настоянию автора трешовую обложку – в такой категорически нельзя издавать медицинскую литературу… Однако обе эти книги стали мегабестселлерами.
Евгения, вы возглавляете направление прикладной литературы в «АСТ». Как выглядят ваши редакционные подразделения, какие направления они в себя включают?
В нашем департаменте шесть редакционных подразделений, из них пять импринтов: «Времена», «Лингва», «Кладезь», «ОГИЗ», «Прайм» и «Межиздат». Пять имеют брендбуки, а «Межиздат» – наследник того самого ОМП, он работает с разного рода литературой. А с 2020 года у нас уже 12 редакций: редакция «Времена» разделилась на четыре площадки, «Прайм» – на три, «Лингва» на две.
А как вы изучаете своего читателя?
У нас прописаны брендбуки, спозиционированные на того читателя, которого мы хотим видеть. Например, ОГИЗ специализируется на красивых книгах для семейной познавательной и имиджевой библиотеки. Эта редакция очень хорошо работает с цветными изданиями, а значит, и с мелованной бумагой. Выпускают справочники по любым тематикам – это могут быть и вино, и собаки, и архитектура, и история, и монеты, и оружие, и война, путеводители и атласы, и так далее. Лучшие картографы страны работают в нашей редакции ОГИЗ. Все наши карты – самые актуальные, мы сотрудничаем с Росреестром. Редакция является эксклюзивным партнером National Geographic и Книги рекордов Гиннесса.
Редакция «Лингва» специализируется на языковой литературе. Помимо основной языковой пятерки – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский – мы выпускаем книги по русскому языку, а также по редким языкам и языкам, которые сейчас популярны – это корейский, китайский, японский. Заработав авторитет у взрослого читателя, редакция «Лингва» выпускает теперь линейки и для малышей.
Какой профиль у редакций «Кладезь», «Прайм» и «Времена»?
«Кладезь» – это все, что связано с хобби, бытом и досугом: книги по рукоделию, вязанию, шитью, дому, саду, огороду, кулинарии. Музыка, спорт, рыбалка, охота, научно-популярная медицина, кодексы – тоже зона интереса данной редакции.
Психология, эзотерика и народная медицина – это платформа бренда «Прайм». В 2018 году эта редакция показала рекордный рост.
«Времена» – абсолютно журналистская редакция, когда-то создавалась как «редакция быстрого реагирования». Она, кстати, одной из первых забрендировалась и защитила брендбук, и его принимал лично Олег Евгеньевич.
Почему «Времена»? Потому что в ногу со временем. Прототип редакции – всем известная программа «Время», которая ищет самое интересное о том, что происходит здесь и сейчас. В этой редакции выходит много книг известных медиаперсон, самое большое количество трендовых тем, и она занимает треть в обороте всего департамента, который завершил 2020 год с объемом продаж в 1,78 млрд рублей.
Профессия редактора изменилась за последнее время. Какие сейчас, на ваш взгляд, должны быть ключевые компетенции в этой профессии?
Современный редактор – это, прежде всего, product-manager, он должен уметь анализировать, искать, иметь высокие коммуникационные навыки, обладать знаниями проектного управления и уметь превращать свою идею в востребованный читателем продукт. Не побоюсь сказать, что редактор в департаменте прикладной литературы – это обладатель особого таланта, так как он демонстрирует высший пилотаж журналистики: умение чувствовать и находить тренды и превращать тренд в печатное слово. Здесь важно не только поймать тему, но и найти автора, который сможет раскрыть ее, увлекательно подать, сможет зажечь аудиторию. Без погружения в материал, без «пропитывания» через себя, без умения оценить не только качество информации, но и литературные флюиды текста не получится хорошей, уникальной книги.
То есть очень важен союз автора и редактора?
Да-да, не скажу, что они становятся соавторами (хотя нередко редактор помогает создавать литературную часть), но точно становятся союзниками. И этого, конечно, не получится, если у редактора не будут гореть глаза. Он должен любить то, чем занимается, должен самореализовываться через этот драйв. Кстати, понимание именно таких качеств позволяет привлекать в департамент много молодежи. А молодежь привлечь можно только драйвом. Вот что бы вы мне ни говорили, молодежь, если ей не драйвово, если ей по фигу, никакими пряниками не удержишь, ни деньгами, ни даже перспективой карьерного роста, хотя, это, конечно, тоже важно…. Это вообще другое поколение, со своей, отличной от нашей, базой ценностей…
В окружении редакционной молодежи
В вашем департаменте как раз много молодежи!
Да, это так! Некоторые мои импринты имеют средний редакторский возраст около 25 лет. Многие редакторы пришли сюда прямо со студенческой скамьи (журфаки всех мастей, паблик-рилейшнз, филфаки, педагогика, история), немало и таких, кто учился, то есть постоянно сдавал сессию, и параллельно работал. Причем, что интересно, – немало мальчиков.
Я люблю свою молодежь. Я, в свою очередь, многому учусь у нее, за что невероятно ей благодарна. И я испытываю истинное удовольствие, – вот правда, – когда на моих глазах из зеленого и робкого юнца вырастает смелый, яркий, компетентный профессионал, умеющий отстаивать свои позиции и доказывать своими успешными проектами, что он издатель. Компания во многом помогает этому. У нас постоянно реализовываются различные программы обучения, есть проекты «Управление талантами» и «Кадровый резерв». Так что разговоры о том, что отрасль «стареет» и «некому прийти на смену», я совершенно не поддерживаю!
Функционал по маркетингу и продвижению теперь находится внутри редакции, а не отдельно, как раньше. Какой это дает результат?
Сегодня в этом подразделении в департаменте работает порядка двух десятков специалистов и имеется четыре группы: бренд-менеджеры, копирайтеры, интернет-продвижение и PR. Все они находятся в плотной связке с редакторами, и это дает потрясающий результат! Любой книжный проект зарождается в совместной коммуникации, акцентируются его сильные стороны с точки зрения эффективных методик продвижения. Для прикладной литературы еще очень важна дифференциация аудиторий, ведь наши книги делятся не по жанрам, а в первую очередь по тематикам, более узко. Нужна категоризация проектов и читательских ниш, и, только находясь внутри редакций, специалисты по продвижению могут делать это наиболее эффективно.
Как вы оцениваете тренды книжного рынка? Что дальше? Как будет развиваться книжный рынок, по каким направлениям, и, в частности, рынок прикладной литературы?
Прикладная литература и нон-фикшн сейчас являются драйверами рынка. И вот что интересное нам показал последний год. Во-первых, у людей появилась потребность в качественном знании и информации, и то, что раньше работало против нас, стало работать на нас. Книга вернула себе статус максимального доверия. Интернет, наоборот, как источник знаний потерял доверие, но остался мощной платформой формирования аудиторий.
Во-вторых, в рейтингах появились темы, в отношении которых раньше никто даже помыслить не мог, что они в принципе продаваемы. Это значит, что мы очень близко подошли к вопросу технологий формирования спроса. Не удовлетворения, не навязывания, а именно формирования. Пока это опять же умело делает Интернет. Но если в отношении знаний это в принципе возможно – формировать, значит, остается один шаг до создания инструментов в книгоиздании. Вернее, в создании контента вообще.
В-третьих, наш читатель стал моложе. Мы это видим по изучению аудитории, по коммуникациям, которые строим с читателями, по эффективности цифровых методов продвижения контента на рынок. Читать стало модно! Это факт. Отрадно, когда люди и в прямом, и в переносном смысле открывают книгу. Если вы когда-нибудь общались с покупателями на Красной площади во время нашего июньского книжного фестиваля, вы наверняка заметили, что абсолютное их большинство с удивлением признают, что книга еще жива, и что, оказывается, существуют книжные магазины… Признают, удивляются и… покупают!
В-четвертых, то же самое показывает и аудитория наших супертиражных мегапроектов авторов из Интернета. И мы понимаем, что, придя по ссылке из Инстаграма в интернет-магазин за книгой своего интернет-кумира, его аудитория также знакомится и с другими книгами. И покупает их. Таким образом расширяется книжный рынок в принципе.
В-пятых, эту же тенденцию в прошедшем году у нас в Департаменте показывает целый ряд проектов из бэклиста, причем некоторые из них даже не имели ни инфоповода, ни новинки, а еще есть такие, которые имеют положительную динамику роста уже в течение трех последних лет. Например, почти в полтора раза вырос объем продаж проекта Людмилы Петрановской, и ровно настолько же он вырос в позапрошлом году. На треть увеличились продажи книг Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Конечно, книгам Хокинга придало ускорение печальное событие. Однако, по моему опыту, динамика роста объемов должна была иметь пик, а потом сойти на нет. Но этого не произошло! Что это значит? Смотрите пункт выше! Люди открывают для себя книгу заново…
Ну и наконец, признание развития цифровых технологий в коммуникациях с читателями, масштабирование таких коммуникаций, рост объемов продаж электронных и аудиокниг – все это говорит о том, что уже не цифра управляет нами, а мы – ею в целях роста и расширения нашего рынка. И неслучайно рост цифровых коммуникаций с читателями поставлен во главу угла в рамках нашей издательской стратегии.
Это говорит о том, что книжный рынок сегодня – достаточно благополучная история, которая…
… которая имеет счастливое продолжение. И это не сказка! Что касается меня, я действительно так считаю. И с немалым оптимизмом смотрю вперед!
Николай Науменко
Волшебные ключи Николая Науменко
Когда-то чтение было для него хобби. Потом оно стало не просто профессией, а всей жизнью. Увлеченный читатель с первоклассным техническим образованием Московского физико-технического института превратился в успешного издателя. Учеба на факультете общей и прикладной физики МФТИ сформировала мозги, научила решать сложные задачи.
С 1991 года Николай Науменко в «АСТ». В 1993 году произошло первое корпоративное деление издательства: ушел один из учредителей – Сергей Деревянко, а вместе с ним – бо`льшая часть редакции. Николаю Андреевичу пришлось заниматься всеми направлениями книжного выпуска, его стали называть «главный редактор». С 2012 года, с момента реструктуризации «АСТ», Науменко возглавляет редакцию «Неоклассика». В его издательском портфеле – современная и классическая зарубежная литература, немного отечественной.
Издательский опыт, помноженный на глубокие знания и интуицию, позволил Николаю Науменко стать первооткрывателем для российского книгоиздания таких звездных имен, как Дэн Браун, Джордж Мартин, Стивен Кинг, Джон Грин, Стефани Майер, Сьюзен Коллинз. Николай Андреевич стал одним из трех мировых редакторов, открывших Дэна Брауна: он купил права на «Ангелов и демонов» еще до мировой славы этого писателя. Такая же история произошла и с «Марсианином» Энди Вейра: права были куплены до выхода книги в Америке. Но, пожалуй, больше всего Науменко гордится изданием нехудожественных произведений Станислава Лема.
Как выбирать рукописи для издания, как угадать, станет ли книга прорывом и попытаться уловить внутренний запрос читательской аудитории? Как передать аромат времени через перевод? Всегда ли срабатывает волшебная сила экранизации? Какие чары таит в себе кинообложка? Оформление книги – тоже великая загадка! Иной раз кажется: сделали замечательно, а не идет! Конечно, единого рецепта нет, как нет и единой формулы бестселлера. Но от этого профессия издателя становится еще интереснее и требует виртуозности. Николай Науменко без сомнения обладает магическими формулами редактора, умеет подобрать нужный волшебный ключик к каждой задаче.
У истоков «АСТ», или О том, как физики становились лириками
Николай Андреевич, вы в «АСТ» с 1991 года, фактически с начала создания издательства. В те годы у истоков нового российского книгоиздания стояли физики (например, О. Е. Новиков, который окончил Московский авиационный институт, и Я.М. Хелемский, до основания «АСТ» работавший инженером в НИИ). Как так сложилось, что «физики» стали «лириками»?
Мне трудно говорить за других. Я окончил не самый плохой вуз в нашей стране – Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной физики. Что главное дает физтех? Умение решать любые задачи. Это одна сторона.
Вторая – я с детских лет был фанатичным читателем. Одна из первых любимых прочитанных книг – детская энциклопедия в двенадцати томах, переплет в ледерине цвета хаки. Великолепные книги! Может быть, это тоже повлияло, направило…
В октябре 1991 года мне позвонила Светлана, жена Андрея Герцева, тогдашнего директора «АСТ»[3 - В 1990 году Андрей Герцев, Сергей и Татьяна Деревянко создали ТКО (творческое кооперативное объединение) «АСТ». Аббревиатура «АСТ» сложилась из имен основателей фирмы. В работе кооператива также принял участие Яков Хелемский.], с которым мы были давними друзьями по физтеху: «Коля, мы тут издательство организовали и хотим фантастику издавать. (Света фантастику любила.) Ты вообще очень много знаешь всякого интересного и полезного, приехал бы, помог, сделал что-нибудь…» Где тогда был я и где издательство? Мне казалось, что это очень далеко от меня. Но я приехал, что-то начал советовать. Незаметно в это дело втянулся… В 2020 году исполнилось уже тридцать лет, как я работаю в «АСТ».
С 1993 года вы стали главным редактором «АСТ»?
Нет. В 1993 году произошло первое корпоративное деление: ушел один из учредителей – Сергей Деревянко, а вместе с ним – бо`льшая часть редакции; они создали «АСТ-Пресс». От нашей редакции осталось три человека, я в том числе. И началось все с начала, с воссоздания редакционной группы. Именно тогда меня стали называть главным редактором. По сути, все строилось с нуля, как муравейник: сделаем здесь, пристроим сюда… Какие-то функции потихонечку выкристаллизовывались: управленческие, организационные, идеологические. Компания росла, прибавлялись люди, появлялись другие редакции, редакционные группы, которые были вне поля моей деятельности, моего контроля. Я реально управлял только частью издательства, хотя и назывался по инерции главным редактором. Одним из основных направлений моей работы было издание фантастики.
А почему вы сейчас не занимаетесь фантастикой?
Занимаюсь, но в меньшей степени. Это связано с общим кризисом фантастики. По большому счету она закончилась в 80–90-е годы, превратившись в один из видов массовой литературы, точно такой же, как любовный роман…Это глобальный процесс, который связан с исчерпанием научно-технического прогресса, породившего фантастику в том виде, в котором она расцвела в 50–60-е годы. Фантастика осталась и сегодня, но формы, в которых она сейчас живет, иные. Скажем, очень моден среди молодых читателей жанр антиутопии или дистопии. Примером может служить успех книги «Голодные игры». Но читатели, как можно судить по отзывам, фантастикой ее не считают.
Может быть, причина здесь в другом? Научно-технический прогресс развивается с огромной скоростью, и за последние двадцать лет совершен колоссальный рывок вперед, которого не было за всю историю человечества. Мысль человеческая не успевает за этим?
Не так все просто. Тот прогресс, о котором вы говорите, закончился, наверное, в 70-е годы. Тогда мы двигались вертикально. Дальше пошло «расползание по равнине». Условно говоря, сделать компьютер в 1000 раз мощнее – это колоссальное достижение, но это нельзя назвать научным прогрессом. Это одна сторона. Вторая сторона. Для того чтобы писать художественную литературу, насыщенную этими идеями, нужно их осваивать на более глубоком уровне, а не на уровне научпопа. Например, отцы современной фантастики – Жюль Верн, Герберт Уэллс – были на уровне научной мысли своего времени, они воспринимали научные идеи из первых рук. Отцы-основатели золотого века фантастики – Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн – варились в той же научной среде и все идеи получали из первых рук. Сейчас найти строго научную фантастику безумно сложно. Большинство реальных научных идей плохо выражаются словами. Последнее, с моей точки зрения, действительно яркое, насыщенное идеями произведение в жанре именно научной фантастики – роман «Фиаско» Станислава Лема.
Но почему? Гигантский, колоссальный прорыв идет в астрофизике…
Согласен. Но с масштабами того, что происходит в астрофизике, человек просто несопоставим. Мы узнали природу квазаров, которые отстоят от нас на миллиарды световых лет. Но воспринять их непосредственно на человеческом опыте вряд ли представится возможным в обозримом будущем.
Фантастика – это все-таки литература о человеке. И столкнуть человека с чудесами астрофизики безумно сложно из-за несопоставимости масштабов.
Как вы с этой точки зрения оцениваете книги-исследования Стивена Хокинга?
Научпоп – прекрасно. Такие книги нужны и полезны. Его издаю не я, поэтому не могу судить о реальной популярности, но она есть. Сложно говорить о конкретном явлении на конкретном уровне. Книжный рынок у нас находится в детском состоянии. Он еще не вернулся к тому уровню, который был во времена Советского Союза.
Почему «в детском состоянии», что вы имеете в виду?
Та же научно-популярная литература. Это был огромный пласт книгоиздания. Ученые с мировым именем не считали зазорным написать книжку в библиотечку «Квант» о своей отрасли: математике, физике, химии и так далее. Издавалось много серий, научно-популярных журналов, тот же «Квант», например. Это была огромная индустрия. Сейчас, если человек садится писать научно-популярную книгу, он должен понимать, что это чистейший альтруизм. Заработать на этом безумно сложно. Необходимо разрабатывать специальную программу продвижения, продаж, распространения и так далее.
Есть ли авторы, произведения, мысли которых вам созвучны?