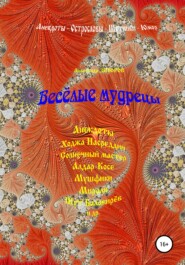 Полная версия
Полная версияВесёлые мудрецы
Кроме названных, можно упомянуть и более поздних прототипов, оказавших заметное влияние на развитие образа Ходжи Насреддина. Это знаменитейший на Востоке ал-Харири (1054-1122 гг.), который утвердил форму макам – цикл юмористических новелл, написанных рифмованной прозой, щедро пересыпанных остротами, прибаутками. Данная форма творчества послужила образцом для целых поколений писателей разных восточных стран.
Уроженец Бухары Садид ад-Дин Ауфи в 13-м веке составил книгу «Джавами ал-хикайат ва лавами ар-ривайат» («Собрание преданий и лучи повествований») из двух тысяч сюжетов. Материалы из неё многажды заимствовали более поздние авторы.
А веком спустя весёлую славу завоевали язвительные стихи, миниатюры и высказывания персидского поэта Убайда Закани (1270 – 1370 гг.). Он составил сатирический словарь-энциклопедию «Определение» и сборник весёлых историй-анекдотов «Радующая сердце книга», написал саркастический трактат «Этика аристократии» и пародийный трактат «Сто советов» (1349 г.).
В Турции существует цикл анекдотов, связанных с именем беззаботного гуляки, выпивохи и острослова Бекри Мустафы, жившего в XVII веке. В фольклоре его имя связано с султаном Мурадом IV.
Турецкий историк Микаил Байрам провёл усердные поиски реального прототипа Насреддина, и заявил, что таковым является Насир уд-дин Махмуд аль-Хойи, который родился в городе Хой иранской провинции Западный Азербайджан Образование он получил в Хорасане, был учеником знаменитого исламского деятеля Фахра ад-дина ар-Рази. Являлся приближённым багдадского калифа. Служил в качестве исламского судьи (кади) в Кайсери, а затем стал визирем при дворе султана Кей-Кавуса II в Конье. Насир уд-дин Махмуд аль-Хойи славился редкой находчивостью и остроумием.
В Азербайджане среди специалистов есть мнение, что прообразом Насреддина послужил известный местный учёный-математик Насир ад-Дин Туси, который жил в XIII веке. В одном историческом документе он назван Насиреддином Туси. Немало историй о нём совпадает с теми, какие рассказывают о Ходже Насреддине.
С указанными и десятками иных имён, связано множество забавных и поучительных историй, которые именуются «бродячими», ибо имеются у самых разных народов, дополняя и взаимно обогащая их фольклоры. И неизвестно, кто у кого и что позаимствовал. Многие такие истории получил в «наследство» Ходже Насреддину, вобрав в себя черты многих весёлых героев различных времён и разных восточных народов, так мелкие реки присоединяются к большим, их количество перешло в качество, в результате его образ стал поистине монументальным. Именно вокруг этого имени по непостижимым законам происходила, и происходит в настоящее время, циклизация юмороносных жанров.
«Биография» Ходжи Насреддина
Некоторый учёные пытаются извлечь хоть какие-то данные из тех анекдотов, историй, преданий, баек и притч, которые рассказывают о Ходже Насреддине, и реконструировать его биографию. Схожим методом криминалисты рисуют психологический портрет преступника по тем скудным данным, которые ими собраны.
Трудность в том, что слои фольклора нарастали в течение поколений, передаваемые обычно устно истории, зачастую менялись по воле богатого фантазией рассказчика. И в разных странах – по-разному, в зависимости от местных условий, быта, характера народа, национальной специфики и прочего. Отсюда заметные различия, а то и противоречия.
Обычно Ходжа Насреддин изображён скромным по материальному достатку человеком. Как правило, он одет в старый заношенный грязный от пыли долгих странствий халат, в котором слишком много дыр, чтобы в них задерживались монетки. В одним историях живёт в деревне, а в других – в городе.
Невозможно установить, где дом Ходжи Насреддина? Называются многие селения и города – Акшехир, Бухара, Каир, Багдад, Самарканд, Дамаск. Да что города, трудно назвать все страны, в которых жил или побывал Ходжа Насреддин! Это – Иран (Персия), Турция, Ирак, Афганистан, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения, Армения, Сирия и прочие.
В историях и преданиях упоминается жена Ходжи Насреддина, сын и две дочери. Супруга часто сварлива, нередко спорит с мужем, выступает его оппонентом, хотя порой приводит весьма мудрые доводы. О детях конкретных сведений почти нет.
Порой Ходжа Насреддин изображается религиозным человеком, порой даже читает проповеди, толкует установления шариата, но нередко относится к вере скептически, а то и подвергает её критике и насмешкам, фактически как безбожник.
В большинстве историй Ходжа Насреддин изображён умным, смекалистым, мастерски владеющим словом, находчивым. Он умеет выкрутиться из самых безнадёжных положений, но в некоторых – имеются и такие – показан недалёким человеком, ограниченным, завистливым, мелочным, обжорой, скрягой и так далее. Как говорится, ничто человеческое ему не чуждо. Впрочем, порой, он лишь притворяется недотёпой, простаком и под видом благоглупости изрекает мудрые истины. Его невежество притворное, используется как приём, давая важные жизненные уроки. То же самое происходит, когда Ходжа Насреддин шутит, забавляет, развлекает, просто посмеивается. Некоторые исследователи говорят, что его прототип был суфием или хорошо был знаком с суфизмом, потому в его словах и действиям нередко наличествует скрытая мудрость.
И это всё о нём
Народный юмор, словно воздух, незаметен и повсюду, он растворён в практически во всём – в пословицах и поговорках, загадках, прибаутках, в песнях, анекдотах, небыличках, да в чём угодно. В этом смысле смехотворцами выступают все народы.
«Здоровый народ не может обойтись без смеха», констатировал знаменитый французский сатирик Франсуа Рабле.
«Тот человек ничтожен, кто не умеет смеяться и не умеет принять гостя», – гласит каракалпакская пословица.
Весёлый фольклор всегда оказывали благотворное влияние на писателей. Карел Чапек сказал так: «Он (народный юмор) всегда будет проникать в литературу и будет жить в ней по праву бессмертия, только уже под именем Аристофана, Рабле или Сервантеса».
Действительно, мотивы и образы народного юмора ощущаются в «Тысяче и одной ночи», «Сказках попугая», «Приключениях барона Мюнхаузена», «Дон Кихоте», «Пантагрюэле и Гаргантюа», «Приключениях Тиля Уленшпигеля», «Декамероне», «Похождениях Хаджи-бабы из Исфагана» (в бесподобном переводе на русский язык лингвиста-востоковеда Осипа Сенковского, кстати, современника Александра Пушкина) и многих-многих других.
Подборки анекдотов о Ходже Насреддине и их систематизация начались много веков назад В Турции, Иране, Ираке, в других странах Востока.
Впервые истории о Ходже Насреддине подверглись литературной огранке в 1480 году в Турции и были изданы в книге «Салтукнамэ». Позднее свой вклад внёс в это дело писатель и поэт Джами Рума Ламии (умер в 1531 году). Очень известным стал сборник анекдотов о Ходже Насреддине, содержащий 43 миниатюр, опубликованный в 1571 году.
В Иране издан увесистый роман Пезеш-зода «Ходжа Насреддин при дворе ар-Рашида». Имеются ещё «Насреддин и его жена» П. Миллина, «Чётки из черешневых косточек» Гафура Гуляма, «Хорошие шутки Ходжи Насреддина» Алексея Сухарева и «Двадцать четыре Насреддина» (составитель М.С. Харитонов). Плюс – увесистые книги «Проделки неподражаемого Ходжи Насреддина» и «Смешные и мудрые притчи Ходжи Насреддина».
В России же первым о Ходже Насреддине рассказал Дмитрий Кантемир (1673 – 1723 гг.) в «Истории Турции», включив туда анекдоты об этом весёлом народном герое.
Количество книг о «возмутителе спокойствия и сеятеле раздоров», чьё имя приводило в трепет толстосумов, угнетателей, тиранов – сосчитать невозможно. Они стали частью мирового литературного достояния.
Одно время на Кавказе издавался сатирический еженедельный журнал «Молла Насреддин»: а именно – в Тифлисе (1906—1914 и 1917 гг.), Тебризе (1921 г.) и в Баку (1922—1931 гг.). Всего за 25 лет вышли в свет 748 выпусков журнала: 340 в Тифлисе, 8 в Тебризе и 400 в Баку).
Весёлые истории о Ходже Насреддине постоянно печатают многие газеты и журналы среднеазиатских республик.
Укажу и на свою скромную лепту в это дело, во время проживания в Душанбе (Таджикистан).
Писал в своё время «Афандизмы» – анекдоты (авторские, придуманные автором) о Насреддине Афанди (таджикском Ходже Насреддине). Они публиковались в душанбинских журналах «Памир» и «Хорпуштак» («Дикобраз»), еженедельнике «Адабиёт ва санъат», в газетах «Коммунист Таджикистана», «Народная газета», «Комсомолец Таджикистана», «Голос Таджикистана», «Комсомолец Узбекистана» и в других.
Работая редактором единственного в Средней Азии сатирического радиожурнала «На весёлой волне» Таджикского радио, я вёл постоянную рубрику «Справочный отдел «Смех-совет», которым заведовал досточтимый Ходжа Насреддин. Он давал свои драгоценные ответы на не менее драгоценные вопросы радиослушателей, и не просто ответы, а смешные, весёлые, сатирические.
Знаю, что и другие юмористы схожим образом или иначе обращались к неисчерпаемому кладезю народного творчеству, придумывая новые и новые истории.
Так что и ныне незримо бродит среди нас дерзкий насмешник Ходжа Насреддин: вечный странник продолжает свой путь, пересекая границы времени и пространства, смеётся над человеческими недостатками – невежеством, глупостью, корыстью, чванством, лживостью, жадностью, лицемерием, жестокостью, трусостью и прочими пороками. Он всегда готовый прийти на помощь слабому и обрушить своё грозное оружие острого слова на чинителей беззакония и насилия, нарушая их спокойствие. Ох, как дорого заплатили бы они, чтобы избавиться от этого сеятеля раздоров, но это столь же непосильная задача, как пытаться полой халата закрыть блистающее жаром солнцем. Ежели он куда и ушёл, так только в бессмертие.
Солнечный мастер
Своей поистине вселенской славой незабвенный Ходжи Насреддина затмил всех остальных вместе взятых острословов, шутников, балагуров, хитрецов и ловкачей Востока. Образ этот интернациональный – создан он общими усилиями многих и многих народов. Никто не может считать его лично своим.
Но, несомненно, лучшая литературная версия этого героя – «Повесть о Ходже Насреддине» – принадлежит перу великолепного русского писателя Леонида Соловьёва. Министерство образования и науки России в 2013 году внесла «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьёва в список «100 книг», рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения.
Из «Книги юности»
Родился Леонид Васильевич Соловьёв 6 (19) августа 1906 года в Триполи (Ливан). Его родители Василий Андреевич и Анна Алексеевна получили образование за казённый счёт, а потому должны были отработать положенный срок в том месте, которое им определят. Так они оказались в Палестине, каждый сам по себе, но там познакомились и поженились. Василий Андреевич работал сначала преподавателем, а затем помощником инспектора местных школ Северо-Сирийского Императорского Православного Палестинского общества. Анна Алексеевна учила арабов русскому языку. Так что её сын буквально с материнским молоком впитал любовь к слову, прекрасно его чувствовал и обращался с ним виртуозно.
После окончания положенного срока Соловьёвы в 1909 году вернулись в Россию и поселились в Бугуруслане, жили также неподалёку от него на станции Похвистнево, преподавали в школах Самарской губернии.
В детстве мальчик отличался тягой к чтению, читал буквально всё, что ему попадалось под руки. Любимыми называл книги с увлекательным сюжетом, драматическими коллизиями и приключениями.
Юность будущего писателя совпала с величайшими революционными событиями в Российской империи, которые повлекли за собой крушение династии Романовых, страну вычеркнули из числа стран-победителей в Первой мировой войне, тем самым лишили немалых компенсаций за огромные потери в ней.
Далее случилась невиданная по масштабам и жестокости Гражданская война, которая по суммарным потерям оказалась более катастрофической, чем Первая мировая…
Затем настал период ужасающей разрухи с голодом, холодом, эпидемиями, отчаянием…
Оказавшись в предельно тягостных условиях, Соловьёвы вспомнили о более хлебных южных краях. Спасаясь от ужасающего голода в Поволжье, они в 1920 году переехали в узбекский город Коканд.
Здесь юноша снова столкнулся с реалиями Востока: впитывал солнечный свет и жар, запахи изнурённых полуденным зноем тополей и винограда; весной видел цветущий розовыми облаками миндаль, слышал необычную музыку и гортанные песни.
Пил вкусную воду из весело журчащих арыков. В кромешной темени ночи нередко будил истошный рёв ослов, а утреннюю рань оглашали привычные крики муэдзинов, призывающих правоверных на молитву.
Леонид играл с друзьями, посещал всякие закоулки города, бродил по пыльным дорогам между глинобитными домиками; бывал на неудержимо притягательных базарах с постоянным коловращением людей и товаров, ароматами плова, люля-кебаба и свежевыпеченных лепешек с зёрнами кунжута, невероятно вкусных. Пускал слюнки, глядя на горки самсы, мантов, мохнатых персиков, тугих гранатов, инжира, оранжевых помидоров; на тугие грозди винограда, груды арбузов и дынь – маленьких подобий солнца. Однажды был оплёван двугорбым верблюдом, к которому приблизился слишком близко и отвлёк горбача от меланхолического пережёвывания корма.
Видел глиняные такыры и песчаные пустыни, в которых тёплый ветер шептался о чём-то с казавшимся сухим белесо-жёлтым саксаулом.
Всё это врезалось навечно в его кровь и плоть…
В 1922 году Леонид закончил школу, насилу проучился два курса в механическом техникуме. Какое-то время проработал железнодорожным ремонтником. Но всё это было не его, тянуло к совершенно другому.
Отец юноши, видя столь отвратное отношение сына к учёбе, фактически отправил его, как тогда говорили, в люди: ежели считаешь, что ты сам себе голова, то и поживи в одиночку, посмотри жизнь, наберись житейского опыта. Так началась его самостоятельная жизнь.
Леонид немало поколесил по Средней Азии, подрабатывал как мог, оказывал разные услуги, учил русскому языку, рисовал вывески для магазинов, делал что угодно, порой только ради пропитания.
Литературный талант проявился у него очень рано. Он посылал свои заметки в различные газеты, те их охотно публиковали, что воодушевило юношу.
Уже в семнадцать лет его приняли на работу в известную ташкентскую газету «Правда Востока» (бывшую «Туркестанская правда»). В те годы он уже журналистом немало поколесил по Туркестану, впитывая тамошнюю экзотику, колорит, характеры, судьбы. Бывал в Коканде, Канибадаме, Ташкенте, Фергане, Ленинабаде, Андижане, Самарканде и многих других местах.
В Канибадаме Леонид встретился с Елизаветой Петровной Беляевой, легкомысленно женился на девушке, но их брак долго не продержался, отношения вскоре сошли на нет.
Своё детство и юность Леонид Соловьёв увлекательно описал в незаконченной повести «Из «Книги юности». В ней есть такие характерные строчки:
«Вся жизнь тех лет представляется мне теперь огромным, неслыханным приключением всемирного масштаба. Чтобы попасть в личное приключение, не надо было искать его; не уклоняться, не прятаться – больше ничего не требовалось: приключение само находило своих героев».
В 1927 году рассказ Леонида Соловьёва «На Сыр-Дарьинском берегу» получил вторую премию ленинградского журнала «Мир приключений» (перед этим рассказ отвергли в Ташкенте). Это заставило журналиста окончательно поверить в своё призвание.
Высокое чувство юмора – типично соловьёвское озорство, будущий автор романа о Ходже Насреддине проявил ещё в то время. Он сотворил лукавую мистификацию – представил в издательство собственноручно написанные песни о Владимире Ленине, которые выдал за переводы узбекских, таджикских и киргизских народных песен и сказаний. Все они вошли в сборник «Ленин в творчестве народов Востока» (1930 год). Дополнительный комизм этой затее придали результаты спешно организованной фольклорной экспедиции Ташкентского Института языка и литературы, которая в 1933 году отыскала «оригиналы» на узбекском и таджикском языках, записала. Тем самым официально подтвердив их существование. Конечно же, никаких настоящих стихов о «вожде пролетариата» дотоле не существовало, но их находчиво сотворили, выдав за народное творчество.
Сестра писателя Екатерина Соловьёва рассказывает об этом так: «Мы с Лёней смотрели друга на друга, выпучив глаза». Такая реакция понятна: нашли то, чего не было и быть не могло.
В газете Леонид Соловьёв проработал специальным корреспондентом до 1930 года. А затем отважно отправился в Москву, где закончил ускоренный курс литературно-сценарного факультета Государственного института кинематографии. Институтский диплом получил уже в 1932 году.
В годы учёбы опубликовал несколько рассказов, в основном в журналах.
В это время познакомился с той, которую позже назвал главной женщиной своей жизни – Тамарой Седых. Решился на второй брак. Жизнь с ней не была лёгкой. Видимо, что следует признать, вина в этом – как минимум, большая часть – Леонида Соловьёва. Он не был идеальным супругом, не отказывался от предложенной рюмки…
Но своему творчеству не изменял, написал всего немало. Вышли его книги: «Кочевье» (в 1932 г.), «Поход «Победителя» (1934), «Высокое давление» (1938 г.), «Солнечный мастер» (1939 г.). В 1935 году по сценарию Леонида Соловьёва был снят фильм «Конец полустанка» («Межрабпомфильм»).
Леонид Соловьёв стал довольно известным писателем. Тому свидетельство – посвященные ему статьи в журналах «Литературная учёба», «Красная новь» в 1935-36 годах.
Он даже обратил на себя внимание М. Горького, который о нём отозвался так:
«Литературно грамотен, у него простой, ясный язык, автор, видимо, учился у Чехова, умеет искусно пользоваться чеховскими концовками, обладает юмором и вообще даровит. Чувствуется, что он усердно ищет свой путь, подлинное лицо своей души».
Так и было. Леонид действительно только искал свой истинный путь. Главное дело его жизни было ещё впереди.
«Рождение» Ходжи Насреддина
Наверное, в уме писателя бродило немало плодотворных идей, но по какому-то внутреннему наитию угадал наилучшую, самую органичную для него.
Он тогда написал: «Какая широта открылась передо мной… всё, что я любил в ней (Средней Азии), – вливалось в мою тему: и быт, и фольклор, и природа».
Случилось именно так. В реализации идее Леонид Соловьёв смог использовать все свои обширные знания колоритной экзотики Востока, на котором родился и прожил к тому дню большую часть жизни. Он решил обратиться к популярному фольклорному образу остряка и шутника, весёлого мудреца Ходжи Насреддина, который при этом сочетал в себе благородство, доброту, тягу к справедливости и народную смекалку. Он виртуозно выпутывается из самых затруднительных положений, ухитряясь при этом посрамлять и наказывать своих противников. Был своего рода восточным Робин Гудом.
Немало было использовано из фольклора, но многое порождено жизненным опытом, пропущенным через душу и воображение Леонида Соловьёва. Получился увлекательный уникальный органичный сплав народных сказок, баек, философских мечтаний, весёлых историй, анекдотов и личного домысла. Он не только сохранил лучшие черты народного героя, но и весьма заметно приумножил их, используя все доступные ему литературные и образные средства.
В результате родилась увлекательная книга «Возмутитель спокойствия», феерически весёлая, словно пронизанная солнечным светом, полная остроумия, юмора, тончайшей иронией. В 1940 году она была опубликована в «Роман-газете».
Она сразу стала широко известной. Ходжа Насреддин всеми воспринимался героем народным. Завораживающий сюжет держал читателя до самой последней строчки. Описанные персонажи были описаны настолько зримо, что казались живыми. Точность описываемых реалий сделала повесть настоящей энциклопедией нрава, характеров, быта средневекового Востока, настолько они были верны. Хотя автор не являлся историком, но сумел создать необычайно достоверную картину жизни прошлых веков. И настолько точно, что стал авторитетом даже в глазах специалистов. Чувствовалась глубокая начитанность автора, знание им сказок «Тысячи и одной ночи», книг «Ожерелье голубки» ибн-Хазма и «Занимательные истории» ибн-Туфейля, стихов Саади, Хайяма, Бедиля, Джами, Рудаки, туркменского поэта и острослова Каминэ и многих других. А ещё несомненна осведомлённость в практически запретном философском учении суфизме. В те времена все философии, кроме марксизма-ленинизма, пребывали под строжайшем запретом.
В повести они приписаны вымышленном средневековому дервишу, которому не посчастливилось родиться под истинным светом научного коммунизма, а потому он пребывал во мраке невежества и заблуждений. «Тёмного» дервиша засосала трясина мистицизма, вместо многих богов он почитал любовь, стремился к ней. Наивно верил, что в результате этого мир станет лучше…
(Признаюсь, меня как писателя просто поражает мастерство писателя, который русскими словами зримо передал неповторимый колорит Востока, его экзотику, тамошние реалии. Всё по-русски, но кажется истинно восточным. Просто словесная магия… Невозможно понять, как ему удалось создать книгу, настолько пропитанную реалиями Востоком, что их видишь, слышишь, обоняет, ощущаешь всем своим естеством.)
«Возмутитель спокойствия» сделал Леонида Соловьёва не просто известным, а по-настоящему знаменитым. В журнале «Литературная учёба» (февраль 1941 г.) появилась специальная статья о нём, в которой он выступал уже в качестве этакого мэтра, рассказывал о своей работе, делился планами.
Повесть о Ходже Насреддине получилась не просто интересной и весёлой, пронизанной солнечными искринками смеха, но и вдохновляющей, духоподъёмной. Так что совершенно не случайно именно в тяжёлое для всей страны время, поистине грозовое, – в 1942 году – она была экранизирована режиссёром Яковом Протазановым. Главную роль колоритно исполнил известный актёр Яков Свердлин. На экраны кинокартина вышла в 1943 году под названием «Насреддин в Бухаре» и стала тогда очень заметным событием, получила восторженных отклик миллионов зрителей и особенно бойцов.
Но не только этим Леонид Соловьёв внёс вклад в общую великую Победу. В суровые годы Великой Отечественной войны он служил Родине своим пером, был военным корреспондентом газеты «Красный флот». В ней и в других газетах постоянно появлялись его статьи, очерки, рассказы, заметки. Нередко он находился на передовой, писал свои материалы под свист пуль и взрывы снарядов. Когда понадобилось, то журналист при обороне Севастополя даже отважно взял в руки автомат и возглавил отряд десантников. Во время боя был тяжело ранен, с невероятным трудом его переправили на «Большую землю». Долго потом лечился в госпиталях.
Был награждён медалью «За оборону Севастополя», орденом Отечественной войны I степени (5 ноября 1943 года).
Написанные Леонидом Соловьёвым военные материалы вошли в сборники «Большой экзамен» (1943 г.) и «Севастопольский камень» (1944 г.). На основе реальной истории 1942 года была написана увлекательная повесть «Иван Никулин – русский матрос». В следующем года по ней был снят кинофильм (режиссёр Игорь Савченко) и стал известным. Заглавную роль исполнил популярный тогда актёр Иван Переверзев.
В 1996 году специалисты Госфильмофонда восстановили эту ленту, она была показана на кинофестивале архивного кино «Белые столбы» и на одном из российских телеканалов.
«Возмутитель спокойствия»
Говорят, что авторы нередко повторяют судьбу своих героев. Так произошло и в судьбе Леонида Соловьёва. Он оказался властям столь же неугоден, как и Ходжа Насреддин средневековым правителям, описанным им в «Возмутителе спокойствия».
Помню тот момент в своей далёкой юности, когда я читал «Повесть о Ходже Насреддине», и наткнулся на строчки, когда её героя схватили стражники. Описание поразило меня своей точностью: «Ходжа Насреддин сразу сделался в их руках маленьким, жалким и обрёл вид преступной виновности, как, впрочем, любой, которого тащат в тюрьму…» Возникла мысль: «А подобное состояние известно автору, уж не был ли он арестовал и не сидел ли в тюрьме?..» Тогда я этого не ведал, даже не догадывался, лишь спустя многие годы узнал, что именно так и было.
В сентябре 1946 года писателя арестовали по обвинению в «подготовке террористического акта». Возможно, кому-то он перешёл дорогу или сильно озлобил кого-то, а то и друзья оказались не настоящими. На него дали показания члены «антисоветской группы писателей», арестованной в 1944 году, – Семён (Авраам) Гехт, Сергей Бондарин, Леонид Улин. Они ему приписали «террористические настроения» и следующие высказывания: «колхозы себя не оправдали, литература деградирует, произошёл застой творческой мысли» и прочие. Наверное, Леонид Соловьёв такое говорил, язык у него всегда был остёр, он не привык себя сдерживать.



