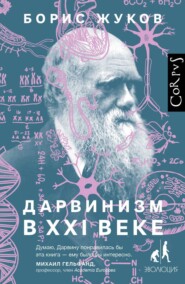скачать книгу бесплатно
Ламаркизм
Август Вейсман против векового опыта человечества
Помните вопрос, который мы задавали воображаемому собеседнику во вступлении к книге: какой щенок имеет больше шансов стать звездой цирка – отпрыск длинной династии цирковых собак или потомок сторожевых псов? Мы тогда получили ответ: “Конечно, потомок цирковых!” Такой ответ, может быть, покажется нам наивным – но уж никак не неожиданным: он словно напрашивается сам собой.
Представление о том, что знания, опыт, навыки, приобретенные тренировками особенности телосложения, даже травмы предков (особенно повторяющиеся из поколения в поколение) не могут не влиять на потомков, трудно даже назвать теорией или концепцией. Это кажется очевидным – как же может быть иначе? У всех народов мира известны сказки, заканчивающиеся “…и с тех пор у всех бурундуков на спине пять темных полос – след медвежьих когтей” или “…вот с тех пор у зайца рваная верхняя губа, а у лисицы на рыжем меху бурые пятна”. Точно так же сегодня писатели-фантасты регулярно пробуждают в героях “генетическую память” (представляющую им то, что когда-то видел или слышал их далекий предок), а политики со столь же удручающей регулярностью говорят что-нибудь вроде “православие вошло в гены русского народа”.
Когда наука Нового времени предположила, что виды могут изменяться, те же соображения попали и в научные трактаты. Впрочем, автор первой цельной эволюционной теории, знаменитый французский ботаник и зоолог Жан-Батист Ламарк, признавая существование такого эффекта, отказал ему в звании главной движущей силы эволюции. По его мнению, наследование индивидуальных достижений лишь искажает и деформирует заложенное в каждом организме врожденное стремление к прогрессу – позволяя зато приспосабливаться к среде обитания и порождая тем самым ошеломляющее нас разнообразие живых форм.
Однако по иронии судьбы словом “ламаркизм” в науке стала зваться именно идея наследования приобретенных признаков[78 - Читателя может смутить, что в других случаях (в том числе и на страницах этой книги) “ламаркизмом” называется представление о возможности прямого (без отбора) приспособительного изменения организма с последующим наследованием такого изменения его потомками. На самом деле как сторонники, так и противники ламаркизма рассматривали эти формулировки как эквивалентные, за исключением разве что возможности наследования травм. Давно известно (и никем не оспаривалось), что многие признаки самых разных организмов способны изменяться (в той или иной степени) сообразно внешним условиям в течение жизни индивидуума. Спор шел лишь о том, могут ли такие изменения непосредственно передаться потомкам того организма, у которого они произошли. Такой эффект (независимо от его реальности) с равным основанием можно называть прямым приспособлением, направленными мутациями или наследованием приобретенных признаков.]. Случилось это, правда, через десятилетия после смерти Ламарка – во времена триумфа дарвиновской теории. Парадоксальным образом теория естественного отбора, поставив эволюционные процессы в центр внимания ученых, возбудила их интерес к механизмам эволюции – и тем невольно способствовала возрождению идей Ламарка.
Нам сейчас даже довольно трудно представить, насколько почетное место заняла идея наследования приобретенных признаков в биологии того времени. Эволюционное значение этого явления в той или иной мере признавали почти все заметные ученые, включая и самого творца теории естественного отбора[79 - Справедливости ради следует сказать, что Дарвин, не отрицая возможности наследования приобретенных признаков и его роли в эволюции, указывал на примеры приспособлений, которые не могут быть объяснены этим явлением, – в частности, на изменения формы мертвых структур (волос, перьев, раковин, крыльев насекомых и т. д.), а также на адаптации, возникающие у рабочих особей общественных насекомых.]. Во многих же эволюционных концепциях (а их, как уже говорилось, в ту пору было выдвинуто несметное множество) ламарковскому механизму отводилось самое почетное место. Психоламаркисты рассматривали наследственность как особую разновидность памяти (благо о механизмах того и другого в ту пору не было известно практически ничего конкретного), механоламаркисты воспроизводили старое рассуждение Ламарка об упражнении-неупражнении органов. Ламарковский механизм представлялся столь естественным и очевидным, столь неразрывно связанным с самой идеей эволюции, что отрицать его, казалось, могли только самые крайние ретрограды, все еще цеплявшиеся за представления о неизменности видов[80 - О том, насколько велика была власть этой идеи над умами того времени, можно судить по истории, произошедшей в, казалось бы, далекой от эволюционной теории области знания. Почти одновременно с дарвиновской революцией в биологии филологи, занимавшиеся исследованием древних текстов (поэм Гомера, Библии, “Ригведы”), обнаружили, что в них крайне редко упоминаются цвета (кроме черного и белого), а в тех случаях, когда термины цвета все-таки присутствуют, их употребление почти произвольно: овцы могут быть названы словом, означающим “лиловый”, мед – “зеленым” и т. д. Последующее изучение показало, что такими же особенностями отличается словарь терминов цвета у народов, не затронутых цивилизацией. Все первые исследователи этого феномена объяснили его тем, что у древних отсутствовало цветовое зрение и что оно постепенно развилось только в ходе развития цивилизации под влиянием все более интенсивного упражнения глаз. Немецкий офтальмолог Гуго Магнус, в чьих работах эта теория была развита наиболее подробно, не отказался от нее даже тогда, когда проведенные по его же инициативе прямые исследования показали, что “туземцы” различают спектральные цвета ничуть не хуже цивилизованных европейцев.].
Но именно в это время наивысшей популярности ламаркизма впервые нашелся человек, который спросил: а существует ли вообще сам эффект?
Этого человека звали Август Вейсман[81 - Строго говоря, чуть раньше Вейсмана и независимо от него тем же вопросом задался Фрэнсис Гальтон – двоюродный брат Дарвина, выдающийся ученый-энциклопедист, основоположник применения количественно-статистических методов в биологии. Гальтон переливал кровь черных кроликов белым и наоборот. Не получив никакого изменения окраски потомства, он, как и Вейсман, пришел к выводу о невозможности наследования приобретенных признаков.]. Почтенный профессор Фрайбургского университета, приобретший научный авторитет работами в модной тогда науке цитологии, но затем из-за испорченного зрения вынужденный заниматься биологией в основном умозрительно, он так и просится в персонажи карикатуры – подслеповатый кабинетный теоретик, от чрезмерной учености усомнившийся в очевидном. Не удивительно, что в устном предании он остался педантичным чудаком, который отрезал мышам хвосты, получал от бесхвостых грызунов приплод, выращивал до взрослого размера, мерил хвост, снова отрезал… И, не получив никакого изменения длины хвоста на протяжении 22 поколений, сделал вывод: индивидуальные изменения, случившиеся с организмом в течение жизни, не наследуются[82 - Последующие комментаторы (включая таких знаменитостей, как Бернард Шоу), иронизируя над Вейсманом и его опытом, видимо, уже не представляли, насколько распространенной была вера в наследование приобретенных признаков (даже травм) среди современников Вейсмана. Так, в 1877 году очередному съезду немецких натуралистов и врачей была продемонстрирована бесхвостая кошка. Сообщение о том, что эта кошка родилась без хвоста “вследствие того”, что ее мать лишилась хвоста в результате несчастного случая, было встречено овацией высокоученого собрания, а о том, что бесхвостые котята время от времени рождаются и у вполне хвостатых кошек, никто не вспомнил. Длительный эксперимент Вейсмана стал своего рода ответом на эту шумную презентацию.].
Вейсман действительно поставил такой опыт. Но он мог и не утруждаться: многие породы собак подвергались обрезке ушей и хвостов в куда более длинном ряду поколений – с тем же результатом. Еще более масштабный эксперимент природа поставила над самим человеческим родом – точнее, над его прекрасной половиной. Всякая женщина рождается с девственной плевой. Если ей вообще суждено кого-то родить, то только после разрушения этой структуры. Но этот признак, уничтожаемый в каждом поколении, упрямо воспроизводится в следующем на протяжении всей известной нам истории человечества. Где же оно, пресловутое “наследование приобретенных признаков”?
На этот вопрос ламаркисты нашли ответ довольно быстро: мол, грубая разовая травма не может служить моделью мягкого, но постоянного давления среды на организм. Правда, оставалось непонятным, как организм отличает одно от другого и где проводит границу. Ведь многие виды имеют приспособления именно к быстрым, сильно травмирующим воздействиям – взять хотя бы знаменитую способность ящериц восстанавливать утраченный хвост. Но еще хуже было с примерами наследования приобретенных признаков. Наиболее авторитетный идеолог ламаркизма, чрезвычайно популярный в ту пору философ Герберт Спенсер вынужден был привести в качестве таковых наследственный сифилис и телегонию – поверье заводчиков лошадей и собак, что если самка спаривалась в течение жизни с разными самцами, то у потомства от более поздних отцов могут обнаруживаться черты предыдущих. Но у самого этого феномена было туго с примерами: “гадюки семибатюшные” обитали только в проклятиях и анекдотах. Впрочем, как мы помним из главы “Отбор в натуре”, с примерами действия естественного отбора в те времена дело обстояло не лучше.
К концу XIX века представления о возможности наследования приобретенных признаков по-прежнему преобладали, но уже не казались само собой разумеющимися: спор двух концепций был перенесен на поле эксперимента. Поисками заветного феномена азартно занялось множество ученых в разных странах мира. Они использовали разные объекты и разные признаки, но схема их работ обычно была одной и той же: берем некий фактор, воздействуем им на подопытные организмы (желательно на молодые, еще не закончившие свое формирование, а еще лучше – на семена, проростки, икру, личинок и тому подобные стадии) и убеждаемся, что их индивидуальные признаки смещаются в ту же сторону, в какую под действием данного фактора эволюционировали близкие им виды в природе.
Например, целая школа французских ботаников во главе с Гастоном Боннье много лет проводила опыты с переносом десятков видов растений с равнин в альпийские условия – исправно убеждаясь, что уже в первом поколении черты таких растений изменяются в сторону родственных им горных видов. Русский ученый Владимир Шманкевич, увеличивая концентрацию соли в воде, где развивались личинки рачка Artemia salina (хорошо знакомого аквариумистам в качестве корма для рыбок), демонстрировал, что у выросших в таких условиях рачков форма хвостового членика и число щетинок на хвосте соответствовали аналогичным признакам вида A. muhlhausenii, в природе живущего в более соленой воде. Если же вовсе убрать из воды соль, A. salina приобретал сходство (правда, по другим признакам) с пресноводным рачком Branchipus stagnalis. Другие ученые столь же убедительно показывали, что мыши, с рождения содержавшиеся на холоде, имели более короткие уши и хвосты, чем те, что росли в тепле, – что полностью соответствует биогеографическому правилу Аллена о различиях между южными и северными формами одного вида. Или что у головастиков, которых растили на мясной пище, кишечник оказывался короче, чем у головастиков того же вида, питавшихся растениями (как известно, для переваривания растительной пищи требуется более длинный кишечник). Работ такого рода было опубликовано множество, но все они ровным счетом ничего не доказывали: с таким же успехом существование хамелеона можно было бы считать доказательством того, что наши обычные ящерицы когда-то умели менять цвет покровов по своему усмотрению.
Кроме того, эти опыты имели и еще одну общую слабость: в них было очень трудно отделить то, что организм унаследовал, от того, что самостоятельно приобрел в ходе собственной жизни. Допустим, мы вслед за Боннье и его сотрудниками пересадили сеянец хлопушки[83 - Хлопушка (Silene inflata) – травянистое растение семейства гвоздичных, нередко встречается на пустырях и огородах в качестве сорняка.] с равнины на высоту две с лишним тысячи метров, и она выросла мелкой и суховатой, как родственный горный вид. Мы собрали с нее семена и высадили… где? Если в горах – то да, из них вырастут мелкие и жесткие растения. Но как узнать, унаследовали ли они эти качества от “натурализовавшихся” в горах родителей или самостоятельно адаптировались к горному климату – так же, как это сделали их родители? Если же мы высадим их на равнине, из них вырастут обычные кустики хлопушки. И опять непонятно: то ли они не унаследовали родительских адаптаций – то ли успели адаптироваться обратно, к исходному состоянию?
В первые годы ХХ века появилась – и тут же стала чрезвычайно модной – генетика. Это заметно ослабило позиции ламаркизма: существование каких-то автономных носителей наследственных качеств плохо увязывалось с представлением о неограниченной пластичности организма по отношению к факторам внешней среды. Вдобавок загадочные гены вели себя так, как будто никаких внешних воздействий нет вовсе.
Идея наследования приобретенных признаков по-прежнему насчитывала немало именитых сторонников (правда, и решительных противников теперь было не меньше – в основном из числа новоявленных генетиков), но она все меньше привлекала научную молодежь. Тем временем успехи экспериментальной биологии сделали возможной пересадку половых желез от одного животного другому с последующим получением от таких животных потомства. Подобные опыты были проделаны на морских свинках, курах, шелкопряде – и ни в одном из них не было найдено никаких следов влияния организма-реципиента на донорские половые клетки: развившиеся из них особи несли признаки только животного-донора. Это выглядело куда убедительней вознесенных в горы растений и подсоленных рачков. И хотя в 1907 году директор берлинского Анатомического и биологического института Оскар Гертвиг предрекал, что в конце концов именно ламарковский эволюционный механизм окажется верным, звезда еще недавно общепринятой теории явно клонилась к закату. Однако даже к середине 1920-х годов ламаркизм все еще оставался респектабельной научной гипотезой.
Продолжались и попытки найти-таки заветный эффект – по своей длительности, массовости и настойчивости сравнимые уже разве что с поисками философского камня. Искали ученые-одиночки и целые научные школы, искали корифеи и дилетанты, искали разными методами и на разных объектах. В истории этой погони за призраком случалисьи настоящие трагедии[84 - Так, например, в 1926 году известный австрийский биолог, страстный приверженец неоламаркизма Пауль Каммерер покончил с собой после того, как в журнале Nature вышла статья американского герпетолога Глэдвина Нобла, исследовавшего представленный Каммерером препарат и обнаружившего, что “унаследованные приобретенные признаки” явно фальсифицированы.].
Одна из последних широко известных попыток доказать наследование приобретенных признаков косвенно связана с именем знаменитого русского физиолога Ивана Павлова. В 1924 году один из его сотрудников – Николай Студенцов опубликовал результаты оригинального исследования: он вырабатывал у мышей условные рефлексы, скрещивал обученных мышей между собой и обучал их потомство. И выходило, что каждому поколению мышей для выработки рефлекса требовалось меньше сочетаний стимула и подкрепления, чем предыдущему. Этот результат трудно было истолковать иначе, нежели “по Ламарку”. Комментируя работу Студенцова, Павлов предположил, что таким манером условный рефлекс может в конце концов стать безусловным.
Однако после резких возражений видных генетиков (прежде всего Николая Кольцова) Павлов, известный своей придирчивостью к достоверности результатов, поручил другому сотруднику, Евгению Ганике, повторить опыты Студенцова, по возможности исключив альтернативные объяснения. Ганике сконструировал специальную установку, в которой мыши обучались автоматически, без участия экспериментатора. И “эффект Студенцова” как рукой сняло – мышам с 25 поколениями ученых предков на выработку навыка требовалось столько же времени, сколько мышам, предков которых ничему не учили. (Скорее всего, полученные Студенцовым результаты объяснялись тем, что в эксперименте обучались не только мыши, но и сам молодой исследователь – это была его первая самостоятельная работа.) После этого Павлов публично попросил не причислять его в дальнейшем к авторам, признающим наследование приобретенных признаков.
К началу второй трети ХХ века ламаркизм вынужден был оставить основные поля эволюционных битв – зоологию и ботанику, – но все еще держался в микробиологии. Стремительная адаптация микроорганизмов чуть ли не к любым воздействиям плохо совмещалась с образом медленной дарвиновской эволюции, невольно наталкивая на мысль, что уж микробы-то точно приспосабливаются “по Ламарку”. Поиски “направленных мутаций” надолго прервались только после знаменитого опыта Макса Дельбрюка и Сальвадора Лурии, поставленного в 1943 году и вошедшего в историю науки под именем “флуктуационный тест”.
Объектом их эксперимента была кишечная палочка Escherichia coli, а фактором, к которому ей надлежало приспособиться, – фаг (то есть паразитирующий на бактерии вирус) Т1. В норме фаг цепляется к поверхности бактериальной клетки, впрыскивает внутрь нее свою ДНК, та встраивается в геном хозяина и многократно копируется, одновременно заставляя зараженную клетку в лихорадочном темпе синтезировать вирусные белки. В конце концов клетка погибает и лопается, и в среду вываливается множество новеньких, готовых к заражению фаговых частиц. Процесс развивается лавинообразно, но, если бактерий достаточно много, рано или поздно среди них находится клетка, невосприимчивая к фагу. Биохимические механизмы устойчивости могут быть разными, но результат один: резистентная клетка преспокойно растет и размножается на питательной среде с фагом, образуя на поверхности различимую невооруженным глазом колонию.
Дельбрюк и Лурия рассуждали так: если адаптивные изменения в геноме бактерии вызывает именно воздействие фага, то происходить они могут только после встречи бактерии и фага. Значит, если размножить бактериальный штамм во многих пробирках, а потом из каждой сделать посев на среду с фагом, то в каждой чашке Петри должно вырасти примерно одинаковое число колоний устойчивых бактерий – где-то больше, где-то меньше, но порядок величины будет один: ведь все они встретились с фагом одновременно.
Если же мутации, придающие бактерии устойчивость, возникают случайно, то этот процесс никак не зависит от присутствия фага. Допустим, в одной пробирке нужная мутация произошла десять поколений назад, в другой – пять, а в третьей – только что. Все это время бактерии – в том числе и носители мутации – продолжали размножаться[85 - Заметим: при этом неявно допускалось, что в отсутствие фага нужная мутация никак не сказывалась на выживаемости и размножении своих обладателей, то есть не была ни полезна, ни вредна.]. Тогда в посеве из первой пробирки устойчивых клеток окажется больше тысячи, из второй – 32, а из третьей – одна-единственная. Строгие расчеты показывают: если мутации происходят направленно, то дисперсия (мера отклонения от среднего) числа устойчивых клеток должна равняться их среднему числу. Если же они случайны, дисперсия будет многократно превышать среднее.
Именно так и получилось в эксперименте Дельбрюка и Лурии: в каждом конкретном опыте дисперсия в разы превышала среднюю величину. Позднее этот эксперимент был многократно повторен с разными фагами, а также антибиотиками и другими повреждающими агентами. Результаты всякий раз были однозначны: бактерии приспосабливались по Дарвину[86 - Впрочем, чуть ниже в этой главе мы увидим, что у некоторых бактерий есть и более эффективный механизм противостояния фагам.].
Специально для тех, кто пытался защититься от этого опыта непониманием его математической стороны, супруги Джошуа и Эстер Ледерберг спустя несколько лет показали то же самое, что называется, “на пальцах”. Они высевали множество бактерий на обычной питательной среде, а затем специальной бархатной подушечкой переносили отпечаток всех колоний на среду с фагом. Если там что-то вырастало (а рано или поздно такое случалось), то можно было точно определить, из какой колонии взялись устойчивые бактерии. И всякий раз оказывалось, что вся эта исходная колония тоже устойчива к фагу – с которым никогда в жизни не сталкивалась!
Это была одна из последних битв. Считаные годы спустя ученик Дельбрюка Джеймс Уотсон и его соавтор Фрэнсис Крик предложили свою знаменитую “двойную спираль” – и ламаркизм оказался оттеснен на задворки науки, став уделом чудаков и фанатиков, вроде изобретателей вечного двигателя[87 - Дискредитации ламаркизма дополнительно способствовало то, что он стал ассоциироваться с лженаучным учением Т. Д. Лысенко, которое в 1948–1964 гг. в СССР было провозглашено единственно верным направлением в биологии – что сопровождалось административным разгромом всех фундаментальных биологических дисциплин, особенно генетики и эволюционной биологии. Строго говоря, эту доктрину не совсем корректно относить к ламаркизму – как, впрочем, и к любому другому определенному направлению эволюционной мысли. Учение Лысенко представляло собой эклектичную смесь обрывков разных теорий, популярных в науке конца XIX – начала XX вв., но изрядно устаревших к 1930-м годам, – неоламаркизма в духе Копа и Спенсера, “гетерогенного развития” Кёлликера, “эволюции на основе взаимопомощи” Кропоткина и т. д. Эти концептуальные останки (взятые, разумеется, не из первоисточников, а из популярных брошюрок) были скомбинированы довольно произвольным образом и приправлены изрядной порцией дилетантской натурфилософии и самых диких суеверий. Лысенковских “теоретиков” не смутило даже то, что одни положения состряпанной ими “мичуринской биологии” прямо противоречили другим: например, представление о внезапном скачкообразном порождении одного вида другим – идеям наследования приобретенных в течение жизни признаков и направленного преобразующего влияния условий окружающей среды. Однако основные споры лысенковцев с учеными шли вокруг вопроса о наследовании приобретенных признаков, что предопределило восприятие лысенковского учения как разновидности неоламаркизма.]. Три четверти века отчаянных попыток зафиксировать “очевидное” и строго доказать “общеизвестное” закончились ничем. Но как мог Вейсман быть так уверен в этом, ничего не зная даже о существовании генов? Неужели его убедили бесхвостые мыши?
На самом деле, приступая к опыту с хвостами, Вейсман уже знал ответ. Он рассуждал так: допустим, где-то в теле произошло что-то полезное – мышцы стали толще, мозг заучил новый навык или шкура повысила лохматость. Но все эти ткани умрут вместе с самим организмом. Особи следующего поколения разовьются только из половых клеток. Как же те узнают и запомнят эти полезные изменения, произошедшие совсем не с ними? Разве сапог, оставивший след на снегу, будет меняться по мере таяния этого следа?
Сегодня мы знаем, что постулированное Вейсманом разделение проходит не между разными тканями, а внутри каждой клетки. Вейсмановские “зародышевая плазма” и “сома” – это генотип и фенотип, генетическая программа построения организма и сам построенный по ней организм. Они есть и у одноклеточных, и у безъядерных, и даже у вирусов. И для всех этих существ остается справедливой главная мысль Вейсмана: информация идет только от генов к внешним признакам, но не наоборот. Что бы ни происходило с экземплярами изданной книги, это не может повлиять на авторскую рукопись. Ее изменяет только сам автор – естественный отбор.
Казалось, вопрос был решен. Однако тень Ламарка упорно не дает покоя некоторым биологам: в последние десятилетия в научной литературе снова регулярно появляются работы, авторы которых стремятся не мытьем, так катаньем доказать факт наследования (или хоть какого-то влияния на потомство) приобретенных признаков либо хотя бы предложить теоретическую схему, позволяющую совместить этот эффект с нашими сегодняшними знаниями об устройстве живых систем.
Одним из самых известных рецидивов ламаркизма стала вышедшая в 1998 году книга австралийских иммунологов Эдварда Стила, Робина Линдли и Роберта Блэндена Lamarck’s signature (в русском переводе – “Что, если Ламарк прав?”). Книга была посвящена в основном механизму формирования приобретенного иммунитета и прежде всего – гипермутагенезу генов антител в В-лимфоцитах (см. главу “Неотвратимая случайность”). Однако амбиции авторов выходили далеко за пределы проблем иммунологии. В книге утверждалось, что изменения, возникшие в генах антител у В-лимфоцитов под действием определенного антигена, обнаруживаются затем в тех же генах у потомков данного животного, никогда не сталкивавшихся с этим антигеном, то есть что приобретенный иммунитет хотя бы в какой-то мере наследуется. Авторы предлагали и механизм такого наследования: матричные РНК (см. главу “Атомы наследственности”), снимаемые с измененных генов в лимфоцитах, проникают затем в половые клетки, и там путем обратной транскрипции (то есть синтеза ДНК на матрице РНК) с них снимаются ДНК-копии, встраивающиеся затем в геном половой клетки – примерно так же, как это делают в любых заражаемых клетках РНК-вирусы. А в последней главе авторы утверждали, что наследоваться может не только приобретенный иммунитет, но и другие приобретенные признаки. Правда, примеры этого они черпали в основном из старой (и порой не очень достоверной) неоламаркистской литературы либо откровенно притягивали за уши эффекты, имеющие совсем иную природу (например, феномен транспозонов – генов, способных “перепрыгивать” с одного места в хромосоме на другое или даже в другую хромосому). А их попытки объяснить, какую роль тут могут играть процессы, сходные с формированием специфических антител, сводились в основном к туманным рассуждениям, вроде того, что “в живом мире уникальные процессы и функции редки” и “если какой-нибудь феномен обнаружен в одной живой системе, рано или поздно его выявят и в других клетках, тканях или организмах”.
Книга наделала много шума, однако довольно быстро выяснилось, что в процессе гипермутагенеза обратной транскрипции не происходит – случайные изменения вносятся не в матричные РНК, а непосредственно в ДНК, в определенные участки генов, кодирующих антитела. Не удалось найти и постулированного авторами переноса измененных мРНК из лимфоцитов в половые клетки с последующим встраиванием ДНК-копий первых в геном вторых. Да и само “наследование приобретенного иммунитета” другим исследователям обнаружить почему-то не удалось. Что же касается главного идеолога “иммунологического ламаркизма” – Эдварда Стила, то сегодня его имя можно найти среди авторов статьи, на полном серьезе утверждающей инопланетное происхождение головоногих моллюсков…
Эпигенетика и эпигонство, или Злоприобретенные признаки
Другая разновидность современного неоламаркизма связывает свои надежды с так называемым эпигенетическим наследованием. Ссылки на работы, в которых наблюдался этот эффект, можно найти у многих неоламаркистов конца ХХ века (в частности, в упомянутой выше книге Стила и его соавторов), но “звездный час” этой идеи пробил совсем недавно. Рубежом стал 2014 год: количество работ в этой области, превысив критическую массу, сокрушило теоретические табу. Если еще совсем недавно ученые, обсуждая результаты исследований в этом направлении, старались избегать слов “наследование приобретенных признаков” (по крайней мере, в профессиональных изданиях), то сейчас эти слова стали чуть ли не знаменем нового направления. Победный клич “Ламарк все-таки был прав!” пронесся не только по блогам и телеканалам, но и по страницам вполне респектабельных научных журналов. Изучение того, как воздействия, перенесенные отцами и матерями, сказываются на детях, внуках и правнуках, буквально на глазах превратилось из сомнительной маргинальной темы в одно из самых модных и респектабельных направлений исследований.
Напомним вкратце, о чем идет речь. Как мы уже знаем, наследственные признаки не только организма в целом, но и каждой его клетки определяются генами. При этом все клетки одного организма содержат одинаковый набор генов (если не считать соматических мутаций – случайных единичных ошибок, неизбежно возникающих при многократном делении клеток, перед каждым из которых нужно скопировать весь геном). Те огромные различия в строении и функциях разных клеток, которые мы наблюдаем, возникают из-за различий в интенсивности работы генов – то есть считывания с них белка. В каждом типе клеток с одних генов матричные РНК снимаются чаще, с других – реже, а с третьих не снимаются совсем. Некоторые гены работают только на определенном (иногда совсем коротком) этапе эмбрионального развития или только при наступлении особых условий – с которыми их конкретный обладатель может никогда в жизни не столкнуться.
Естественно, ученые попытались выяснить механизмы, регулирующие эту активность. Таких механизмов оказалось много, они сложным образом взаимодействуют друг с другом. В частности, еще в 1970-х годах было обнаружено, что активность генов сильно зависит от навешенных на них химических меток. Например, есть ферменты, которые могут присоединять к цитозину (одному из азотистых оснований, служащих буквами генетического кода) метильную группу. Чем больше цитозинов в конкретном гене метилировано, тем ниже его активность. Впрочем, метильные метки могут быть и сняты так же, как навешены – специальными ферментами. Еще одна группа ферментов приделывает разные молекулярные добавки к гистонам – белкам, с которыми связана ДНК в ядре клетки. Эти модификации также влияют на интенсивность работы тех генов, с которыми связана данная белковая молекула. Известны и иные механизмы такого рода. Все они отличаются тем, что никак не меняют “текст” гена и химическую природу считываемого с него белка, но заметно влияют на интенсивность этого считывания – а значит, и на концентрацию данного белка в клетке, ткани или организме в целом.
Откуда фермент знает, какой участок ДНК и когда именно ему нужно метилировать или деметилировать – пока не очень понятно. Зато сравнительно недавно удалось выяснить, что некоторые из эпигенетических меток могут при удвоении ДНК воспроизводиться на дочерней цепочке. Далее, как и следовало ожидать, оказалось, что благодаря этому распределение меток, имевшее место в материнской клетке, может быть унаследовано (хотя бы отчасти) дочерними. Наконец, была открыта и возможность передачи эпигенетических особенностей потомству, появляющемуся на свет в результате полового размножения. А поскольку, как уже говорилось, эпигенетические метки подвержены внешним воздействиям (и, по идее, служат средством обратной связи, благодаря которой режим работы гена может меняться в соответствии с текущими задачами), это вполне естественно рождало надежду найти нечто, возникшее у организма в ходе его жизни и затем переданное потомству. Проще говоря – найти наследование приобретенных признаков. Такая возможность привлекла многих исследователей – и в какой-то момент победные сообщения об открытии всё новых и новых примеров эпигенетического наследования заполонили научную прессу.
Как ни странно, в этом хоре ликующих голосов практически никто не вспоминал, что сам феномен подобного наследования известен в биологии вот уже второе столетие. Еще в 1913 году известный в ту пору немецкий биолог Виктор Йоллос обнаружил, что морфологические изменения, возникающие у инфузорий-туфелек при раздражении, не исчезают при делении клетки и сохраняются, таким образом, в течение нескольких поколений (если только инфузория не переходит к половому размножению). Инфузории, конечно, объект специфический, и с точки зрения наших сегодняшних знаний об организации их генетического аппарата этот эффект кажется не столь уж удивительным[88 - В клетке инфузории имеются два ядра: большое (макронуклеус) и малое (микронуклеус). Малое ядро содержит обычный диплоидный набор хромосом и при делении клетки ведет себя как обычное ядро: хромосомы спирализуются, выстраиваются по экватору, расходятся к полюсам и т. д. При этом с ДНК малого ядра почти не снимаются матричные РНК – эта ДНК используется только как матрица для производства дополнительных копий генома, содержащихся в большом ядре. Последнее содержит в сотни раз больше хромосом, чем малое ядро, и при делении клетки разделяется без митоза, чисто механически, при этом многие его гены не прекращают работать. Таким образом то распределение активности генов, которое имело место перед делением, может в значительной мере сохраняться и после него, поддерживая морфологические изменения.]. Однако вскоре аналогичные явления были обнаружены и у ряда многоклеточных организмов с “нормальным” половым размножением и “правильной” генетикой. Так, например, колорадские жуки, проходившие стадию куколки при необычно высокой температуре, отличаются характерными изменениями окраски. Оказалось, что эти изменения сохраняются (постепенно слабея) у нескольких поколений их потомков, проходивших фазу куколки уже при обычных температурах.
Все это очень сильно напоминало обычные индивидуальные модификации, столь любимые биологией XIX века, – вспомним пересаженные растения Боннье, солоноводных рачков Шманкевича и прочие примеры определенной изменчивости. Однако про обычные модификации к тому времени уже было известно, что они не наследуются. Новый же тип модификаций отличался способностью передаваться (хотя и неустойчиво, с постепенным затуханием) нескольким следующим поколениям. С легкой руки Йоллоса такие изменения получили название длительных модификаций (Dauermodifikationen).
Длительным модификациям не повезло: их открытие пришлось на время разочарования биологов в неоламаркизме и бурного расцвета классической генетики, быстро превращавшейся в царицу биологии. В ту биологическую картину мира, которая формировалась на основе идей генетики, длительные модификации (и вообще негенетическое наследование) вписывались с большим скрипом. К тому же эффект был довольно редким и плохо воспроизводился. Но главное – у тогдашней биологии практически не было методов, позволяющих исследовать механизмы этого явления. Феномен исправно упоминался в солидных учебниках и справочной литературе (как правило, мелким шрифтом или в примечаниях), но почти не исследовался и вообще находился где-то на периферии поля зрения науки. А когда в конце ХХ века были открыты эпигенетические механизмы регуляции активности генов и возможность их наследования, о феномене длительных модификаций уже мало кто помнил: современные молодые ученые редко интересуются публикациями вековой давности, тем более такими, которые в последние десятилетия почти никто не цитировал.
Впрочем, вопрос о времени и авторстве открытия эпигенетического наследования и даже об эквивалентности йоллосовских длительных модификаций изучаемым ныне эпигенетическим феноменам – это, в конце концов, лишь вопрос истории науки. Если не придираться к деталям, то все примерно так и должно быть: сто лет назад открыли интересный феномен, никто его с тех пор не отрицал, но не хватало знаний для его объяснения, а главное – методов для изучения. Теперь такие знания и методы появились – и изучение этого класса явлений идет полным ходом. А уж что за сто лет подзабылось имя опередившего свою эпоху первооткрывателя – обидно, конечно, но понятно и простительно.
Куда больше вопросов и недоумения вызывает не историческая, а содержательная сторона дела. Если непредвзято взглянуть, с одной стороны, на фактические сведения об эпигенетическом наследовании, а с другой – на их теоретическую трактовку энтузиастами (и особенно на их предполагаемую эволюционную роль), испытываешь глубокое удивление и даже некоторую неловкость, как при наблюдении попыток запрячь в карету морского конька.
Мы привыкли думать, что любые модификации (как и вообще любые реакции организма на внешние изменения) в той или иной степени адаптивны. Все концепции, приписывающие модификациям какое бы то ни было эволюционное значение, основаны именно на этом и подразумевают такое свойство модификаций как само собой разумеющееся. Адаптивными “по умолчанию” считаются и эпигенетические изменения, в том числе и наследуемые.
Между тем, если посмотреть на конкретные фактические результаты, служащие основой для рассуждений о “недооцененной” эволюционной роли эпигенетики, то нельзя не заметить, что их адаптивность в лучшем случае неочевидна и может быть им приписана только посредством специальных дополнительных предположений. Например, показано, что при содержании крыс в стрессовых условиях уровень кортизона (одного из гормонов, опосредующих стресс-реакцию) у них будет стабильно повышенным, и это повышение можно отследить вплоть до четвертого поколения – даже если все эти поколения, кроме первого, будут жить в комфорте. Очень интересный эффект – но можно ли считать его адаптивным? Стресс-синдром адаптивен именно как оперативная и краткосрочная реакция организма на неожиданные (и, как правило, неприятные) изменения внешних условий, хронический же стресс действует разрушительно, провоцируя развитие ряда характерных патологий. Можно, конечно, придумать теоретическую схемку, в которой “априорно” повышенный уровень стрессового гормона оказывается полезным для организма – но это нужно именно специально придумывать, а потом еще отдельно доказывать, что такая схема действительно реализуется в данном случае.
Часто же изменения, передаваемые эпигенетическим путем, выглядят явно контрадаптивными, понижающими жизнеспособность унаследовавших их потомков. Возьмем наугад несколько работ, где исследуются эффекты эпигенетического наследования (доказанные или предполагаемые) – и что мы видим? Стресс, пережитый отцом, повышает вероятность развития неврозов и депрессии у его детей. Нехватка фолиевой кислоты (витамина В9) в рационе самцов мышей повышает риск пороков развития у их потомства. Воздействие никотина на предков снижает у потомков (вплоть до правнуков) легочную функцию, увеличивает риск астмы и повышает (!) концентрацию рецепторов к никотину – то есть в случае, если потомки тоже столкнутся с никотином, им для достижения того же эффекта хватит меньших доз. Если самец крысы страдает ожирением, то у его дочерей увеличивается риск развития сахарного диабета. И так далее, и тому подобное. И где тут, спрашивается, адаптивность? Это больше похоже на передачу последующим поколениям хронической дисфункции – своего рода “грехов отцов”, которые падают на их потомков, если не до седьмого, как требует Писание, то, по крайней мере, до второго-третьего колена.
Как мог возникнуть и эволюционно закрепиться столь неудобный для своих обладателей механизм наследования, каков его биологический смысл (и есть ли он у него) – вопрос отдельный и интересный. Он требует и обсуждения, и специальных исследований – и с одним таким исследованием, дающим хотя бы намек на возможную разгадку этой загадки, мы познакомимся в следующей подглавке этой главы. Но куда чаще попытки теоретического истолкования обнаруженных феноменов сворачивают в наезженную колею “наследования приобретенных признаков”, “ламарковской эволюции” и тому подобных интеллектуальных шаблонов полутора-двухвековой давности. От подобных построений порой веет некоторой шизофреничностью: в гипотезах и моделях обсуждается накопление адаптивных изменений, а иллюстрациями и примерами служат явные дезадаптации. И самое поразительное – что авторы таких работ словно бы не замечают этого кричащего противоречия! Впрочем, тем больше доверия к приводимым и обсуждаемым ими фактам. Тут уж никак не скажешь, что ученые-де видят то, что хотят увидеть: в том-то и дело, что хотят увидеть адаптивность и эволюционный механизм, а реально видят трансгенерационные травмы и дисфункции!
Возможная роль эпигенетического наследования в эволюционных процессах вызывает большие сомнения и с чисто теоретической точки зрения. Напомним: все известные сегодня эпигенетические механизмы – это регуляторы интенсивности работы того или иного гена. Под действием внешних факторов эти регуляторы принимают то или иное положение, и оно в той или иной мере наследуется. При продолжении и усилении действия тех или иных факторов положение регуляторов теоретически может с каждым поколением все больше сдвигаться в определенную сторону – но только до некоторого предела. Как известно всякому, кто пользовался приемником или электромясорубкой, любой регулятор мощности ограничен двумя крайними положениями – “выкл.” и “макс.”. И все, что он может делать, – это менять мощность в промежутке между этими значениями. То же самое относится и к молекулярным регуляторам.
Для индивидуального развития и повседневного функционирования организма это не так уж мало. Достаточно вспомнить, что ход едва ли не всех формообразовательных процессов в эмбриогенезе определяется не просто наличием или отсутствием того или иного сигнального вещества (морфогена), но скорее его концентрацией, часто – соотношением концентраций разных морфогенов в каждой конкретной точке зародыша. Да и в последующей жизни едва ли не все существенные характеристики индивидуума – от физических возможностей до распределения активности в течение суток, от времени взросления до склада характера – зависят именно от концентрации определенных молекул в определенных структурах, то есть от интенсивности работы соответствующих генов.
Но совершенно непонятно, как то или иное положение регуляторов может влиять на эволюционные процессы. Во-первых, любой признак, сформировавшийся в результате него, по определению лежит в пределах нормы реакции[89 - О том, что это такое, мы будем подробно говорить в главе 11.] данного генотипа – то есть с эволюционной точки зрения этот признак уже существует, и то или иное положение регуляторов только обеспечивает его проявление в фенотипе (или, наоборот, препятствует таковому). То, что механизмы проявления признака в ряде случаев имеют большое время срабатывания, захватывающее срок жизни нескольких поколений, само по себе очень интересно, но не отменяет того очевидного факта, что эпигенетические изменения не могут создать никакого эволюционно нового признака. Во-вторых, когда выше мы говорили о важной роли именно концентраций сигнальных веществ (а значит, интенсивности работы соответствующих генов), мы не зря каждый раз уточняли – речь идет о концентрациях этих веществ в данный момент в данной точке тела. Но пространственно-временное распределение активности того или иного гена как раз и не может быть предметом эпигенетического наследования: единственная клеточка, с которой начинается развитие всякого сложного организма, может унаследовать от родителей только какое-то одно конкретное положение регуляторов. Потом, у разных клеток-потомков и на разных этапах жизни, оно неизбежно будет меняться – независимо от того, каким оно было исходно. Да, конечно, вполне вероятно, что исходный, допустим, уровень метилирования того или иного гена в оплодотворенной яйцеклетке как-то влияет на уровень его метилирования в тех тканях, где он работает (и именно эти влияния и “ловят” современные работы по эпигенетическому наследованию). Но никакой сложной картины таким образом не передашь и не унаследуешь: цвет бумаги или ткани, на которой выполнен рисунок, может в той или иной мере влиять на его колорит, но не на само содержание. К тому же мы знаем, что и эмбриологические, и физиологические механизмы обычно нацелены на достижение определенного результата – независимо от того, с какого исходного уровня им приходится начинать работу. Именно поэтому эффекты эпигенетического наследования обычно удается выявлять только статистически, на больших выборках – как несколько повышенную вероятность возникновения чего-то, что может возникнуть и без них.
Так что все рассуждения об эволюционной роли эпигенетического наследования – это, скорее всего, рассуждения о том, чего нет.
Сказанное, разумеется, не означает, что сам этот феномен не важен или неинтересен. Выше уже говорилось об интригующей загадке дезадаптивности большинства известных примеров такого наследования. Не менее странными выглядят и другие свойства этих явлений. Например, почему передаваемые таким образом особенности очень часто (хотя в разных случаях по-разному) оказываются чувствительными к полу родителя и потомка: для некоторых удается зафиксировать только передачу от отцов к сыновьям, для других – от матерей к дочерям, для третьих – от отцов к дочерям и т. д.?[90 - Конечно, напрашивается тривиальное объяснение: исследователи, горячо желающие обнаружить хоть какой-нибудь “эффект”, группируют полученные данные так и сяк, пока в каком-то попарном сравнении заветное p-value (вероятность того, что обнаруженные различия случайны) не окажется ниже хотя бы первого “порога достоверности” – 0,05. Но пока такие манипуляции не доказаны, следует исходить из того, что обнаруженные исследователями пол-специфичные эффекты действительно существуют.]
Но, пожалуй, самое важное – это то, что изучение эпигенетических механизмов открывает возможность продвинуться в понимании принципов управления активностью определенных генов в определенных клетках и тканях. Каким образом, через какие молекулярные события те или иные сигналы из внешней среды изменяют расстановку эпигенетических меток на определенных участках генома? Как это происходит в половых клетках, где “нужные” гены заведомо не работают? Как влияет уже имеющаяся расстановка меток на их изменение под действием внешних сигналов?
Ответов на эти вопросы пока нет. Но сегодня уже можно с удовлетворением сказать, что не все ученые оказались зачарованы призраком “эпигенетического ламаркизма”. Пока одни ликуют по поводу якобы доказанной “правоты Ламарка”, другие пытаются разобраться в том, как же на самом деле соотносятся изменения режима работы тех или иных генов в ходе жизни индивидуума с эволюционными процессами.
“…Что любое движенье направо начинается с левой ноги”
В сентябре 2015 года один из ведущих научных журналов мира – Nature – опубликовал очередную работу, посвященную экспериментальной эволюции тринидадских гуппи – тех самых, о которых мы говорили в главе “Отбор в натуре”. Объектом нового исследования группы ученых во главе с одним из основных участников “Проекта Гуппи” Дэвидом Резником стали четыре популяции гуппи. Популяция № 1 жила в относительно большой и глубокой реке с немалым числом хищников, самым опасным из которых для гуппи была хищная цихлида Crenicichla frenata. Популяция № 2 обитала в маленьком ручье, где хищников не было вообще. Молекулярно-генетический анализ показал, что популяция № 2 когда-то отпочковалась от популяции № 1, но как давно это случилось, оставалось неизвестным – хотя было ясно, что она живет в безопасных водах уже много поколений. Популяции № 3 и № 4 ученые создали сами, взяв некоторое число рыбок из популяции № 1, пересадив их в заводи без хищников и подождав, пока там сменятся три-четыре поколения (как мы помним, минимальный срок для наступления заметных эволюционных изменений). По сути эти две популяции воспроизводили популяцию № 2 на самом начальном этапе ее независимой эволюции.
Первым делом ученые взяли достаточное количество взрослых самцов из всех четырех популяций и измерили активность всех генов, работающих в клетках их мозга (это можно сделать, просто подсчитав количество одновременно присутствующих в клетках матричных РНК, снятых с каждого гена). Сравнив активность каждого отдельного гена в разных популяциях, они выявили 135 генов, активность которых в дочерних популяциях отличалась от их активности в популяции № 1. Причем активность каждого из этих генов во всех трех дочерних популяциях была смещена в одну и ту же сторону (увеличена или уменьшена) по отношению к материнской. Это позволяло предположить, что эти сдвиги отражают не случайные различия, а именно приспособление к новым условиям обитания – отсутствию хищников. Активность генов зависит как от внешних сигналов, так и от “содержания” других областей генома – регуляторных участков ДНК, генов так называемых факторов транскрипции (сигнальных белков, регулирующих интенсивность работы других генов) и т. д. – и в меру этой зависимости подлежит действию естественного отбора. Так что изменения в активности 135 генов могли быть суммой “быстрой” фенотипической (эпигенетической) реакции и генетических изменений под действием естественного отбора.
Каков же вклад каждого из этих факторов? Чтобы выяснить это, ученые взяли еще одну группу самцов из популяции № 1 и рассадили по двум аквариумам с проточной водой. В один вода поступала из другого аквариума, где жила хищная креницихла, которой ежедневно скармливали по две гуппи – так что гуппи из первого аквариума постоянно чувствовали запах хищника и “феромон тревоги”, выделяемый его жертвами.
Поскольку рыбки были из популяции № 1, для них эти пугающие сигналы были привычными – в своей родной речке они тоже постоянно сталкивались с ними. Через другой аквариум текла просто чистая вода без всяких следов присутствия хищника – и это для рыбок из популяции № 1 было совершенно новой ситуацией.
Через две недели (довольно большой срок в масштабах гуппиной жизни) ученые сравнили активность уже известных им 135 генов у гуппи из двух аквариумов. Поскольку геном рыбок измениться не мог, различия в активности генов в этом эксперименте могли отражать только индивидуальную фенотипическую реакцию на изменившиеся условия.
И вот тут выяснилось самое интересное. Из 135 исследованных генов 120 (89 %) отреагировали на исчезновение хищников изменением активности в сторону, противоположную той, в которую она менялась в ходе эволюционного приспособления к отсутствию хищников. То есть те гены, которые в ходе эволюции увеличивали свою активность, в ходе индивидуальной реакции ее уменьшали – и наоборот. Наблюдалась даже некоторая пропорциональность: чем сильнее интенсивность работы того или иного гена отклонялась от исходных значений у рыбок, только что столкнувшихся с отсутствием хищника, – тем больше было ее отклонение в противоположную сторону через три-четыре поколения жизни в безопасности. А те 15 генов, у которых направление индивидуальных изменений активности совпало с эволюционным, отличались наиболее слабыми изменениями ее в обоих случаях.
Какое все это имеет отношение к вопросу об эволюционной роли эпигенетических эффектов? Самое прямое: изменения активности генов в ходе жизни особи (в отличие от тех, что происходят в ряду поколений) – это и есть эти самые эпигенетические эффекты в чистом виде. Правда, группа Резника не изучала возможность и степень их наследования – этого не позволяли применяемые методы измерения активности генов. Но и без этого картина достаточно красноречива: эпигенетические сдвиги не “предвосхищают” последующие эволюционные изменения, не “прокладывают пути” для них, а уводят организм куда-то совсем не туда.
Конечно, такая картина получена хотя и для очень большого числа генов, но все-таки для единственного вида и для адаптации к единственному фактору – исчезновению хищников. Но вспомним парадоксальные результаты работ по “эпигенетическому ламаркизму”: едва ли не все они обнаруживают дезадаптивные эпигенетические изменения. В свете работы группы Резника противоположная направленность эпигенетических и эволюционных сдвигов предстает уже не странным невезением энтузиастов-исследователей, а общей закономерностью. Кстати, сами авторы “гуппиного” исследования так прямо и пишут, что фенотипическую пластичность можно использовать для прогноза направления эволюции под действием того или иного нового фактора – например, глобального потепления. Мол, глянул, как изменилась активность тех или иных генов у первого поколения, попавшего под действие этого фактора, – и уверенно предсказываешь, что в эволюции все будет наоборот.
Конечно, если в свете этого оглянуться на историю эволюционной идеи в биологии, на язык невольно запросятся иронические комментарии. Сколько квадратных километров бумаги было исписано за последние двести лет глубокомысленными словесами о “жизненном порыве”, “воле”, “стремлении”, “аккумуляции усилий” и всем таком прочем, что позволяет животному самому влиять на свою будущую эволюцию! Сколько блестящих умов – от Ламарка до Анри Бергсона и Бернарда Шоу – обольщались этой красивой идеей! Сколько упреков, насмешек, патетических обличений было обрушено на “догматиков” – дарвинистов, злостно игнорирующих эту великую творческую силу! И вот оказывается, что эта великая сила способна только создавать дополнительные препятствия на пути реальной эволюции. Разгребать которые приходится все тому же невозмутимому и трудолюбивому “демону Дарвина” – естественному отбору.
Но ирония – иронией, а как же все-таки понимать этот результат? Сами авторы работы предлагают простую трактовку: именно неадаптивность “первой реакции” активности того или иного гена – причина особенно быстрой эволюции ее в ближайших поколениях. Чем вреднее будет модификационное (негенетическое) изменение того или иного признака, чем сильнее оно осложнит жизнь своих обладателей – тем ценнее будет любое мутационное (генетическое) изменение, сдвигающее этот признак в обратную, полезную сторону, тем жестче будет отбор в пользу такого генетического варианта. И тем быстрее, следовательно, этот признак будет эволюционировать в ближайших поколениях. Эта мысль даже вынесена в название статьи Резника и его коллег: “Неадаптивная пластичность усиливает быструю адаптивную эволюцию экспрессии генов в природе”.
Это рассуждение звучит вполне правдоподобно и к тому же косвенно подтверждается некоторыми деталями (сужением размаха колебаний уровня активности для изученных генов в “безопасных” популяциях по сравнению с “живущими в опасности”). Однако остается вопрос: почему же “быстрые” изменения активности генов столь неотвратимо неадаптивны? Даже если они никак не связаны “по смыслу” с тем, чего требуют от организма изменившиеся условия среды, – почему бы им хотя бы в половине случаев не оказаться полезными? Ну или хотя бы нейтральными? Собственно, почему эти гены вообще закономерно реагируют на данное изменение в среде, если эта реакция никак не содействует адаптации к нему?
Вспомним комментарий Владимира Фридмана (см. главу “Отбор в натуре”) к более ранним опытам с гуппиными популяциями, в которых в безопасные дотоле заводи вселяли хищников (то есть делали нечто противоположное тому, чем занималась группа Резника): изменения в индивидуальном поведении рыбок и эволюционные изменения в популяции пошли в разных и до некоторой степени противоположных направлениях. Поведение рыбок (особенно самцов) изменилось в сторону большей заботы о личной безопасности в ущерб заботе о размножении. А в ряду поколений изменения шли в сторону роста “вложения” в размножение за счет уменьшения “вложений”
в собственный размер и безопасность. По сути дела Фридман на чисто фенотипическом уровне заметил тот же парадокс, который сейчас группа Резника наглядно показала на уровне генетическом и эпигенетическом. И то, что при рассмотрении одной лишь активности генов и ее изменений кажется загадочным и противоестественным, при взгляде на фенотипическое выражение приобретает вполне внятный смысл.
Получается, что мы (как и авторы статьи в Nature) не вполне правы, называя индивидуальные изменения “контрадаптивными” или “неадаптивными” на том лишь основании, что они противоречат последующим эволюционным изменениям. Возможно, что на самом деле эти сдвиги по-своему адаптивны – только это совсем другая стратегия адаптации, ставящая во главу угла другие приоритеты и потому плохо совместимая с адаптацией эволюционной.
Пояснить сказанное можно такой аналогией. Представим себе авиаконструктора, которому нужно, допустим, модернизировать истребитель. Ему приходится учитывать целый ряд противоречащих друг другу требований: машина должна летать быстрее, чем предыдущая модель (и чем самолеты противника), но при этом нельзя уменьшать ее маневренность, ослаблять вооружение, уменьшать время, которое она способна находиться в воздухе, и т. д. Чтобы улучшить одни и сохранить на прежнем уровне другие важные в бою характеристики, конструктор решает пожертвовать долговечностью машины – исходя из того, что подавляющее большинство этих самолетов все равно не доживет до опасной степени износа. Но вот истребитель спроектирован, принят на вооружение, поступил в войска и оказался там на попечении аэродромных техников. Техник не имеет возможности существенно изменить конструкцию самолета, да и вообще его задача – не обеспечить превосходство данной модели, а поддерживать в наилучшем из возможных состояний конкретную машину. Поэтому он будет стараться улучшить то, что он может улучшить, – в частности, продлить ресурс самолета, то есть сделать его более долговечным. И даже не задумается о том, что это противоречит логике изменений, внесенных конструктором, – да и всему тренду развития истребительной авиации.
Можно предположить, что если не во всех, то во многих случаях примерно так же соотносятся индивидуальные изменения с эволюционными. Механизмы индивидуальной пластичности не могут сколько-нибудь существенно изменить морфологию данной особи, не говоря уж об особенностях индивидуального развития, которое она давно прошла. Они могут изменить только ее поведение и – в тех или иных пределах – “текущую” физиологию. И меняют их так, чтобы обеспечить максимальную безопасность и благополучие данной особи. Именно под эту задачу эволюционно формировались сами эти механизмы: их наличие выгодно, если наступившие перемены окажутся краткой полосой, которую надо просто пережить любой ценой. Если же оказывается, что перемены – всерьез и надолго (хотя бы на несколько поколений), в дело вступает естественный отбор, изменившееся направление которого меняет саму “конструкцию”. Но отбор работает не с индивидуальными особями, а с генами, и потому его приоритеты могут быть совсем иными.
Разумеется, это только одна из возможных гипотез. Разнонаправленность индивидуальных и эволюционных изменений может объясняться чем-нибудь совсем иным – например, ошибками компенсационных механизмов. Вспомним, что в отсутствие хищников самцу выгодно быть цветастым и уделять брачным демонстрациям как можно больше времени и сил. Но когда хищники исчезли внезапно, может резко увеличиться частота встреч с самцами-конкурентами – отчасти из-за реального роста никем не поедаемой популяции, отчасти из-за того, что все разом перестали прятаться. А частое лицезрение соперников приводит к стрессу, который угнетает и яркую окраску, и сексуальную активность. Через три-четыре поколения естественный отбор исправит эту ошибку (например, повысив порог стресс-реакции), изменения пойдут в “правильную” сторону – но это будет уже потом.
Можно, наверно, придумать и еще какие-нибудь модели. И запросто может статься, что в одних случаях верны одни объяснения, в других – другие. Пока что же нам важен сам факт разнонаправленности индивидуальных реакций особей и дальнейшей эволюции популяции. И, исходя из него, можно предположить, что даже в тех случаях, когда направление этих изменений совпадает (см. ниже) – это именно всего лишь совпадение, а не внутренняя связь. Полагать, что эпигенетические изменения (независимо от того, насколько они адаптивны) могут со временем перерасти в эволюционные – это примерно то же самое, что верить, будто полив огорода из лейки может вызвать дождь.
Здесь внимательный читатель удивится, а может, даже и возмутится: позвольте, но ведь примеры “эпигенетической наследственности”, приведенные в предыдущей главке, явно неадаптивны не только с точки зрения долгосрочной (эволюционной) стратегии, но и с точки зрения отдельной особи! Какую пользу ей могут принести повышенная склонность к неврозу, сахарному диабету или никотиновой зависимости? С другой стороны – а как же знаменитые модификации, “определенная изменчивость”? Нас же в школе учили, что они обычно адаптивны! Читатель, знакомый с биологией более глубоко, вспомнит и про “генетическую ассимиляцию” и “эффект Болдуина” – ситуации, когда те или иные изменения (предположительно адаптивные) возникают сначала как чисто фенотипические варианты, а через какое-то число поколений становятся генетически предопределенной нормой. Как это совместить с закономерностью, открытой группой Резника?
Вряд ли кто-то сейчас может дать исчерпывающий и бесспорный ответ на этот вопрос – ведь “эффект Резника” обнаружен совсем недавно. Но самое простое и очевидное соображение можно прочитать в любом приличном учебнике по теории эволюции: адаптивные модификации – не первые шаги эволюции, а ее результат, сформированный ею приспособительный механизм. Помимо всего прочего это означает, что они “включаются” в ответ на что-то, с чем данный вид более-менее регулярно сталкивался в ходе своей предыдущей эволюции. Знаменитое растение стрелолист под водой выпускает лентовидные листья, а над водой (или при произрастании на суше) – стреловидные, потому что он может расти и на мелководье, и на берегу, и на тех участках, которые несколько раз за лето успеют побывать то дном, то берегом. Геном стрелолиста эволюционно “знаком” с обоими наборами условий и имеет свою программу формирования листа для каждого из них. Рачок артемия имеет разное строение своих хвостовых члеников в зависимости от того, при какой солености воды он развивался, потому что этот рачок может жить в водоемах с разной соленостью, и его геном готов к любому ее значению в довольно широких пределах. Если бы хищные рыбы в тринидадских ручьях то появлялись во множестве, то полностью исчезали (или если бы каждый малек гуппи мог со сравнимой вероятностью оказаться как в водоеме, кишащем хищниками, так и в безопасном), возможно, гуппи бы выработали механизмы, позволяющие особи при одних и тех же генах развиваться либо в форму, приспособленную к опасностям, либо в форму, выгодную при их отсутствии, – а то и переходить из одной в другую в течение жизни. Но попадание рыбок из зашуганной хищниками популяции в безопасную заводь – явление слишком редкое и нерегулярное, чтобы стать фактором отбора; вселение хищников в мирные прежде воды случается еще реже, а их полное исчезновение там, где они прежде водились в изобилии, может быть только чудом (или началом очередного эксперимента в рамках “Проекта Гуппи”). Понятно, что предыдущая эволюция не снабдила вид никакими инструкциями на случай столь нештатных ситуаций[91 - “Новые реакции организма никогда не имеют приспособительного характера”, – писал уже знакомый нам Иван Шмальгаузен в 1946 году, когда никто не только слыхом не слыхал ни о каких эпигенетических механизмах, но и не представлял материальную природу генов и механизмы их работы. Остается только подивиться проницательности выдающегося эволюциониста.].
Если это так, то не удивительно, что в большинстве экспериментов по эпигенетическому наследованию наблюдаемые сдвиги оказываются явно неадаптивными. Дело в том, что факторы, вызывающие их (от постоянного обилия высококалорийной еды до воздействия никотина), – это то, с чем данный вид в своей предыдущей эволюции не сталкивался. Попытка извлечь из прежнего эволюционного опыта какой-то “план действий” на такой случай неизбежно приводит к ошибкам – как попытки программы распознавания текстов опознать символ, отсутствующий в применяемом ею алфавите. Точно так же, как эта программа обязательно поставит какой-нибудь знак вместо неизвестного ей, геном существа, столкнувшегося с “эволюционно непредвиденной” ситуацией, попытается отождествить ее с какой-то известной. В результате какие-то изменения в распределении активности разных генов произойдут (и, возможно, даже отчасти передадутся ближайшим потомкам), но практически наверняка они будут неадекватными.
Несколько отступая от темы нашей книги, можно сказать, что такой подход присущ не только генетическим и компьютерным программам, но и, например, мозгу – в том числе и человеческому. И не только наивным умам простаков, всерьез интересующихся, к какой части паровоза и как именно нужно припрягать лошадь или как вернуть в интернет скачанную и прочитанную книгу, но и изощренным умам ученых. В самом деле, разве не так отреагировала большая часть научного сообщества на открытие эпигенетических эффектов и эпигенетического наследования? На совершенно новые (и в общем-то непростые для нормального человеческого воображения) явления многие исследователи смотрят сквозь “оптику” давно обветшавших теорий, пытаясь влить “вино” новых фактов в “мехи” старых понятий и концепций.
Но наш разговор все-таки не о нравах человечества в целом и мира науки в частности, а об эволюции. Мы убедились, что закономерные изменения особей в течение их индивидуальной жизни могут совпадать или не совпадать с направлением эволюции вида или популяции, но в любом случае являются результатом предшествующей эволюции, а не причиной или движущей силой дальнейшей. И что эпигенетические эффекты, как бы они ни были интересны сами по себе, не могут рассматриваться как возможная основа для ламарковской эволюции.
Итак, наследование приобретенных признаков невозможно?
И все-таки они наследуются. Но…
Параллельно с попытками найти опору для ламаркизма в иммунологии и эпигенетике продолжались и поиски “наследования по Ламарку” в микробиологии. Казалось бы, флуктуационный тест Дельбрюка и Лурии навсегда закрыл вопрос, однозначно доказав: приспособление бактерий идет путем естественного отбора. Однако и в этой области нашлись люди, не верящие в однозначные и окончательные запреты. В конце 1980-х эту роль взял на себя профессор Гарвардской медицинской школы Джон Кернс.
Объектом его экспериментов была все та же кишечная палочка. Но если Дельбрюк и Лурия травили ее смертоносными фагами, то Кернс морил голодом. Для опытов он выбрал мутантный штамм lac
с поврежденным геном фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар – лактозу. Множество бактерий этого штамма Кернс высевал на среду, единственным питательным веществом в которой была именно лактоза.
Разумеется, в каждой чашке Петри находилось несколько клеток, у которых произошла обратная мутация и ген восстановил свою активность. Они успешно росли и размножались, давая начало видимым невооруженным глазом колониям. Но в отличие от опытов Дельбрюка и Лурии основная масса высеянных бактерий не погибала: они проходили через два-три деления, а затем переставали размножаться, ограничивали до предела процессы жизнедеятельности и в таком виде ждали лучших времен.
И для некоторых из них такие времена наступали! Если через сутки после посева в каждой чашке вырастало всего несколько колоний, то на следующий день к ним добавлялось еще несколько, потом еще… Число колоний, способных расщеплять лактозу, росло прямо пропорционально времени с момента посева на селективную среду. Динамика точно соответствовала эволюции по Ламарку: длительное действие фактора, к которому надо приспосабливаться, целенаправленно вызывало адекватные изменения в геноме.
Статья Кернса и его сотрудников, опубликованная в 1988 году в авторитетнейшем журнале Nature, наделала много шуму. Потребовалось длительное масштабное исследование, на которое был выделен специальный грант (целевые гранты на проверку и анализ уже полученных результатов – огромная редкость в современной науке), чтобы разобраться в механизме обнаруженного феномена.
Вообще-то еще до опытов Кернса биологи знали, что в неблагоприятных условиях частота мутаций в бактериальных клетках резко возрастает. Известен даже механизм этого явления: при стрессе в клетке работает альтернативная ДНК-полимераза, делающая гораздо больше ошибок, чем “штатная”. Казалось бы, это не может объяснить обнаруженной Кернсом картины – мы же помним, что голодные клетки не делятся, а значит, и ДНК в них не удваивается. Невозможно сделать опечатку в ненапечатанном тексте!
Однако при внимательном рассмотрении оказалось, что у использованного Кернсом штамма ген лактазы был выведен из строя не до конца: мутантный фермент все-таки мог расщеплять молочный сахар, но его активность составляла около 2 % от нормальной. При таком скудном рационе ни о каком делении, конечно, не могло быть и речи. Но тут вступало в действие другое фирменное ноу-хау бактерий – амплификация. С гена, чьего белка клетке остро не хватает, снимается несколько копий, которые тут же встраиваются в геном. А, скажем, шесть экземпляров мутантного гена – это уже целых 12 % нормальной ферментативной активности, достаточно, чтобы потихонечку размножаться. Кривая ДНК-полимераза исправно штампует со всех экземпляров копии со множеством опечаток, и рано или поздно среди них оказывается спасительная – обратная мутация, восстанавливающая нормальную активность фермента. На месте медленно размножающейся кучки бактерий-инвалидов вырастает обычная колония полноценных клеток. И исследователь наблюдает, как там и сям всё новые клетки обретают исходно отсутствовавшую у них способность расти на лактозе и успешно передают ее по наследству…
У некоторых ученых, разбиравшихся в этом казусе, сложилось впечатление, что хитрец Кернс нарочно так подобрал параметры своего эксперимента, чтобы получить красивую картинку “эволюции по Ламарку”. Но как бы то ни было, и этот случай в конечном счете свелся к дарвиновской модели: факторы среды не определяли направление мутаций, а лишь увеличивали их частоту и отбирали удачные варианты.
Однако, как вскоре выяснилось, история на этом не закончилась.
Филипп Хорват и Родольф Баррангу тоже работали с бактериями, но поначалу мало интересовались фундаментальными проблемами. Они были сотрудниками компании Danisco – крупнейшего мирового производителя пищевых ингредиентов и культур-заквасок. В последних широко использовался микроб Streptococcus thermophilus – одна из самых распространенных молочнокислых бактерий, сбраживающих лактозу в молочную кислоту. Слабым местом этого микроба была чувствительность к фагам (в том числе и к уже знакомому нам фагу Т1) – случайное заражение могло привести к массовой гибели стрептококков на всем предприятии. Однако и у стрептококка регулярно возникали штаммы, устойчивые к фагам, и это качество передавалось всему их потомству. Задачей Хорвата и Баррангу было выяснить механизм этой устойчивости.
К моменту начала их работы уже было известно, что стрептококк защищается от фагов иначе, нежели кишечная палочка. Если последняя обычно изменяет структуру белков-рецепторов на своей поверхности (лишая тем самым фага способности связываться с ними), то у первого ключевую роль играет так называемая система CRISPR/Cas. Ее ядро – локус CRISPR, участок генома, состоящий из коротких (23–47 пар) одинаковых последовательностей нуклеотидов, между которыми вставлены последовательности почти столь же короткие (21–72 пары), но уникальные. Набор этих вторых последовательностей, получивших название спейсеров, уникален для каждого штамма стрептококков – настолько, что, создав необходимую базу данных, можно уверенно определить, каким штаммом заквашен йогурт в вашем стаканчике.
Число спейсеров и разделяющих их повторов в разных клетках различно и может достигать нескольких сотен, но обычно их меньше 50. Рядом с локусом CRISPR лежит обширная область cas, объединяющая ряд обычных структурных генов, кодирующих различные белки. Общее у этих белков то, что все они работают с нуклеиновыми кислотами – это нуклеазы, полимеразы, нуклеотид-связывающие белки и т. д.
Заразив стрептококков фагом Т1 и выделив устойчивые клетки, Хорват и Баррангу сравнили их локус CRISPR с аналогичным локусом исходного штамма. Оказалось, что у выживших стрептококков этот локус вырос на одну или несколько пар “повтор – спейсер”. Причем “текст” нового спейсера всякий раз точно совпадал с каким-нибудь из участков ДНК… того самого фага, устойчивость к которому приобреталась. Чтобы убедиться в неслучайности этого совпадения, ученые методами генной инженерии вставили в локус CRISPR неустойчивого стрептококка искусственный спейсер из ДНК фага. Измененная таким образом клетка оказалась устойчивой к фагу, с которым никогда не сталкивалась.
Дальнейшие исследования позволили реконструировать весь механизм бактериального иммунитета. При вторжении фага шанс на спасение получают те клетки, которые успевают вырезать из ДНК агрессора кусочек и вставить его в свой CRISPR, дополнив стандартным повтором. Затем со всего локуса считывается РНК, которую тут же нарезают на короткие кусочки: две половинки повтора по бокам (каждый повтор – это палиндром, одинаково читающийся слева направо и справа налево) и спейсер между ними. Поскольку центральная часть такой РНК комплементарна какому-то участку генома фага, она прочно и избирательно связывается с ним – после чего Cas-белки опознают по этой метке вирусную ДНК и уничтожают ее. (Кстати, первоначальное “взятие пробы” чуждой ДНК, интеграцию ее в локус CRISPR, нарезку считанной с этого локуса РНК на функциональные фрагменты и т. д. тоже делают Cas-белки, только другие.) И отныне данный фаг никогда не сможет заразить клетки данного штамма – по крайней мере, пока не изменит тот участок своего генома, который бактерия ввела в свою “антивирусную библиотеку”.
Все это изрядно напоминает работу антител у высших животных. Но формирование антител – процесс строго дарвиновский, хотя и искусственно ускоренный (см. главу “Неотвратимая случайность”). А вот в системе CRISPR/Cas нет ни случайных изменений, ни отбора: запись в геном, обеспечивающая адаптацию к новому фактору среды (в роли которого выступает фаг), вносится непосредственно самим этим фактором. И в дальнейшем наследуется всеми потомками приобретшей его бактерии: по набору спейсеров в данной клетке можно узнать, с какими фагами сталкивалась она и ее предки. То есть все происходит именно так, как постулировал Ламарк.
При этом система CRISPR/Cas – не такая уж экзотика. Правда, у эукариотных организмов, в том числе у всех многоклеточных, ее нет[92 - Впрочем, позднее сходную систему защиты от вирусов (имеющую иной механизм, но тоже основанную на использовании вирусных нуклеотидных последовательностей и включающую наследование создаваемых таким образом “антивирусных библиотек”) обнаружили у червей-нематод.], но ею обладают почти все археи (безъядерные организмы, выделяемые ныне в особый домен[93 - Домен – наивысшая категория современной биологической таксономии; подтаксонами домена являются царства. Так, царство животных, к которому принадлежим мы, наряду с царствами растений, грибов и др. относится к домену эукариот.] живых существ) и около половины изученных бактерий. Имеется она и у кишечной палочки (причем локусы CRISPR впервые были обнаружены именно у этой бактерии – еще в 1987 году). Однако в эксперименте Дельбрюка и Лурии она никак себя не проявила: на срабатывание этого механизма требуется время, а литические фаги вроде использовавшегося в эксперименте Т1 этого времени бактерии не дают, слишком быстро приводя ее к гибели. К тому же эффективность работы CRISPR/Cas у разных штаммов кишечной палочки очень разная, а Дельбрюк и Лурия использовали штамм, у которого она минимальна, а иногда и вовсе не работает.
После открытия Хорвата и Баррангу (опубликованного в 2007 году) система CRISPR/Cas в считаные годы превратилась сначала в один из самых популярных объектов исследования, а затем – в важнейший инструмент генно-инженерных манипуляций. Что и понятно: разобравшись в механизме ее работы, молекулярные биологи получили принципиальную возможность вырезать из генома любую конкретную последовательность. Это открывает головокружительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для практической медицины: используя механизм CRISPR/Cas, можно вырезать из генома встроившиеся туда вирусы (в том числе ВИЧ – и такие исследования идут сейчас во многих лабораториях) или чрезмерно активные, не реагирующие на сигналы регуляторов гены. Но нам сейчас интересно не практическое применение этого механизма, а его принципиальное значение. Так что же – прямая наследуемая адаптация организма к факторам среды все-таки возможна?
Да, возможна. Но только к одному-единственному типу факторов: повреждающему агенту биологической природы. Иными словами, информация из окружающей среды может быть прямо внесена в геном только в том случае, если она уже выражена на языке генетического кода[94 - Как справедливо указывает биолог Георгий Рюриков, такое использование бактериями вирусной ДНК можно рассматривать как специфическую разновидность горизонтального переноса генов – основного способа перекомбинирования генетического материала у прокариот. (Подробнее о горизонтальном переносе и его эволюционном значении см. главу 8 и главу “Интерлюдия или сюита? Или Легенда о Золотом веке”.)]. Таким образом “ла-марковское наследование иммунитета” у бактерий оказывается тем самым исключением, которое подтверждает правило: отбор случайных изменений – единственный способ создать новую генетическую информацию. Все остальные механизмы, включая самые экзотические, могут ее хранить, переносить, переписывать, собирать, использовать – но не создавать.
В рамках модного сейчас геноцентрического подхода (согласно которому основным объектом отбора и единицей эволюции является не организм, не популяция, а “репликатор”: способная к самовоспроизведению нуклеотидная последовательность, грубо говоря – ген) видеть тут какое-то “ламарковское” наследование вообще нет оснований: вирусные последовательности остаются такими, какими были, никакого направленного влияния среды на них не происходит, а что при этом они попадают из вирусного генома в “библиотеку” бактерии – так ведь лидеры геноцентрического направления (такие как Ричард Докинз) давно объяснили нам, что гену в общем-то все равно, какой именно организм-носитель будет обеспечивать его, гена, сохранение и воспроизводство – лишь бы какой-нибудь обеспечивал.
Правда, как раз геноцентрическая интерпретация данного явления наталкивается на одну трудность: попав в “антивирусную библиотеку” клетки, вирусная последовательность начинает работать на предотвращение размножения собственных копий. Иными словами, организм (в данном случае – бактерия) использует репликатор против его же собственных эволюционных интересов. Всемогущий репликатор, главное действующее лицо эволюции оказывается лишь орудием в руках собственного носителя – организма!
На это, конечно, можно возразить, что здесь вирусной последовательности противостоят на самом деле тоже репликаторы, причем целый коллектив – гены бактерии. Их много, их “умения” весьма разнообразны, и они действуют согласованно – не удивительно, что они могут заставить фрагмент вирусного генома действовать в их интересах и против его собственных. В конце концов, если многие паразиты могут управлять поведением зараженных ими хозяев, часто заставляя последних ускорять собственную гибель или целенаправленно заражать своих собратьев – то что особенного в том, что бактерия может делать то же самое с фрагментом вирусного генома, вообще не имеющим собственного поведения? С другой стороны, в системе CRISPR/Cas используются небольшие фрагменты вирусной ДНК, фактически неспособные ни к кодированию вирусных белков, ни к самостоятельной (не подконтрольной бактерии) репликации, то есть не являющиеся репликаторами в докинзовском смысле.