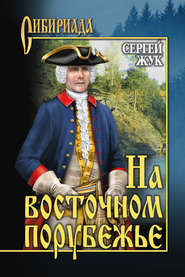скачать книгу бесплатно
Соколиная охота на Руси имеет древние корни. Да и как иначе, если русские кречеты, родина которых – Русский Север и Поморье, считаются самыми крупными птицами из рода соколиных, а сапсаны – самыми быстрыми. Именно соколы, привезенные из Москвы, высоко ценились в Персии и странах Европы.
Лучшими посольскими дарами считались кречеты. Так, в 1616 году, когда решался вопрос о займе на войну с литовцами, в качестве даров были посланы кречеты, что и решило судьбу денежного займа в пользу России. Особым почитателем соколиной охоты был русский царь Алексей Михайлович Романов. В его правление вся жизнь государства соприкасалась с сей птицей. Даже купцы платили подорожную подать голубями на прокорм государева соколиного хозяйства.
Но мода меняется, и интерес к соколиной охоте несколько поутих. Так и капитан Павлуцкий имел весьма слабое представление об этой забаве. Тем не менее это не помешало ему приобрести ловчего сокола и в короткий срок стать большим поклонником соколиной охоты. Птица оказалась хорошо обученной и с немалым стажем, что позволило капитану в короткое время овладеть навыками охоты. С того момента Павлуцкий превратился в заядлого соколятника, что значительно повысило его статус в офицерской среде и сделало популярным не только в полку. Даже высокородные князья перестали чураться его общества и зачастили в Окуневскую слободу, где квартировала рота Павлуцкого, и все было обустроено для соколиной охоты. Теперь он владел десятком отборных кречетов, а денщики более походили на сокольничих, нежели на солдат.
Прослышав о капитане, содержащем соколов, губернатор, князь Долгоруков Михаил Владимирович, тоже не преминул наведаться, якобы с инспекцией, в Окуневскую слободу.
– Что же вы, капитан, – пробурчал при встрече губернатор, – при нашей скучной жизни не порадуете губернатора соколиной охотой?!
– Я ведь, господин губернатор, даже не мог помыслить о столь высокой для меня чести! – откровенно признался Павлуцкий, чем весьма польстил князю.
– То-то! Теперь знайте: я большой охотник до соколов. И вот что, капитан! Бросай все дела и порадуй старика. А то прогневаюсь, – пошутил он вдобавок.
Князю Михаилу Владимировичу шел уже шестой десяток. Возраст почтенный, но чувствовал он себя прекрасно и на покой не собирался. Не ладится мир между князьями Долгоруковыми и Романовыми: вечно встрянут в противную партию. Вот для Михаила Владимировича и аукаются участие в побеге царевича Алексея и другие делишки супротив воли императора Петра. Тот и отослал его в Сибирь губернатором, ну да ладно, что не в ссылку.
Не прошло и двух часов, как все было готово к охоте. Стояла осень в своей лучшей поре: самое время для утиной охоты. Полуденное солнце, еще не остынув, палило по-летнему жарко. Князь Михаил Владимирович и капитан Павлуцкий следовали верхами вдоль озера. Утка, чуя неладное, забилась в камыши и вела себя тихо.
– Вам приходилось наблюдать за парной охотой? – спросил капитан.
– Да, конечно! Это когда один сокол поднимает дичь, а другой ждет ее и в нужный момент атакует! Надо сказать, крайне редкий случай и требует искуснейшего обучения.
– Тогда я вас удивлю, сказав, что сейчас мы запустим сразу пятерых кречетов, – заявил Павлуцкий, с удовольствием наблюдая за реакцией губернатора.
– Взгляните! Сокол, что сидит у меня на руке, уже стар, и атакует не так молниеносно. Это мой первый кречет. Но он дюже сметлив, и мне кажется, командует другими кречетами.
– Ну, вы, батенька, хватили! Сокол – птица бестолковая, куда ему до таких тонкостей, – засмеялся Долгоруков.
Всадники достигли нужного места, прервав разговор.
Капитан пустил первого кречета, затем один за другим в небо взмыли еще четыре. Поднявшись высоко над землей, птицы стали кружить вокруг озера. Это уже выглядело необычно. Затем старый кречет опустился; и птица, грозно крича, чуть не касаясь крылом зарослей, стала метаться над ними, над поверхностью воды. Утки, притаившиеся, было, в камышах, но испуганные соколом, стали одна за другой подниматься в воздух, стремясь покинуть беспокойное озеро. Тут раздался клекот птицы, похожий на сигнал к атаке, и соколы враз, молниеносно, накинулись на своих жертв. Удар был столь стремителен, что острые, как бритва, когти срубали головы селезней на лету, и падающие утки, кувыркаясь в воздухе, обагряли землю своей кровью. Скорости, красота птиц и природы – на этом удивительном фоне особенно отчетливо вырисовываются трагизм и величие жизни. Завораживающая картина и была тем шоу, ради которого устраивалась соколиная охота.
На этот раз она оказалась весьма удачной. Князь Долгоруков получил немалое удовольствие, а на прощание бесцеремонно заявил:
– Капитан! Селезней я, пожалуй, с собой заберу. У тебя тут, кроме денщиков, прислуги нет, а я из столицы искусного повара захватил. Приготовит дичь – пальчики оближешь. Пожалуй завтра ко мне вечерять.
Эта встреча оказалась судьбоносной для Павлуцкого. Глянулся он Долгорукову своей спокойной обходительностью и тем, что заполнил соколиной охотой бездельное время, коего в губернаторской жизни было довольно. Взамен Дмитрий Павлуцкий заполучил в покровители влиятельного вельможу, чья звезда еще далеко не закатилась, а после смерти императора Петра Алексеевича снова пошла на подъем.
– Иметь в услужении верных офицеров для такого вельможи, как князь Михаил Владимирович Долгоруков, просто необходимо, – рассудил Павлуцкий. Так что служба в гвардии виделась ему почти реальностью.
3
В ожидании сибирского губернатора, что ныне по требованию Верховного тайного совета находился в Санкт-Петербурге, драгунский капитан пребывал в самом благостном настроении. Причины вызова были ему неизвестны. Что это может быть, как не касаемо службы и большой важности? Незнание, однако, лишь разжигало воображение.
Тем временем события уже разворачивались неудержимо, и судьба капитана Тобольского драгунского полка была предрешена.
В июне 1727 года князь Долгоруков вернулся в Тобольск. Новости, что он привез с собой, оказались крайне неожиданны. До такой степени, что первоначально капитан даже растерялся и не знал, как к ним относиться. Экспедиция на северо-восток Сибири мало напоминала его мечты о службе в гвардии.
– Капитан Павлуцкий, я до сих пор не слышу от вас слов благодарности, – первым начал разговор губернатор.
– Но я надеялся продолжить службу под вашим началом, – ответил капитан достаточно твердо.
– Служба по именному указу императрицы значит много больше! Это прямая дорога к майорскому званию, славе и пожалованным из казны имениям.
– В указе императрицы нет моего имени, – разочарованно заметил Павлуцкий.
– Зато мне есть прямое указание, и, обрати внимание, достаточно конкретное: «По усмотрению послать из обер-офицеров искусного человека и с ним Шестакова». Заметь, – с ним! Императрица указала мне определить старшего командира для Анадырской экспедиции, и я определяю тебя, капитана Павлуцкого. С чукчами ты расправишься без труда и земли приведешь под государыню. Народец дикий, даже о железе ничего не ведает. Супротив лучного боя с костяными наконечниками у тебя будут пушки и фузеи. Вернешься в Санкт-Петербург с докладом о виктории! Вот о чем теперь думать надо. А пока набирай верных людей, чтобы они твою сторону держали супротив Шестакова.
– А что он за человек, этот Шестаков? – спросил Павлуцкий.
– Мужик. Грамотный, настырный, неглупый, раз до самого Сената добрался. Что за дело? Тебе с ним детей не крестить! Согнешь в бараний рог, и пускай в экспедиции по хозяйству хлопочет, – завершил разговор князь.
4
В сентябре 1727 года в Тобольск прибыл казачий голова Афанасий Шестаков с офицерами адмиралтейской службы, причем никто из них в главенстве Афанасия Федотовича не сомневался: за время дороги все убедились в его способностях и твердости.
Немного вернемся в прошлое. Тобольск заложен как острог летом 1587 года на реке Иртыш при впадении Тобола. Поставил град на Троицком мысу воевода Данила Чулков при царе Федоре Иоанновиче.
Первоначально Тобольск играл роль восточного форпоста России. Но уже через десяток лет, в лихие времена конца XVI века, исключительно удобное положение определило его дальнейшую судьбу как столицы Сибири. И надо сказать, что сей град был на слуху у всей Европы и Азии после Москвы и Санкт-Петербурга.
Здесь преувеличений нет: Тобольск действительно стал пропускными воротами к сибирской мягкой рухляди, восточным морям и в Китай, на чьи богатства Европа зарилась издревле.
Через Тобольск шли торговые пути из России в Китай и Среднюю Азию, а купцы из Великого Устюга, Казани, Москвы были частыми гостями. Бухарцы и хивинцы доставляли сюда разноцветную парчу, шелковые, бумажные и шерстяные ткани, сушеные овощи и различные сладости.
В 1708 году, во времена государственных реформ императора Петра Алексеевича, Тобольск становится центром всей Сибирской губернии, включавшей Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Нет ничего удивительного, что снаряжение Анадырская экспедиция Шестакова должна была получить в Тобольске. Здесь уже на полную мощь работали казенные заводы, мануфактуры и салотопенные предприятия. Имелся и свой оружейный завод. А уж в закромах, то есть в арсенале и множестве имперских кладовых, добра – на зависть любому губернскому городу центральной России – было не счесть. Следует все-таки подчеркнуть, что Тобольск был не обычный губернский город, а столица огромной и богатейшей территории, отстоящей от Москвы и Санкт-Петербурга за тысячи верст, так что губернатора Сибири, коим пребывает ныне здравствующий князь Долгоруков Михаил Владимирович, правильнее именовать наместником. В его ведении все ресурсы, территории – все, вплоть до армии.
И внешне Тобольск весьма пригляден. Спорить с Москвой или Санкт-Петербургом, конечно, не берется, но в военном отношении много не уступит. Вот кремль свой имеется, что высится на горе в самом центре и обозреваем со всех сторон. Гора рассечена оврагом, по которому проложена деревянная дорога наверх к Дмитриевским воротам. Там мостовая уже вымощена булыжником и называется Прямской, или Софийским взвозом.
Афанасий Шестаков сотоварищи прибыли в Тобольск по реке и теперь от городского плотбища пешком следовали через Софийский взвоз во дворец наместника. Склоны оврага укреплены камнем, так что путь в Тобольский кремль пролегает в окружении стен высотою до десяти саженей.
Восемь деревянных острогов сменяли один другой, пока наконец Тобольск не обрел каменные крепостные стены и девять башен кремля. Нависающие над обрывом, они выглядели красиво и грозно. Знающие военное дело люди, без сомнений, укажут на искусную фортификацию и мощное вооружение. Крепость была способна противостоять многотысячной современной армии. Хотя откуда ей, армии, тут взяться и по какой надобности?
Много сил и средств положено на строительство города во времена первого сибирского губернатора, князя Матвея Петровича Гагарина, прослужившего на своем посту более десяти лет. Срок немалый и объясняется, прежде всего, Северной войной, полностью занимавшей мысли императора Петра Алексеевича. За великими баталиями дела сибирские были забыты и перепоручены на долгие годы князю Гагарину. Сия беспечность послужила хорошим уроком самому императору да и всему роду Романовых.
На территории кремля возвышается Софийский собор. Правая сторона от Прямского взвоза – центра православия Сибири – так и называлась Софийской частью; слева от взвоза раскинулся Вознесенский город с дворцом наместника.
Миновали Дмитриевские ворота, что наподобие лаза расположились под зданием рентерии, по своему назначению, напоминающее американский форт Нокс. Здесь находится хранилище государственной пушной казны. Не берусь назвать количество тех несметных богатств, что сторожатся в ее стенах, но то львиная доля всей казны Русского государства. И неслучайно Тобольский драгунский полк несет службу в здешнем граде.
В те годы мягкая рухлядь ценилась весьма высоко. В торговых делах и в государственных порой золото заменяло. Один лишь недостаток, что монет из него не начеканишь.
Заслуга строительства рентерии тоже принадлежит князю Гагарину. Человеком он был смелым и решительным. Но строительство – это малое! Ради удобства сибирской столицы Гагарин повелел изменить русло Тобола, прорыв канал, и этим сдвинул его слияние с Иртышом на несколько верст. Такое в голову придет не каждому, а уж осуществить план – тем более.
За свершениями немалыми возвысился князь Матвей Петрович Гагарин не в меру. Возомнил себя великим, гордыня помутила его разум. Задумал изменить государственное обустройство: Сибирь от империи отделить! И закончились его правление необычно: повесил Гагарина император за воровские, низменные дела на Васильевском острове перед фасадной частью коллегии. Висел князь-бедолага на железной цепи многие месяцы в назидание министрам да сенаторам. Дело то прошлое, а рентерия по-прежнему полна мягкой рухлядью, что ясачными сборами да десятиной торговой со всех уголков Сибири ежегодно сюда доставляется, а затем переправляется в Санкт-Петербург, в казначейство Российской империи. Помимо мягкой рухляди рентерия хранит и другие сокровища. Старые курганы, во множестве рассеянные по Великой степи, в последние годы стали вожделенными объектами исследования воевод и ученых. Их раскопки стали обыденны, и виной тому золотые украшения скифских времен. Ежегодно по несколько пудов золотых поделок поступали в тобольскую казну. Действительно, можно голову потерять!
А между тем Афанасий Шестаков в окружении морских офицеров, вошел во дворец наместника, точнее, губернатора Сибири. Со времен князя Гагарина здесь мало что изменилось: вот только нынешние наместники – все более из опальных – ежели и творят что с опаской и оглядкой, то либо воровское или себе в усладу.
5
Казачий голова едва успел привести себя в порядок, как был принят губернатором – князем Михаилом Владимировичем Долгоруковым.
– Заждались тебя, казак! Аль не торопишься службу государеву править? – начал князь, решив сразу взять в разговоре верх.
То была аудиенция; Шестаков, уставший с дороги, в гордом одиночестве предстал перед наместником и его многочисленной свитой, состоящей из офицеров драгунского полка.
Как командующий вооруженными силами князь тоже был в мундире драгунского офицера, к тому же изрядно украшенном золотыми пуговицами и шитьем золотыми нитями по отворотам.
В убранстве приемного зала явно присутствовали провинциальное излишество и кичливость богатством. Можно было догадаться, что изобилием гобеленов, портьерных тканей хозяева тщетно пытались скрыть дефекты строительства, которое не могло идти ни в какое сравнение с изумительным зодчеством итальянских мастеров в столичном граде.
Осматриваясь и собираясь с мыслями, Афанасий Шестаков молчал, этим явно вызывая недовольство губернатора.
– Поспешаем, ваша светлость! В самый аккурат к распутице до Тобольска добрались! Сейчас до морозов будем хозяйственными делами заниматься. Согласно бумагам канцелярии в Тобольске дюже много добра получить надо. А после по зимнику уйдем на реку Илим, и если Бог даст, полой воды дождемся в Усть-Кутском остроге, а там сплавимся на Якутск. Так что, господине губернатор, все вроде бы ладно.
– Как уверенно держится мужик! – отметил про себя губернатор. – Не иначе мои вороги, Толстой и Меньшиков Алексашка, ему догляд поручили? Донесет сиволапый, что не так, а те сразу до императрицы потащат!
Столь неожиданно пришедшая мысль до крайности расстроила князя Долгорукова. От страха неприятно взмокла спина, а по лбу предательски потекли капли пота.
– Не можется мне нынче, – неожиданно произнес губернатор. – Ты уж, голова, ступай, отдохни с дороги, а завтра прошу снова ко мне. Устроим мы не иначе ассамблею, как в лучшие времена при Петре Алексеевиче, там и представишь своих мореходов, и между менуэтами о делах поговорим.
Все стали расходиться. А вот капитану Павлуцкому было не по себе. Не в меру решительный, сейчас он чувствовал растерянность и крайнюю досаду. Князь Долгоруков, высокопоставленный вельможа, спасовал перед простым казаком, не имевшим и звания-то воинского! Титул казачьего головы, хотя и высокий, и почетный, но, будучи старинным званием служилого казачества, не попал даже в Табель о рангах, утвержденный Петром Великим в 1722 году. Сие означало, что статус Афанасия ниже любого служащего, занесенного в табель.
Павлуцкий молча ждал разъяснений от губернатора, но тот лишь произнес:
– И ты, капитан, ступай. Не время еще. Завтра в присутствии всех офицеров объявлю свое решение.
6
Один хотел, чтобы этот день не наступил вовсе, другой, наоборот, торопил его начало, а кому-то было и безразлично; но время не остановить, и его лучшая подруга – судьба ткет свой ковер людских жизней неумолимо и с немалой фантазией.
Хитер князь Михаил Владимирович, ничего не скажешь. Ассамблею неспроста устроил, даже музыкантов отыскал, чтобы народ потешить. Но, главное, решил надсмеяться, поглумиться над Афанасием Шестаковым.
– Уж где-где, а на ассамблеях бывать голове не приходилось и тамошних порядков он не знает, – рассудил губернатор. – От стыда сгорит казак, пусть знает свое место мужичье!
После обеденной службы все вновь собрались во дворце наместника. На этот раз среди приглашенных были и дамы. Все больше жены и дочери офицеров. Особо волновались незамужние молодые дамы. Как же, ведь ассамблея! Да еще, говорят, будут молодые офицеры из Адмиралтейства!
Плох тот офицер, у которого на такой случай не окажется нового парадного мундира. Насчет драгунов сомневаться не приходилось. Хоть и не Санкт-Петербург, но подобное мероприятие всегда в ожидании. Вполне обыденно, чтобы и у офицера, отправленного с экспедицией на край света, тоже на всякий случай оказался с собой праздничный новенький мундир.
Прямо скажем, большой присутственный зал был переполнен блестящим обществом как в прямом, так и в переносном смысле.
Офицеры Тобольского драгунского полка, составлявшие большую часть мужской половины залы, были одеты в уставные мундиры. По тем временам это был большой шик. Форма, определенная Петром, служила лучшим пропуском на ассамблеи.
Драгунский камзол синего цвета с красными отворотами. Длинные черные ботфорты, черная треуголка с серебряным кантом и шпага. Парадный вид дополнял белый шарф – необходимый элемент мундира: именно по нему, по его материалу и убранству определялась происхождение и состояние офицера. Шарфы изготовлялись из тканей от бумажных до шелковых, могли украшаться тончайшим шитьем, жемчугом и другими каменьями.
Молодые офицеры Адмиралтейства, подштурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев, тоже были в зале. От них еще исходил флер петербургских салонов, но формой похвастаться не могли: не успел Петр утвердить форму для офицеров Российского флота. Не было в том резону: малым числом они кружились тогда между иноземными лейтенантами да капитанами, а те носили форму свою, определенную их императорами да королевами. Вот и рядились адмиралтейские офицеры, как могли. На радость молодым, существовала форма гардемарина, что негласно потихоньку превращалась в офицерскую. Ну а наши адмиралтейцы были, как на подбор, из гардемаринов, так что выглядели они не хуже драгун: черная треуголка, красные штаны, белые чулки и черные штиблеты.
Главный элемент мундира – это удлиненная куртка-бострога, узкая, приталенная, со стоячим воротником. Она появилась на русском флоте с первыми голландскими матросами и прижилась на многие десятилетия. Куртка обшивалась золотой бязью, украшалась большими дорогими пуговицами, плюс непременная шпага – и в результате получался очень даже симпатичный мундир, позволяющий проявлять полную свободу индивидуальности, в чем весьма и преуспели наши офицеры.
Настроение у них было приподнятым: столь серьезная ассамблея, да еще в их честь, была первой в жизни юношей. Молодые, здоровые, с обветренными лицами моряки с восхищением ловили хотя и мимолетные, но весьма обещающие взгляды тобольских красавиц, не догадываясь, что те кокетничали более для того, что бы позлить своих кавалеров. Ведь в провинции для дам жизнь блеклая, однообразная.
Старший по команде, штурман Якоб Генс, тоже был в зале. Голландец по происхождению, он долгие годы находился на русской службе. Одетый в чисто голландскую бострогу, с красным платком на шее, шрамом на лбу, полученным в пьяной драке, он походил на старого пирата. При нем находилась длинная старая шпага, каких на флоте ныне не сыщешь, хотя в старину ей подобные были любимым абордажным оружием морских пиратов. Возраст у Якоба Генса уже немалый, здоровье пошаливает. Жизнь прошла буйно, да и пороков хватает. Ром, девки, карты – основным дополнением к службе. Вот и в экспедицию подался, дабы скрыться от карточных долгов. Словом, можно считать его присутствие в зале весьма примечательным и экзотичным.
А вот Афанасию Федотовичу Шестакову тут пришлось тяжко. Если он и беспокоился в Санкт-Петербурге о собственной одежде, то более о теплом исподнем белье и вязанной шерстяной рубахе, что придают телу тепло и приятность свободы в движении. Благо хоть прихватил пожитки, в коих хаживал по столице. Вещи добротные, слов нет, но во всем подчеркивают простолюдина безродного. Скрипя зубами от злости, он старался держаться в сторонке, надеясь исчезнуть при первой возможности.
Неожиданно оборвалась музыка и в залу вошел губернатор, князь Михаил Владимирович Долгоруков. Одетый в платье, что носилось при дворе императора, он сверкал, будто в золотой оправе, наглядно демонстрируя богатство и благородство своего рода.
Не сразу он отыскал среди гостей казачьего голову, а отыскав, испытал подлинное наслаждение.
– Что же ты, голова, в сторонке прячешься? – обратился он к нему с притворной любезностью. – В твою честь ассамблея устроена. Веди ко мне своих офицеров, представь их, порадуй старого сподвижника Великого Петра.
Багровея от сознания собственной нелепости, Шестаков подвел своих офицеров, Генса, Федотова и Гвоздева, к губернатору.
– Вот они, птенцы Петровы! – воскликнул с пафосом наместник. – Лететь им под парусами по морям восточным к землям Японским! Добрых тебе, Афанасий Федотович, помощников дали. За флотские дела можно не беспокоиться, а над солдатами и служивыми у тебя доброго обер-офицера нету! Вот я и повелеваю во исполнение желания императрицы. Назначаю старшим командиром над всеми воинскими и служилыми людьми, чтобы во всех баталиях неизменную викторию одерживать, капитана нашего драгунского полка, потомственного дворянина Дмитрия Ивановича Павлуцкого! И тебе, голова, в оной партии велю поступать во всем с общего согласия!
Афанасий Шестаков, сгорая от стыда, мало вслушивался в речь губернатора, уяснив для себя лишь то, что к нему назначается капитан Павлуцкий, и не более. Вот только поляков казачий голова не любил крепко, да еще взор капитана ему не совсем не понравился. Смеялся тот явно над казаком; впрочем, что тут поделать, если и вправду смешон! Вскоре Шестаков покинул ассамблею, так и не осознав пока, насколько трагичны для него и всей экспедиции будут ее последствия.
В тот день в отличие от Афанасия капитан пребывал в эйфории: губернаторским повелением он назначен старшим офицером! Для Павлуцкого это означало главенство над всей экспедицией, обеспечивающее майорское звание, награды и в дальнейшем службу в гвардии.
Волею обстоятельств, злого умысла, а может, просто глупостью конкретных сановитых вельмож два, в общем-то, достойных человека стали врагами. Отныне твердость характера и смелость, целеустремленность, ум, широта мышления – качества, присущие обоим – будут направлены на подавление и даже уничтожение друг друга; и как бы они ни старались уберечь экспедицию от своих распрей, эти отношения неминуемо поведут ее к гибели.
7
Вечером в избу, где квартировал Шестаков, завалился пьяный Генс. Он и разъяснил казацкому голове суть распоряжения губернатора.
– Не пойму я вас, русских! Что вы за народ! Голова одно велит, руки другое делают, а ноги вообще ундер-деферент. Обошел вас, сударь, капитан Павлуцкий. Теперь он главный командир экспедиции, а вы при нем помощником состоите.
– Господи! Что же деется?! – растерялся Шестаков. – Вот ты, штурман, слышал собственными ушами, как адмирал Сиверс величал меня главным начальником всего Камчатского края! Так?
– Так. А может, и не так. Разбирайтесь сами, господа!
После этих слов, что определили его позицию, Генс, пошатываясь, удалился на покой. Голова же глаз не сомкнул, придумывая страшные кары нежданно объявившимся врагам. Жестокие картины рисовались одна за другой. Но наутро, немного поостыв и рассудив более здраво, решил: «Что же, господин губернатор! Будем играть: сами затеяли. Продолжу-ка разыгрывать роль глупого мужика. Здесь, в Тобольске, пусть ваша возьмет: а то не ровен час и на дыбу могу угодить. Подождем. Но как до Усть-Кутского или Чечуйского острога доберемся, сразу тебя, капитан Павлуцкий, в бараний рог скручу: там губернатора с драгунами нет и никогда не будет! Вы, господа хорошие, ведь тоже понятия не имеете об Якутске и тем паче об Анадыре, а у меня там вся жизнь прошла! Сия экспедиция мною задумана, и я буду ей голова, за это готов жизнь положить!»
Наутро Афанасий Шестаков занялся делами как ни в чем не бывало. Некому более порадеть об экспедиционном хозяйстве. Павлуцкий, кроме батальных дел, ни в чем не смыслит. Счета, и того не знает, в грамоте вовсе не преуспел, а тут хлопоты о снабжении, снаряжении большой команды! Все надо пересчитать, проверить качество, внести записи в книги. Для Афанасия тут особых трудностей нет: по молодости служил приказчиком в Анадырском остроге.
Неожиданное смирение казачьего головы капитана Павлуцкого удивило до крайности. Не ожидал он столь легкой победы. Долго наблюдал за тем, как проворно Шестаков занимается хозяйственными делами, не стал мешать и без всяких вопросов удалился.
«Способный к хозяйству казак, – отметил про себя капитан. – Я в этих котлах, справе, харчах, что и как хранить, перевозить, ничего не смыслю. Попробую с ним сойтись по-хорошему, лишний раз трогать не стану, пусть управляется пока самостоятельно, вплоть до прибытия в Якутск. Да и губернатор тоже посоветовал».
Так до поры до времени сложилось замирение: в данный момент оно устраивало всех.
Князь Долгоруков успокоился и стал дожидаться окончания срока губернаторства. Тем более, из столицы стали доходить добрые вести: после кончины императрицы Екатерины I и провозглашения императором малолетнего Петра II, внука Петра Великого, влияние князей Долгоруких при дворе резко пошло вверх. Даже замахнулись на самого Алексашку Меншикова.
А вот наших героев Шестакова и Павлуцкого судьба повязала накрепко; временное замирение более походило на пружину, что затягивалась медленно и поначалу без особого напряга для того, чтобы в последний момент, когда усилий сдержать ее не хватит, придать событиям молниеносный рывок. Рывок такой силы, что распахнет человеческие души, перевернет жизнь всех участников экспедиции, поставив героев перед жестоким выбором и внеся новый драматизм в их судьбы.
8
В конце ноября 1727 года экспедиция Шестакова покинула город Тобольск и по свежему зимнему насту устремилась на восток. Сейчас ее целью был Якутский острог – последняя база перед рывком на Анадырь и Чукотку.
Вторая сотня лет завершается, как русские пребывают в Сибири. Немало городов и острогов поставлено. Но вызывает наибольшее уважение в мире и бесценна для самого необъятных размеров края та транспортная сеть, что охватила всю сибирскую территорию и действует круглый год по расписанию. Лишь на осеннее да весеннее перепутье прерывается ее работа.