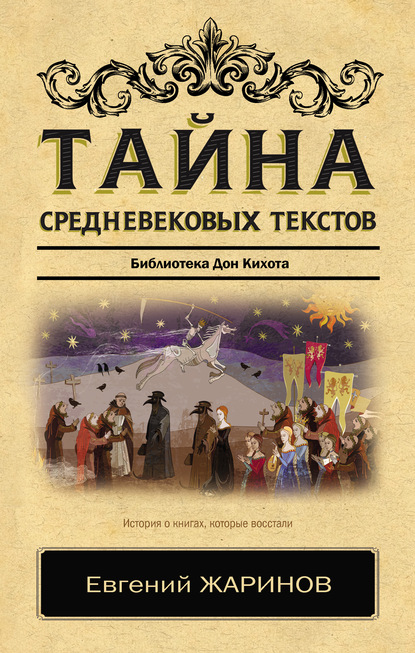
Полная версия:
Тайна cредневековых текстов. Библиотека Дон Кихота
Лет тридцать назад так же светило солнце. После зимних каникул начинался второй семестр, и профессор Борис Иванович Ляпишев, сидя за столом, – стоять за кафедрой уже не было сил, – в большой аудитории, вход прямо по центру колдовского атриума, тихим голосом рассказывал им, зеленым студентам, о Средних веках, а к весне, когда солнце начинало потихоньку припекать, – о Возрождении. Рассказывал как свидетель, как очевидец. Наверное, и в этом ему помогала все та же Фея Розового Куста, распространяя по огромной лекционной аудитории еле уловимый аромат розовых лепестков.
И каждый молчал и слушал, ловил жадно произнесенное слово, произнесенное этим завораживающим шепотом, сумевшим очаровать в свое время даже воинственных викингов, сумевшим завладеть их сердцами так же, как он завладел сердцами студентов брежневской эпохи. Воронов даже представил себе довольно странную картину: сидят они, студенты 79-го года выпуска: Коля Афанасьев, потом станет крутым чиновником и войдет в совет директоров ТВЦ, Коля Арутюнов, порвет с филологией и сделается потрясающим блюзистом, создаст группу «Лига блюза», Володя Подколзин, уйдет в строительный бизнес и там добьется многого, Шишкин, сядет на 10 лет за разбой, а по выходе в 90-е станет директором банка, Рустам Бунеев, создаст пошлую газетенку Speed-info, Сева Луховицкий, так и останется школьным учителем, Воскресенский, уедет в Америку, и его рукоположат в сан священника в филадельфийской церкви, Сашка Рычков, найдет в ЦГАЛИ никому не известный автограф Пушкина и умрет от сепсиса на следующий год после окончания института. Он первый со всего курса перешагнет черту. Так вот, сидят они все, живые и мертвые, и слушают, слушают Ляпишева, и вдруг бесшумно в аудиторию входят ребята в форме вермахта. Стараясь не шуметь, они ставят на пол свои «шмайсеры», аккуратно складывают пилотки – немцы, что возьмешь, – просовывают их под погоны и тоже слушают. Ляпишев узнает их, кивает, извиняется перед аудиторией и незаметно переходит на немецкий. И ребята в форме вермахта благодарно кивают ему в ответ. Мол, узнал, узнал профессор, не случайно мы его пайками в складчину подкармливали. Кто из них выжил? Кто вернулся домой? Кого зарыли в русской земле, где-нибудь под Сталинградом, – неизвестно. Да это и не важно. Есть только тихий голос Ляпишева да незабываемый аромат, аромат лепестков, лепестков роз…
Это Фея, невидимая, бесшумно ходит по рядам и бросает из корзинки пригоршнями усохшие слегка цветы. Лепестки застревают в волосах слушающих, ложатся им на плечи. Казалось, что пошел мягкий цветочный дождь.
И жизнь каждого от этого наполнялась смыслом. Один станет бандитом, а затем банкиром, но и в этом сценарии будет гореть жарким пламенем алый лепесток: банкир-бандит издаст сборник стихов. Другой создаст Speed-info. Пошлость, конечно. Но в каждом брошенном на грязный асфальт газетном листке может оказаться втоптанный в нечистоты лепесток, оставшийся еще от той памятной лекции. Как в том выпуске «Московского комсомольца», посвященном трагедии в Нефтекамске. Трагедия отца и сына, словно случайно попавшая в сети большая океанская рыба, будет плескаться и биться в мелком газетном формате, пытаясь вырваться в свободную стихию других, высоких смыслов и невероятных глубин, на бескрайний простор некоего не написанного еще Большого Романа. Эта трагедия, как и весь Роман, просто будут ждать своего автора. Рычков найдет неизвестный автограф Пушкина в груде никому не нужных бумаг – и умрет. Наверное, он напрямую соприкоснется с Великой Книгой, которая потребует от искателя, может быть, слишком большую цену – жизнь. Увидевший Бога – умрет. Книга опасна. На Нее надо выходить подготовленным. В малом Она доступна каждому, а в большом? Например, автограф Пушкина? Возьмет и убьет, если ты не готов, если душа не чиста или не познал каких-то истин. Не познал, как Сашка Рычков, в силу возраста. И вдруг – бац: Книга призвала тебя. Ты сразу нашел ляпишевский лепесток, нашел и понял, зачем он. Значит – цель достигнута и жить больше незачем: «Умри, Денис, лучше не напишешь!» – как воскликнул, обращаясь к Давыдову, тот же Пушкин, чей автограф так неосторожно и нашел Саня Рычков, когда ему, Сане, исполнилось всего 25. Ровно половина от возраста Дон Кихота. Но при чем здесь Дон Кихот? Просто Ляпишев годам к пятидесяти очень на него похож был: та же бородка клинышком, тот же острый книзу подбородок и тот же аскетизм во взоре. Большая, Великая Книга, которую и пересказывал тихим голосом своим на каждой лекции профессор Ляпишев, давала знать о себе повсюду: иногда жестоко, иногда милостиво. Просто никто не мог понять этого. И все удивлялись, почему старик за любой, даже самый плохой ответ на экзамене ставит 4 или 5. И никак не ниже. А и то сказать! Ну, в самом деле, что за дело: прочитал студент полный список заданной по теме литературы или не прочитал ничего. Все равно никто из них по молодости даже и не догадывался, что происходит, не догадывался, что речь идет на лекциях не о литературе в целом, а об одной лишь Книге, которая каждый раз меняет свое обличье под пером того или иного автора. Варианты старик не очень ценил. Он больше на принцип шел. Старику в этом смысле было легко: ему покровительствовала Фея, Фея Розового Куста. За что и почему Ляпишеву выпала такая честь? Этого не знал никто.
После изнурительного зачета, на котором он проявил необычайное мягкосердечие, Воронов вновь встретился с доцентом Сторожевым. Встретились они на кафедре, на третьем этаже, в 313-й аудитории.
Ты чего такой радостный, Женька? Словно весь изнутри светишься.
Скажи, Арсений, Ляпишев давно умер?
Лет десять назад, а что?
Ничего. Я его сегодня видел.
Как показалось Воронову, доцент нисколько не удивился такой новости. Помолчав немного, он только спросил:
Где?
Что где? – не сразу въехал профессор.
Где он тебе явился?
По дороге на зачет я вслед за тобой проходил через атриум…
Значит, в атриуме, да?
Да.
А где, Женька, где конкретно? В каком месте произошла встреча?
А почему это так важно?
Потом объясню.
В самом центре.
Серьезно?! В самом центре? Не шутишь?
А чего мне, собственно говоря, шутить. В центре зала, то есть атриума, я и столкнулся нос к носу с Ляпишевым, который уже не один год считается покойным. Меня удивляет, Арсений, что поражен ты не самим фактом подобной встречи, а, скорее, географическими или, точнее, геометрическими координатами того места, где все и случилось. Можно подумать, что покойники в нашем университете расхаживают по зданию, словно у себя дома. Кстати, а Гога Грузинчик тоже того?
Чего того?
У нас учился?
Нет. Он закончил институт Азии и Африки.
Значит, он лекций Ляпишева не слушал?
Слушал. Я его сюда приводил. Старик уже совсем плох был и читал так, что его еле слышали даже первые ряды. Студенты обнаглели вконец: ходили, выходили из аудитории, чавкали. Только мы с Гогой как вкопанные сидели. Нет. Поначалу – мы как все. И Гогу я даже приглашать не решался: ну что ему на живой труп смотреть. А затем я совсем обнаглел и начал стул ставить рядом с Ляпишевым. Он на меня смотрел, как собака, которая сказать что-то хочет, но не может. И слезы, слезы у него в глазах. Мне стыдно стало, и я от этого отказался. Но вот очень скоро настало время диктофонов. И я принялся записывать еле слышный голос Ляпишева. А потом мы с Гогой этот шепот начали расшифровывать.
И что? Что получилось в результате?
Гога стал ходить на лекции, как на работу. Ни одну не пропускал. Сидит. Ничего не слышно. А он все равно со старца глаз не сводит, словно изо всех сил старается в мысли ляпишевские проникнуть. А после лекции заберет у меня записи – и к себе, под предлогом, что он их, записи, сам расшифрует и на машинке распечатает. Тогда мы о компьютерах только мечтали. Гога в этом смысле был кремень. Обещал – сделал. Вот тогда я и начал вчитываться в эти самые лекции, Гогой Грузинчиком расшифрованные.
Ну и что же ты вычитал там?
Очень странные вещи.
Какие же?
Профессор Ляпишев, видно, поняв, что он уже ни до кого не достучится, кроме нас с Гогой, решил лекций в обычном смысле слова не читать. Все это было накануне его кончины. Он, кажется, оставлял нам, двум школярам, что-то вроде завещания.
Так! Все интересней и интересней получается. Как сказала Алиса, залезая в кроличью нору. Что это за завещание такое, Арсений?
О Дон Кихоте.
Не понял.
Вместо лекций Ляпишев перед смертью еле слышным голосом надиктовывал нам все, что он думает о Дон Кихоте и о Сервантесе.
О Дон Кихоте?
Да, да! Ты не ослышался. О Дон Кихоте. Но только не о литературном персонаже, а о живом, понимаешь, живом человеке по имени Алонсо Кихано, действительно жившем в XVI веке в Испании. Мы сначала с Гогой решили, что старик с ума спрыгнул. Ляпишев об этом Алонсо Кихано, как о ближайшем родственнике, рассуждал.
Воронов еще раз вспомнил, что Ляпишев к годам пятидесяти необычайно начал походить на хрестоматийный образ Дон Кихота. Видно, в этом внешнем облике нашло свое отражение внутреннее состояние Бориса Ивановича, когда он сам достиг возраста Алонсо Кихано. Затем это сходство незаметно исчезло, когда профессор перевалил на седьмой десяток. Именно таким, слегка грузным и неповоротливым, и застал молодой тогда еще студент Воронов любимого профессора. Сторожев с Грузинчиком встретили его уже после восьмидесяти. Облик Дон Кихота окончательно растворился в старческой немощи. Остались лишь одни фотографии. Они-то и попались как-то на глаза Воронову.
Ляпишев рассуждал в том духе, – продолжил Сторожев, – что суть этого романа, который, по его мнению, лишь по недоразумению принимают за роман в обычном смысле слова, так вот, суть этого произведения человек может постичь лишь после пятидесяти, когда совпадут, по его словам, необходимые временные циклы.
Так, так. Опять мистика.
Как хочешь воспринимай это, Женька, но мы с Гогой, когда во всем разобрались и записи расшифровали, то поверили в это безоговорочно.
Наверное, поэтому Гога твой себе руку в Ленинке и оттяпал.
И тут Воронова словно током ударило. Он невольно еще раз вспомнил про своего университетского товарища Сашку Рычкова. В том случае отрубленной кистью не обошлось. Все сепсисом закончилось. И могилкой преждевременной. Воронов вспомнил, как поразила его тогда, в далеком 1982 году, эта смерть. Рычков, казалось, излучал здоровье: маленький, коренастый, в очках и с дурацкими усиками, которые ему страшно не шли. Почему-то он себя считал человеком бунинской поры, выражался всегда высокопарно и девчонкам не только не нравился, а вызывал легкое отвращение, как сыр камамбер с плесенью. В университете за глаза его прозвали Раков-Сраков, за настырность и туповатость, наверное, и еще за бунинскую таинственность в придачу. Рычков буквально убивал всех своими рассказами о предках-боярах. Скорее всего, предки эти действительно были, но противные усики больше шептали о каком-нибудь парикмахере и явном вырождении, нежели о благородстве. Однако энергии в пареньке было – хоть отбавляй. Как-то они вдвоем на летних каникулах решили прогуляться от Опалихи до музея-усадьбы Архангельское. Это довольно приличное расстояние. Рычков пробежал его как ни в чем не бывало. Затем сделал круг по самому музею и в конце предложил так же пешком вернуться в Опалиху. Вернулись. Сели на электричку. Добрались до Москвы, и будущий открыватель пушкинского автографа побежал от «Рижской» до своего «Аэропорта» на своих двоих, упорно игнорируя услуги муниципального транспорта. И это почти через пол-Москвы! И вдруг такой человек взял и без всяких видимых причин умер. А Гога, если верить Сторожеву, алхимией увлекся и про Книгу рассуждал в клубе книгочеев-гурманов совершенно открыто. Нет ли здесь какой связи? Не сама ли Книга такое с Гогой проделала? И это еще полбеды. Можно сказать, парень отделался легким испугом. Но если Гога Грузинчик чего нахимичил, или, точнее сказать, наалхимичил со своим философским камнем, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. И что, если Книга одной Гогиной рукой не обойдется и потребует в качестве искупительной жертвы чего-то большего?
Пожалуй, ты прав, – продолжил доцент. – Грузинчик слишком уж во все поверил. А не поверить, Женька, никак нельзя было.
Ух! Арсений, у меня даже ото всего этого дух захватывает. Ты хоть покажешь мне, что вам Ляпишев на диктофон нашептал?
Несколько недель спустя. Начало февраля следующего года. Здание старого цирка, арендованное под экстренный съезд увечных звезд шоу-бизнеса
В потоке слов погибал смысл любого слова.
Это был рев океана.
Шум толпы на арене Колизея.
Слабый смысл слегка улавливался в монотонном крике и тут же исчезал.
Каждая увечная звезда занимала в зале то место, которое она считала достойной ее статусу.
В представительской ложе по праву устроилась Примадонна.
Все остальные, которые помельче, заняли места поодаль.
Не обошлось и без скандала.
Решено было охранников в зал не пускать, поэтому звезды выясняли отношения сами, размахивая увечными конечностями. Все это походило на заседание средневековой Боярской думы, где нередко вспыхивали стычки между представителями знатных родов, кому ближе к царственной особе сидеть.
Но еще до начала, до общего сбора вокруг цирковой арены, огражденной мощной металлической сеткой, перед входом в цирк, на улице, возникла проблема с парковкой. Звезды шоу-бизнеса принялись утирать друг другу нос, подкатывая на шикарных «хаммерах», «Кадиллаках», «линкольнах» и «крайслерах», баррикадируя этими дредноутами всю проезжую часть. И без того в переполненной транспортом Москве благодаря великому столпотворению, помимо эпидемии членовредительства, начала распространяться эпидемия автомобильных пробок.
Шум внутри на арене дублировался все нарастающим шквалом автомобильных гудков снаружи.
Сюда же подвалили и толпы фанатов. Они притащили с собой плакаты и выражали свою любовь к звездам громкими выкриками, речовками, свистелками и прочими воплями. Между фанатами на небольшом пространстве перед зданием намечалась самая настоящая Куликовская битва.
Для полноты картины не хватало верховых. И они не замедлили появиться.
Над толпой поплыли небольшие облачка – это был пар, исходивший от мощного лошадиного дыхания. Мороз стоял отменный. Милиционеры в шлемах со стеклянными забралами, верхом на ухоженных лошадях напоминали средневековых рыцарей.
Москва медленно, но верно возвращалась в эпоху раздора и смуты. Сценарий жизни современного города переписывался чьей-то безжалостной рукой.
Как удалось собрать всю эту разношерстную толпу? Ведь у каждой звезды был свой график гастролей, свои агенты, импресарио, своя юридическая служба. Договориться с такой оравой людей было почти невозможно.
Но все усиливающаяся эпидемия членовредительства сделала строптивых звезд необычайно сговорчивыми. Тем более что устроители из издательства «Палимпсест» обещали по системе методолога Щедровицкого быстро найти выход из сложившегося положения. Для коллективного решения проблемы общий сбор был жизненно необходим.
Речь шла о какой-то игре, что-то вроде «Игры в бисер» Германа Гессе, в конце которой в результате общей психотерапии должен был замаячить свет в конце туннеля.
Пришлось подкупить гадалок и личных астрологов. Благо у многих эти служители оккультизма оказались одни и те же. Они-то и давали нужный совет и нашептывали кумирам срочно отложить гастроли, но обязательно явиться в начале февраля в здание цирка на Цветном бульваре, дабы выправить наконец слегка пошатнувшуюся карму.
Артистам же самого цирка и дирекции была предложена такая сумма, что отказаться от нее никак нельзя было. А некоторым атлетам и факирам предложено было и поучаствовать в общем сценарии – за дополнительную плату, разумеется. Администрация цирка решила, что это незапланированное шоу может быть неплохим рекламным ходом, и дала согласие.
Для того чтобы привлечь внимание столь необычных зрителей, для начала на арену выпустили пять свирепых львов, которые с характерным ревом сразу принялись грызть железные сетки, и это слегка утихомирило собравшихся.
Все сели там, где их застал звериный рев, и, как напуганные дети, уже не спорили, а, съежившись, напряженно ждали, что будет дальше.
Затем появился дрессировщик. Ударами хлыста и громкими выкриками он окончательно заставил замолчать не только грозных львов, но и перепуганную толпу. Дрессировщик почему-то был одет наподобие римского легионера: в блестящий шлем и сегментату, кожаную рубаху с нашитыми на нее металлическими пластинками. Особый красный шарф был наброшен на шею, не давая доспехам натирать ее. На плечах лежала ярко-красная короткая накидка. На ногах – металлические поножи и коричневые кожаные сандалии.
Точность исторического костюма с первого взгляда говорила о серьезности намерений. Этот костюм, как, впрочем, и другие, пришлось заранее купить в клубе исторического фехтования за приличную сумму. Расходы, разумеется, за счет того же издательства «Палимпсест».
В цирке воцарилась гробовая тишина. И тогда под соответствующее музыкальное сопровождение (это была прерывистая барабанная дробь) на арене стали появляться другие артисты, переодетые в черные туники первых христиан эпохи императора Нерона.
От такого скопления народа звери стали проявлять заметное волнение. Один лев сделал опасное движение. Римский легионер рванулся к нарушителю спокойствия.
В воздухе распространился едкий запах, запах дикого зверя. Крылья ноздрей округлились. Зрачки расширились. Одна из звезд тайком нюхнула какую-то дрянь. Каждый из собравшихся невольно подумал, что сейчас этих христиан голодные львы начнут раздирать на части прямо у них на глазах.
Дрессировщику в одеянии римского легионера пришлось еще раз щелкнуть кнутом. У замешкавшегося кокаиниста рассыпался драгоценный порошок.
И тогда из репродукторов донесся голос. Это был доцент Сторожев. Стелла уговорила филолога принять участие в шоу.
«Вся общественная жизнь человеческих коллективов протекает под знаком массовых психозов и массовых психопатий, – срывающимся от волнения голосом начал читать свой текст доцент. – Чем интенсивнее бьет ключ общественной жизни, тем чаще и глубже охватывают ее коллективные безумия. Одна психическая эпидемия сменяется другой. И так длится без конца! Безумная страсть к кровавым зрелищам лежит в самой природе человека. Какой популярностью у римского народа пользовались цирковые зрелища с дикими боями со зверем. Это было увлечение, сравнимое лишь с эпидемией».
Свет в зале резко погас. Освещенной осталась лишь арена. Затем и арена утонула во мраке, и в беспорядке заходили лучи прожектора. Львам это не понравилось. Они принялись рычать. Бросаться на железную клетку. Каждый почувствовал себя совершенно беззащитным в этом хаосе света, тьмы, рева, беззащитным перед необузданной властью дикой природы. Раздался душераздирающий женский визг. Непонятно было, откуда он доносится: из зала или с арены. Словно цепная реакция, женский визг распространился по всему цирку. Визжать женщинам понравилось, и они дали себе полную волю.
Прекратите! – рявкнула Примадонна из своей ложи. Но ее никто не услышал, и бабоньки продолжали вразнобой повизгивать кто во что горазд.
Тут еще раз затряслась железная решетка. Это жалкое препятствие, защищающее зрителей, казалось, может рухнуть в любой момент.
Ой! – раздалось в зале. – Да они нас всех сожрут!
Начали дружно вскакивать с мест. Решетка пошла ходить ходуном. Вновь раздался рев!
Звездам преподносили высший образец reality show.
Звукооператор давал фонограмму диких саванн, словно улавливая настроение и страхи толпы, словно дирижируя женскими испуганными возгласами. Звездами манипулировали как хотели, манипулировали теми, кто сам мог управлять бесчисленными массами.
Когда свет вновь вернулся, то львов за оградой уже давным-давно не было, а в песке и опилках лежали окровавленные куски человеческих тел.
Толпа дружно ахнула.
Кто-то упал в обморок.
Кто-то застрял у самого входа.
Но уйти так никто и не решился: каждого удерживала какая-то сила. Вид крови привлекал к себе.
Всех снедало любопытство.
Тела и кровь были, разумеется, бутафорскими, но сделанные столь искусно, что толпа звезд невольно разразилась дружными аплодисментами, когда одна мертвая голова вдруг начала кривляться и хлопать глазами. Другие же головы ничем таким не хлопали, потому что оказались восковыми.
На трюк попались все без исключения.
Спецэффекты пришлось заказывать по высшему разряду. «Палимпсест» не скупился. Из случившегося с Грузинчиком хотели выжать по максимуму.
«Вся интеллектуальная и социальная жизнь человеческих сообществ проходит под знаком эпидемий, – под аплодисменты вновь продолжил читать свой текст диктор, когда взволнованная публика смогла слегка успокоиться после первого пережитого ею шока. – Эпидемия не исключение, а общее правило, почти не имеющее исключений.
Возьмем, к примеру, так всех увлекшее членовредительство. Эта эпидемия относится к разряду интеро-сексуальных и подобна самобичеванию.
Сейчас мы вам продемонстрируем, что имеется в виду».
Удалось! Удалось! – радостно заорал Леонид Прокопич, развалившись в кресле директора цирка. Он следил за представлением по специально установленному монитору. – Забрало, ей-богу, забрало. Зацепило, даже звезд зацепило!
А на арене вновь под соответствующее музыкальное сопровождение (неизменная прерывистая барабанная дробь, как перед смертельно опасным трюком где-нибудь под самым куполом) начали появляться артисты. Среди них были замечены и дети. Ими оказались воспитанники циркового училища. Небольшая толпа, включая и женщин, сбросила с себя накидки и предстала перед публикой по пояс голой.
Теперь ахнула мужская половина собравшихся. Груди циркачек оказались весьма впечатляющими.
Раздались громкие аплодисменты.
Голова же, зарытая в песке, продолжала по-прежнему хлопать ресницами и тупо улыбаться, напряженно оглядываясь по сторонам. Слишком много ног оказалось поблизости. Кто-то впопыхах чуть не наступил на этот моргающий предмет. В руках у каждого была плеть. Издавая какие-то возгласы, похожие на молитвы, собравшиеся приступили к самобичеванию. И делали они это так искусно, с такой достоверностью, что не поверить им было нельзя. По спинам побежала бутафорская кровь, которая на расстоянии мало чем отличалась от настоящей. В каждый кнут был вставлен электронный заряд, обильно выплескивающий кровь при любом, даже слабом соприкосновении с телом. Такие плети стоили немало и раздавались артистам чуть ли не под расписку.
Некоторые из звезд с полным пониманием отнеслись к этому зрелищу. Они явно не понаслышке знали кое-что о флагелляции. И, закусив губы, с содроганием и наслаждением следили за каждым взмахом кнута.
Голос доцента продолжил свой рассказ, соответствующий жанру ужаса:
«Первое известное истории шествие самобичевателей относится к 1260 году. Оно возникло в Италии во время междоусобных войн императора и папы римского».
На арене появилось два вольтижировщика на великолепных рысаках. Один в императорской короне, а другой – в папской митре. Они принялись кружить вокруг арены, а затем встали на седло, демонстрируя всем свое умение. Публика ахала каждый раз, когда копыто одной из лошадей чуть не опускалось на зарытую в песок живую голову. Мертвые же восковые головы трескались под копытами лошадей, и из них фонтаном брызгали кровь и мозги, разумеется, все сплошь бутафорское.
Закопанной живой голове явно не понравились эти трюки с мозгами, и она начала орать.
Публика стала теряться в догадках: понарошку все это или всерьез?
На живом, а не восковом лице изобразился неподдельный ужас. Страсти накалились до предела.
С головой кто трюк придумал? – поинтересовался Прокопич.
Это циркачи таким образом решили какого-то штрафника проучить немного, – отрапортовала Стелла.
А ничего. Убедительно. Главное, публику цепляет, – одобрил владелец «Палимпсеста».
«Продолжались эти эпидемии вплоть до XVI века, – все не унимался Сторожев, перекрывая своим голосом вопли несчастного, зарытого в песок по самую голову человека. – К этому же типу можно отнести и эпидемию самоуничтожения».
Массовка на арене мгновенно поменялась, иллюстрируя текст новой весьма выразительной пантомимой. Человека, изображавшего зарытую голову, вынули наконец из специально приготовленной для этого трюка ямы. Публика взорвалась аплодисментами. У героя было отчетливо видно темное мокрое пятно между ног. Но над этим обстоятельством никому не хотелось смеяться.
«Очень распространен рассказ о 30 инвалидах, повесившихся в 1772 году один за другим на одном и том же крюке, снятие которого прекратило эпидемию», – продолжал повествовать голос за кадром.
Клоуны на арене, одетые в оборванцев XVIII века, принялись уморительно подвешиваться на одном и том же бутафорском крюке. Быстро выстроилось подобие шутовской очереди. Но, несмотря на показное веселье, сцена вышла немного жутковатой.



