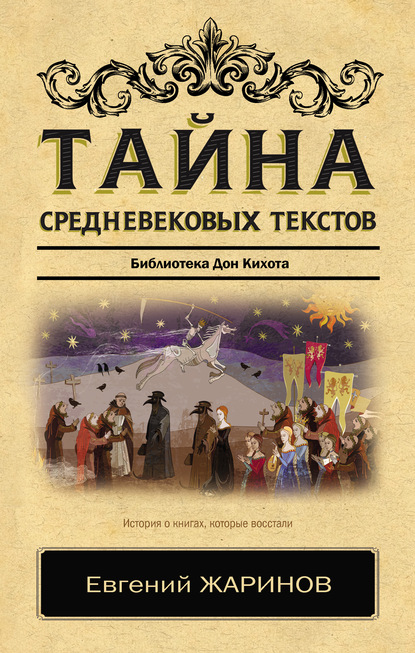
Полная версия:
Тайна cредневековых текстов. Библиотека Дон Кихота
Ладно. Проехали. Меня, Арсений, любопытство гложет: какое отношение писатель Грузинчик имеет к твоей арбатской квартире и к читательскому клубу? У него что, проблемы с пищеварением?
Прямое. Прямое отношение он ко всему этому имеет. Грузинчик в нашем клубе и начинал, пока его эта вездесущая Стелла не сцапала и не заставила контракт с издательством подписать.
«Фауст» какой-то.
Это ты на контракт намекаешь?
Как догадался?
Читали-с, знаем.
Арсений Станиславович! Арсений Станиславович! А у нас сегодня лекция будет? – с шумом подскочила стайка студенток.
Будет, деточки. С чего бы ей не быть?
Девчонки от радости, что смогли хоть так пообщаться с любимым педагогом, вспорхнули и разлетелись в разные стороны.
После короткой паузы Сторожев продолжил:
Мы с Грузинчиком почти ровесники. Он старше меня лет на пять, не более. Значит, сейчас ему чуть больше сорока, хотя на вид и не скажешь. Гога внешне словно заморозился, стоило ему контракт под диктовку Стеллы подписать.
Оставим мистику, Арсений. Ближе к делу.
Гоге очень понравилась эта игра – читать всякую белиберду во время обеда. Поверь, он хороший филолог, знает не то 5, не то 6 языков – и вдруг не на шутку увлекся низкопробной беллетристикой. А главное, начал эту самую беллетристику ножом и вилкой, словно анатом какой, вскрывать и внутренности исследовать.
Дальше что?
Исследовал, исследовал и наткнулся.
На что наткнулся?
На философский камень наткнулся.
Не понял?
Арсений Станиславович! Арсений Станиславович! – защебетала новая стайка влюбленных в Сторожева студенток.
Ну что вам? – мотнул головой доцент, слегка утомленный всеобщим обожанием.
А у нас лекция будет?
Будет, будет, деточки.
Ой, как хорошо!
И пожалуйста, передайте другим деточкам, что лекция непременно будет, но чтобы нас с профессором Вороновым не отвлекали пока. У нас разговор серьезный, понятно?
Девчонки дружно закивали головами и, получив важное задание, с веселым смехом выпорхнули из столовки.
Это какую такую ты лекцию читаешь, Арсений, во время сессии?
Так. На бис девчонки попросили. О чем мы, впрочем?
О философском камне.
Верно. О философском камне.
Поясни. Я ничего не понял, Арсений. Что за камень такой? Насколько мне известно – это что-то из алхимии.
Правильно, профессор, из алхимии.
Ты не выпендривайся давай, а поясни, умник.
И Сторожев вмиг стал необычайно серьезным и заговорщическим тоном начал:
– «Тысячи, миллионы разнообразных идей ежедневно рождаются и умирают в человечестве. Бесполезные и неоформленные, подобные мертворожденному младенцу, одни уходят из жизни, не успев прикоснуться к ней, другие идеи, более счастливые, увлекаются круговоротом общественного мнения, переносятся с места на место, подобно тому, как ветер носит и кружит по полям и лугам бесчисленные семена растений».
Это цитата, что ли?
А что ты еще хотел от литературного негра?
Всегда завидовал твоей памяти, Арсений.
Profession de foi, дорогой.
Что означает: профессия обязывает.
Верно. Я ведь тоже на эту Стеллу работаю. Она мне за подобные цитаты деньжат подбрасывает.
Ну и к чему сия цитата?
А к тому, что Гога решил в бессмысленной на первый взгляд массовой беллетристике искать семена блуждающих, но никем не замеченных великих идей. Понял?
Не понял. Поясни.
Охотно. Одна из великих алхимических аксиом гласит: «Во всем есть семена всего». Следовательно, каждая песчинка содержит не только семена драгоценных металлов и драгоценных камней, но и частички Солнца, Луны и звезд.
Так это же учение о монадах Лейбница.
Похоже.
Но при чем здесь философский камень и прочее? При чем здесь бессмысленная беллетристика и Гога Грузинчик с ножом и вилкой у тебя в клубе?
А вот при чем. Во всех этих бессмысленных романах, во всех этих шпионских сагах о Джеймсе Бонде, о Гарри Поттере и прочем Грузинчик смог разглядеть семя, зародыш Большой Великой Идеи, или Большого Романа, Большой Книги, понимаешь?
Так что ж он ее, Большую Книгу, не написал, а все про какого-то Придурина шпарил?
Не знаю. Наверное, сбой какой вышел. Однако согласись: Придурин ему много золота принес. Чем тебе не философский камень и не алхимия? Может быть, эта самая Большая Книга ему просто не далась. Может быть, сага о Придурине – это только подступ, первый шаг, или испытание, испытание золотом, причем настоящим, не выдуманным. Другой бы радовался, а Гога все совершенства ищет. Вот он себе руку в сердцах и рубанул, чтобы с Придуриным покончить и вновь с чистого листа начать.
Начать что?
Как ты не понимаешь, Женька? Поиски Большой Книги… Которая помаячила и ускользнула, а в руках оставила только Придурина. Чем тебе не версия случившегося?
Я что-то в существование этой Большой Книги, растворенной в миллионах малых ничтожных книжек, не очень верю. Алхимия она и есть алхимия. Чего с нее взять-то?
Не веришь? Что ж, имеешь право. Когда Гога нам читал первые главы своей саги, то мы тоже не верили и расценили затею как бред. Один Гога никого не слушал и все экспериментировал и экспериментировал, словно проктолог какой в дерьме копался. Такие романы в классе шестом пишет каждый второй. Одна сплошная сублимация, по Фрейду. И вдруг успех, причем успех грандиозный. В навозной куче оказался настоящий самородок. Да ты и сам знаешь, что первые книги Роулинг с ее «Гарри Поттером» издатель поначалу в корзину выкинул. В корзину! Это мировой-то бестселлер! Каково!
И правильно сделал. Дерьмо оно и есть дерьмо.
Согласен, но миллионы, миллионы читают. Значит, в этом что-то есть?
Глупость. Одна сплошная глупость в этом только и есть и больше ничего. Мир сошел с ума – вот и зачитывается всякой ерундой.
Прав ты, Женька. Ты же профессор у нас. Тебе по статусу всегда правым надлежит быть.
Иронизируешь?
А ты сам посуди. Возьми того же Гюго. Сколько в его книгах обычной мелодрамы? Жан Вальжан – беглый каторжник. Да это сразу придает книге интонацию тюремной романтики. А что у нас сейчас популярней всего в стране? Правильно: тюремный шансон. Вот они наши Жаны Вальжаны – взяли да и выродились в Шуфутинских и Трофимов. Герой Гюго запел по автомобильному радио – вот что произошло. Каторжник любит Козетту сначала как дочь, а затем начинает ревновать ее к Мариусу как соперник. Сколько здесь скрытой неподдельной сексуальности. И как понятно это народу: суровая, убеленная сединами мужественность и неопытная, хрупкая юность, отношения любовников как отца и дочери. В этом есть и блуд, и высокая романтика. А Бальзак? Да его роман «Блеск и нищета куртизанок» вообще на триллер похож. Там тебе и преступный мир Парижа, и тайная полиция, и политические интриги, а все замешано на том, как бы продать богатому финансисту проститутку Торпиль за миллион франков. Ну разве это не триллер, не Марио Пьюзо какой-нибудь с его «Крестным отцом»? Любая великая книга – это почти всегда простая история Хуана и Марии, как сказал Ортега-и-Гассет. Это почти всегда волшебная сказка, а потом уже долгие авторские отступления для интеллектуалов. Достоевский сюжеты почти всех своих романов брал из газет, а точнее – из раздела криминальной хроники. Детектив придумали американские романтики, Эдгар Аллан По, «Убийство на улице Морг». А он – классик из классиков.
И тут Воронов сам невольно вспомнил, как летом 1995 года после трагедии в Нефтекамске поднял где-то на вокзале смятый листок «Московского комсомольца». На первой странице сообщалось о страшном землетрясении, в результате которого погиб весь поселок нефтяников: хрущевские пятиэтажки сложились как карточные домики. В глаза бросилась одна фотография: испуганное и очень взрослое лицо пятилетнего мальчика, наполовину закрытое мужской спиной. Подпись внизу создавала душераздирающий сюжет, сюжет ненаписанного романа: «Мальчика удалось вытащить живым из-под завалов после двух суток. Все восприняли это как чудо. Спас мальчика труп отца. Отец и держал все это время на себе тяжелую плиту». И вдруг Воронова буквально пронзила простая догадка: о чем две ночи и долгие дневные часы мог говорить пятилетний сын со своим отцом, который и после смерти заботился о нем и продолжал спасать жизнь своему ребенку? А ведь они говорили, говорили тогда, и смерть не могла сковать им уста. Вот она, простая житейская история. Вот он, роман, состоящий из сплошного молчаливого диалога, диалога Отца и Сына. И как не хотелось, наверное, им расставаться, как не хотелось прерывать это единение, эту молчаливую беседу, но одному надо было оставаться жить, а другого уже заждался старик Харон на своей лодке, который раз нетерпеливо окликая замешкавшегося пассажира: «Скорей! Работы и так много: целый город перевезти в одночасье надо!»
Все так, не спорю, – выйдя из задумчивости, согласился профессор.
Тогда почему ты не можешь даже предположить, что и в макулатуре может затеряться крупица чего-то большого? Ведь моют старатели золото в мутной речной воде?
И Воронов вновь вспомнил о том смятом газетном листке, на который он сначала наступил, а затем поднял и прочитал.
Не знаю. По-другому воспитан, что ли. Брезгливость не позволяет.
Пойми, Женька, макулатура – это тоже литература. Плохая, даже ужасная, но литература. Так?
Предположим.
Уже хорошо. Предположим. Что их сближает: я имею в виду беллетристику, чтиво и так называемую высокую литературу?
Фабула, событийная канва объединяет.
Верно. Событийная канва. Образы и идеи я оставляю в покое. Подтекст, психологизм и прочее тоже трогать не будем. Этого в чтиве днем с огнем не найдешь.
Согласен.
Итак, остается только фабула, или событийная канва.
Ну.
Но ведь и это немало. Хорошо выстроенная, закрученная фабула держит тебя в напряжении до самой последней страницы. А сюжет – это уже то, как ты эти события выстраиваешь, в какой последовательности, это целая концепция, можно сказать, особая точка зрения на мир. Это модель, конструкция, это творческая попытка переделать мир, попытка заставить этот мир двигаться по другим рельсам, по другим законам, известным только тебе. Но нечто подобное творит и Бог. Он придумал для нас для всех один сюжет, и мы, как простые беллетристы, лишь варьируем Его. Приглядись только, Женька, приглядись: сколько жизней прожито, как самый посредственный роман. Мне кажется иногда, что люди вообще книг серьезных и не читали. Они своими судьбами только и делают, что тупо повторяют давно кем-то написанное.
Думаю, – возразил профессор, – что дело здесь не только в общей образованности. Посмотри, сколько наших коллег-филологов, несмотря на прочитанные книжки, живут по пошлым сценариям. Сколько у нас в университете ты, Арсений, оживших чеховских персонажей встретишь?
До черта лысого я этих персонажей встречу. Беллетристика, Женька, одна сплошная беллетристика.
И Воронов вновь впал в состояние задумчивости, меланхолично помешивая чай в стакане. Он вспомнил о друге. Вспомнил, как они с Димычем любили смотреть кино. В советскую эпоху это было уголовно наказуемым делом, потому что кино они хотели смотреть все больше западное. Профессор тогда не был даже кандидатом и доцентом и работал методистом в странноватой организации под названием «Городская фильмотека». Таких контор по типу ильфо-петровской «Рога и копыта» в Москве тех времен было немало. Страна дружно делала вид, что трудится, живет, работает, а на самом деле пребывала в летаргическом сне. Там, в этой самой фильмотеке, расположенной в тихом московском переулке, между австрийским и датским посольствами, рядом со студией знаменитой скульпторши Мухиной, создательницы композиции «Рабочий и колхозница», Воронов со своим другом Димычем и предавались идейному растлению. Предавались они этому растлению, что называется, с азартом, можно сказать, взахлеб. Договорившись предварительно с начальницей фильмотеки, Марикой Григорьевной, молодые люди решили по вечерам устраивать в этой самой богадельне закрытые просмотры для друзей и знакомых. Рискуя собственной свободой, Димыч каким-то образом сошелся с культурным атташе из соседнего итальянского посольства, и ему давали на один вечер фильмы, которых никогда и ни под каким предлогом в советском прокате появиться не могло.
Так и началась вакханалия, или довлатовский «пир духа».
Смотрели все, смотрели с жадностью. Сами искали переводчиков. Часто попадались проходимцы, готовые, не зная ни одного языка, переводить хоть с японского. Плевать – главное, чтоб врали складно и без пауз. Люди были довольны. «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, «Убийство в Мексике» Джозефа Лоузи, «Альфредо, Альфредо» Пьетро Джерми, «Китаянка» Годара, в которой разыгрывался сюжет покушения на советского посла в Париже, и многое, многое другое. Это был какой-то мир зазеркалья. Люди с экрана на французском, итальянском, английском говорили об одном, а переводчики гнали текстуху совсем про другое. Хохотали там, где герой плакал, и плакали там, где всем на экране было весело. Сюжет фильма явно не совпадал с той фабулой, с той событийной канвой, которую задавали горе-переводчики. Среди них попадались и виртуозы. Они складывали уже готовый сюжет даже до самого просмотра фильма. Это не они под фильм, а фильм под них должен был подстраиваться по мере возможности. На этих горе-переводчиков, можно сказать, работали лучшие сценаристы мира, лучшие режиссеры, лучшие умы пресловутого Запада.
Беллетристика, или, выражаясь по-научному, энтропия жизни, брала свое. И неизвестно еще, что было лучше: проверенная и бесспорная киноклассика или смелые переводческие импровизации по заданным картинкам, как по комиксу, рисующему находящийся за железным занавесом мир.
Почти за каждый из этих фильмов Димычу грозил серьезный срок. Это называлось антисоветской пропагандой. Ясно было, что в итальянском посольстве есть кому позаботиться о зарвавшемся любителе кино и стукнуть куда надо. Но Бог миловал. Димыч ходил по лезвию ножа, показывал фильмы про ковбоев, про Бутча Кэссиди и Санденса Кида, а сам чувствовал себя словно под дулом револьвера: каждый день, как последний, но жизнь от этого приобретала такой пьянящий привкус, что Димыч невольно чувствовал себя героем-разведчиком. Он, как Сталкер Тарковского, рискуя свободой, рискуя тем, что его собственная судьба, собственный жизненный сценарий могли быть безжалостно переписаны властями, каждый день пробирался в запретную зону, притаскивал оттуда новые непонятные артефакты, и переводчики-клоуны переводили их, эти артефакты, на свой язык почти шизофреничного повествования. И зал хохотал и плакал над каждой удачной репликой, над каждым удачным поворотом выдуманного, несуществующего сюжета очередного киноромана.
Позднее Димычу удалось еще раз посмотреть все эти фильмы с нормальным адекватным переводом. Он их не воспринял так, как тогда. Лжепереводчики при всех их импровизациях и неточностях делали очень важную работу: они приближали большое искусство к нормальному зрителю, превращая заумь в простую историю Хуана и Марии с погоней и жаркими страстями.
Люди шли в фильмотеку не столько на фильм, сколько на переводчиков. У входа заговорщическим шепотом спрашивали друг у друга:
Сегодня кто работает: Эчкалов или опять эта девчонка клевая, Ленка-врушка?
Ленка-врушка, – отвечал всем Димыч.
И публика знала, что зрелище ей обеспечено по самому высшему разряду.
Но чаще всего это были пьяницы, мелкие клерки из соседнего МИДа. Димыч даже подозревал, что его так называемые переводчики все-таки владели языками. Но списанные с активной оперативной работы, они импровизировали почем зря, пытаясь прожить, таким образом, не свою никчемную жизнь экс-агента, а жизнь, полную страстей и азарта, как в фильме Бельмондо «Великолепный». Наверное, поэтому Димыча и не трогали гэбисты: рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюет. Экс-агенты прикрывали Димычевы вылазки в итальянское посольство, чтобы придать своей жизни хоть какой-то смысл. Мужики таким образом развлекались и набивали руку, пробовали себя в творчестве, в устном беллетристическом жанре. Димыч им нужен был, как глоток свежего воздуха, как проблеск надежды. И Сталкеру позволялось таскать артефакты с враждебной территории итальянского посольства, как запретные яблоки из сада Гесперид.
А потом настали новые времена. Димыч устроился на фирму «IT» и стал жить не жизнью Сталкера, а чеховского Ионыча, повторяя почти все повороты сюжета хрестоматийного рассказа: сначала экипаж с кучером Пантелеймоном, затем покупка дома и другой недвижимости. Скоро рассказ «Ионыч» должен был перейти в рассказ «Крыжовник», когда на столе как цель всей жизни должна была появиться тарелка с кислой ягодой, которую и предстояло съесть одному ночью, дабы никто не видел.
Но Воронов все равно не хотел мириться с этим сценарием, с этой злополучной тарелкой с крыжовником. У него перед глазами все время стоял тот, другой Димыч, Димыч-сталкер. Жаркий июльский полдень. Пустая разморенная зноем Москва начала восьмидесятых. Год или два назад прошла Олимпиада, умер Высоцкий. Воронов идет к фильмотеке, а меж домов с двумя бобинами в руках пробирается Димыч. Значит, кино будет!
Что смотрим?
«Милая Чарити» Боба Фосса. Еле достал. Там такие танцы! Такая сцена есть! «Тяжеловес» называется. Я ничего подобного не видел. Ремейк «Ночей Кабирии» Феллини.
Что такое ремейк, мы тогда просто не знали. Или в том же духе:
Что смотрим?
«Забриски Пойнт» Антониони. Сегодня же надо в Таллин отправить. Дали всего на три часа. Обзванивай всех, кого можешь, – и смотрим. Я с Петровичем договорился. Он за механика. Ленка-врушка сама переведет. Эчкалов не смог. Из МИДа не отпустили. Прямо в трубку разрыдался.
Суета, суета, а затем – как даст по нервам, как всколыхнет все существо твое. Это первые аккорды. Это музыка и картинки, картинки на экране. И все – нет больше жизни, кроме той, что мелькает сейчас со скоростью 24 кадра в секунду, призрачная, как взмах крылышка мотылька, в лучах проектора. Аж дух захватывает. И мы с Димычем смотрим, смотрим и живем, и дышим полной грудью, и нет сейчас счастливее нас людей на свете. А Ленка-врушка, переводчица, врет и врет. А мы с Димычем ей верим. Мы свое, свое кино сочиняем. У него мать уже умерла. И он сирота. И ему больно. А моей – всего два года жизни осталось. И я еще не знаю об этом. А кино – это вечность. Это окно в другой мир. И мы проживаем, проживаем не одну, а сразу несколько жизней. Проживаем жадно, впиваясь взглядом в этот волшебный луч, в котором треплется и треплется мотылек, – это чья-то душа распятая стонет и рвется, рвется с экрана к нам в реальный мир. И Ленка-врушка уже и не переводчица даже, а шаманка, заклинательница, и благодаря ей неживое живым становится. И мы так же когда-нибудь вспорхнем мотыльком с Димкой под стрекот киноаппарата, а какая-нибудь Сивилла, Ленка-врушка, сладко наврет про нас с Димкой с три короба.
– Что смотрим, Дима, что смотрим?
И бежит, бежит мой Димка с бобинами по осиротевшей после смерти Высоцкого Москве и кричит, кричит, как Тэфи-молочник, как муэдзин, сзывающий на молитву, как тот, кто познал истину и теперь хочет поделиться этим знанием с каждым: «Кабаре»! «Амаркорд»! «Затмение»! Все! Все смотрим, Женя! Все! Обзванивай кого можешь. Времени нет! Петрович у аппарата! Ленку вызвал, и Эчкалов придет…
Сейчас Димкин сюжет стал воплощением пошлости, как какой-нибудь роман-обложка. Но разве за этой обложкой не скрывается частица Большой Книги, о которой Димка, может быть, и не догадывается?
Разговор со Сторожевым пришлось прервать. Наступило время незапланированной лекции на какую-то весьма подозрительную тему, и каждый из педагогов направился к своей аудитории. Профессор уныло побрел принимать зачет, заранее готовя себя к скучным и, главное, глупым ответам.
Воронову следовало пройти через атриум. День был солнечный, морозный. Наступал канун Нового года. Время чудес. Тени облаков плыли по мраморным плитам пола… И атриум, как планета Солярис, не мог не отреагировать на такое колдовское освещение и не соткать чуда.
Сначала он не поверил своим глазам: навстречу Воронову шел профессор, которого все давным-давно считали почившим в бозе. Профессор был необычайно стареньким. Он учился еще у самого Брюсова в начале прошлого, XX века. Сейчас ему должно было стукнуть лет сто – не меньше. Старичок шел прямо на Воронова и сворачивать никуда не собирался.
Яркое солнце било сверху сквозь стеклянный потолок, тени облаков медленно плыли по мраморным плитам, и предстоящая встреча напоминала скорее встречу духов, чем реальное событие.
А старичок между тем шел прямо на Воронова, шел, шаркая по облакам, если по облакам вообще можно шаркать…
И вдруг в этом шаркающем звуке послышалось что-то похожее на слова.
– Что? Что, простите? – переспросил Воронов.
Опять еле слышный шорох, и в воздухе распространился едва уловимый аромат засушенных розовых лепестков.
«Фея Розового Куста!» – словно взорвалось в сознании Воронова, взорвалось догадкой. Да! Это он! Всем в университете было известно про Фею Розового Куста. Она всегда хранила старца при жизни, спасая и в немецком плену, и в сталинскую годину. Тогда еще молодого любимца Феи Розового Куста, выпускника немецкой московской гимназии и брюсовских курсов, зимой 1941-го послали в ополчение, дав на десять человек одну бельгийскую винтовку времен империалистической войны. Их взяли в плен во время первой несерьезной стычки с немцами. Взяли, как детсадовскую группу, и тут же направили в лагерь, в котором оставалось лишь умереть, как умирают голодной смертью младенцы, оставленные без присмотра матери, матери Родины, сумевшей отказаться от них, как какая-нибудь алкоголичка. Но он никогда не был одинок. С ним всегда была Фея, Фея Розового Куста. Она явилась из добрых немецких сказок, которые он читал еще в детстве, когда жил в дореволюционной Москве и ходил в немецкую гимназию, где ему преподавали добрые старые немцы, давно привыкшие воспринимать Россию своим домом и чьи предки сделали для этой самой России так много, что даже подарили Ей, России, несравненную принцессу Софью Фредерику Августу, великую императрицу Екатерину II. Старец был родом из той парадоксальной эпохи, когда считалось дурным тоном воспринимать человека только по его национальной принадлежности. И немцы покровительствовали и учили русских, а русские многому учили немцев. И все вместе надежно рука об руку вошли в великую литературу, подтрунивая друг над другом при этом и оставаясь неразлучными друзьями, как Штольц и Обломов, и не стремясь извести, сжить со свету, или отправить кого-либо в топку концлагеря, или в сталинский застенок.
Когда немцы разглядели, что за существо попалось им в плен, то они, видно, так же, как сейчас профессор Воронов, ощутили среди вони и грязи военных буден слабый аромат засушенных лепестков роз. И им стало от души жаль пленника. Фея не давала своего любимца в обиду. К пленнику отнеслись по-человечески, несмотря на преданность сумасшедшему фюреру с усиками венского парикмахера. А пленник в благодарность рассказывал им о том, чему его научили другие, московские немцы, рассказывал о Гёте и Шиллере, о Гофмане и Новалисе. И его слушали, слушали и восхищались, хотя и совершали преступление против арийской идеологии австрийского безумца Шикельгрубера. Это, наверное, Фея Розового Куста помогала своему любимцу, делая тихую речь слабого пленника по-гомеровски сладкозвучной и величественной.
Рассказывали, что когда немцы отступали, то нарочито стали вести себя так, будто не видят доходягу-пленника, подарившего им столько радости и хотя бы на краткий миг сделавшего их вновь людьми, добрыми, старыми немцами, немного нелепыми, но часто мудрыми, сумевшими преодолеть в себе воинственный дух предков-викингов. И он убежал. Убежал к своим, хотя и бегать-то толком не умел, разве что трусцой. А свои как раз оказались чужими и намного хуже немцев, поиздевавшись вволю над пленником, ибо уже вышел знаменитый сталинский приказ «Ни шагу назад», объявлявший всех страдальцев, сумевших вернуться из фашистской неволи, предателями Родины.
Но как знать, как знать, может быть, это Фея Розового Куста наслала на своих озлобившихся и вооруженных до зубов нибелунгов внезапную слепоту, как это сделала когда-то Афина Паллада, безумно влюбленная в своего Одиссея.
– Этим летом поезжайте в Испанию, молодой человек, – наконец-то смог разобрать в еле уловимом движении старческих губ Воронов. «А почему, собственно, в Испанию? Почему не еще куда-нибудь, например на Мадагаскар?» – пронеслось в профессорской голове.
Но старичок, видя недоумение своего собеседника, лишь тихо улыбнулся в ответ. Так улыбаются застенчивые дети, когда их не понимают, или старики, пытающиеся скрыть невольно нанесенную им обиду. Немощь не оставляет сил на дальнейшие объяснения, а на мудрость ближних не всегда приходится рассчитывать. Но, поняв, что его все-таки услышали, старец буквально засветился весь. Особенно лицо. Оно светилось в ярких лучах солнца, будто лик святого. Святого Бернара в раю у Данте. На душе стало необычайно весело и тепло от этого. С Испанией потом разберемся. А сейчас Воронов вновь почувствовал себя студентом на лекции. Знакомые черты вдруг ясно проступили сквозь старческие морщины. Лицо сделалось моложе, и морщины слегка разгладились.



