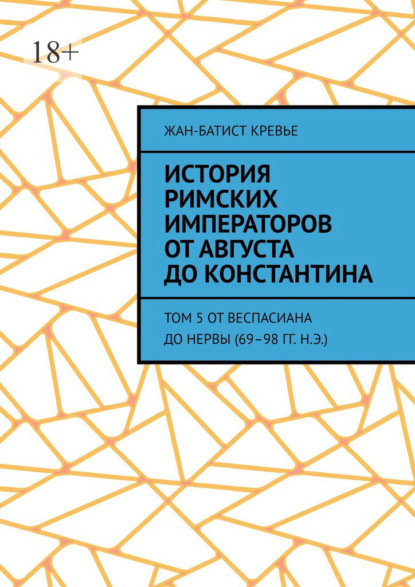
Полная версия:
История римских императоров от Августа до Константина. Том 5 От Веспасиана до Нервы (69–98 гг. н.э.)
Идумеяне, которых слепая ярость толкнула на жестокости, но которые, в отличие от зелотов, не были закоренелыми и ожесточенными преступниками, ужаснулись злодеяниям тех, с кем они объединились. Некий человек, не названный у Иосифа, укрепил в них эти чувства и представил их вождям, что они могут смыть пятно, которое навлекли на себя, вступив в союз с негодяями, только немедленным отступлением и явным разрывом. Это было слишком мало для искупления жестокостей и несправедливостей, в которых они повинны. Идумеянам следовало встать на защиту народа, чье угнетение они усугубили, и избавить его от тиранов. Но люди склонны творить зло от всего сердца, а когда дело касается добра, они почти всегда делают его несовершенно. Идумеяне ограничились тем, что освободили около двух тысяч узников, содержавшихся в тюрьмах, и удалились в свою землю.
Зелоты с радостью смотрели на их уход, видя в них уже не союзников, чья помощь могла бы им пригодиться, а надзирателей, чье присутствие сдерживало их дерзость. Они стали еще наглее, а их бесчинства – еще необузданнее; и они довершили истребление знатных людей, которые им мешали. Они убили Гордиона, человека знатного происхождения, высокого положения и ревностного защитника свободы своего отечества; Нигера, храброго военачальника, отличившегося в нескольких битвах против римлян и не получившего даже милости погребения от своих убийц. Среди народа они тщательно разыскивали всех, кого считали нужным опасаться, и малейшего повода было достаточно для их гибельных подозрений. Тот, кто не говорил с ними, казался им надменным; тот, кто говорил свободно, – врагом. Если же кто-то льстил им, это был льстец, скрывающий злые умыслы. И они не делали различия между большими и малыми проступками: смерть была общей карой за все. Одним словом, единственной защитой от их ярости было темное происхождение и бедность.
Такая жестокая тирания вынуждала множество иудеев покидать город и искать спасения среди врагов. Но бегство было опасным. Солдаты, расставленные зелотами, блокировали все дороги и проходы, и всякий, кому не посчастливилось быть схваченным, платил головой, если не откупался щедрыми деньгами. Тот, у кого не было средств, считался предателем, и только смерть могла искупить его «неверность». Таким образом, уравновешивая один страх другим, большинство предпочитало оставаться в городе и умереть в лоне своей родины.
Веспасиан всю зиму оставался спокойным наблюдателем всех этих волнений, столь сильно потрясавших иудеев. Он занял лишь города Ямнию и Азот, но не предпринимал никаких действий, непосредственно угрожавших Иерусалиму, хотя все главные военачальники его армии убеждали его воспользоваться раздорами среди врагов и осадить их столицу.
– Оставьте их, – сказал он тем, кто делал ему такие предложения, – пусть они истребляют друг друга. Бог лучше управляет нашими делами, готовя нам легкую победу без нашего вмешательства. Наше появление в подобных обстоятельствах объединит против нас все партии, которые сейчас, в ярости взаимного уничтожения, ослабляют силы нации. Мы можем надеяться победить, не обнажая меча; и завоевание, достигнутое благоразумием и искусным управлением, всегда казалось мне предпочтительнее того, честь которого принадлежит лишь оружию.
Он неуклонно придерживался этого плана, и, несмотря на уговоры иудеев, бежавших из Иерусалима, которые умоляли его прийти спасти остатки несчастного народа, отомстить за погибших за верность римлянам и избавить от опасности тех, кто даже среди величайших рисков сохранял те же убеждения, он выступил в поход в начале 68 года от Рождества Христова [11] (последнего года правления Нерона) – но не для того, чтобы идти на столицу, а чтобы покорить Перею, ссылаясь на то, что сначала следует усмирить города и области, всё ещё сопротивляющиеся, и устранить все препятствия, которые могли бы помешать или отсрочить успех осады Иерусалима.
Он перешёл Иордан и двинулся к Гадаре, столице Переи, где у него были свои люди. В этом городе было множество богатых жителей, а также людей из окрестных земель, которым было что терять, и потому они боялись войны и желали мира; соответственно, они отправили к Веспасиану послов, обещая открыть ему ворота. Однако не все в Гадаре думали так же, и мятежники, находившиеся в этом городе (как и во всех других городах Иудеи), не сумев ни помешать переговорам (о которых они не знали), ни, узнав о них, сделать их бесполезными (поскольку римляне уже приближались), решили по крайней мере отомстить тому, кто их затеял. Они схватили Долеса, который по происхождению и заслугам занимал первое место среди всех жителей, убили его, надругались над его телом и бежали из города. Гадарцы, став единственными хозяевами своей судьбы после бегства мятежников, встретили Веспасиана с ликованием и сами разрушили свои стены, не дожидаясь приказа, чтобы доказать свою верность, не оставляя себе даже возможности отступить от долга в будущем. Чтобы защитить их от нападений бунтовщиков, Веспасиан оставил в городе римский гарнизон.
После подчинения Гадары остальная часть Переи не заслуживала внимания Веспасиана. Он вернулся в Кесарию, чтобы оттуда наблюдать за общим ходом войны, а на месте оставил трибуна Плацида с тремя тысячами пехотинцев и шестьюстами всадников, чтобы преследовать разбойников и завершить покорение ещё непокорённых земель.
Этот офицер доблестно выполнил возложенную на него задачу. Он преследовал беглецов из Гадары и взял штурмом селение Бетеннабрис, которое те избрали своим убежищем. Некоторым удалось бежать, и они разнесли тревогу по округе. Толпы перепуганных сельских жителей сбились в беспорядочные группы, решив перейти Иордан и найти убежище в Иерихоне. Но река, разлившаяся от дождей, была непроходима вброд, и Плацид, настигнув их, прижал к берегу эту неорганизованную, неуправляемую и лишённую предводителя толпу. Она была очень многочисленна, но три тысячи шестьсот человек полностью разгромили её. Пятнадцать тысяч иудеев пали на месте; ещё больше было сброшено или сами бросились в Иордан, и Мёртвое море покрылось трупами, плававшими на его водах, более плотных, чем обычная вода.
Плацид завершил завоевание Переи, взяв под контроль все значимые города и крепости, и вся страна, кроме крепости Махерон, признала власть римлян.
Веспасиан, находясь в Кесарии, узнал о восстании Виндекса против Нерона. Это известие стало для него поводом ускорить окончание войны с иудеями. Пока Запад начинал волноваться из-за беспорядков, последствия которых могли быть долгими и губительными, он счел важным умиротворить Восток и, если возможно, предотвратить совпадение иностранной войны с гражданской. Поэтому, использовав зиму для размещения надежных гарнизонов в завоеванных городах, он в начале весны выступил из Кесарии со всеми войсками, имея в виду осаду Иерусалима, но решив сначала лишить этот упорно мятежный город всех возможных источников помощи, надежда на которые могла поддерживать его гордыню.
Он проложил путь от Кесарии к Иерусалиму, захватив Антипатриду, Лидду и область, зависящую от Фамны, и прибыл в Эммаус – место, знаменитое в Евангелии, расположенное в шестидесяти стадиях (около двух с половиной лье) от столицы. Там он разбил лагерь и разместил пятый легион, чтобы начать блокировать Иерусалим с севера. Затем он двинулся на юг, в Идумею, жители которой так ярко проявили свое слепое и неистовое рвение к метрополии своей религии. Он овладел всей этой страной, разрушая крепости идумеев и укрепляя выгодные позиции, на которых оставлял надежные войска, чтобы держать окрестности в повиновении. Вернувшись в Эммаус, он направился в Самарию, прошел ее, чтобы закрепить за собой, и прибыл в Иерихон, где к нему присоединился отряд, покоривший Перею. Город Иерихон не оказал сопротивления: большинство жителей бежало при приближении римской армии, а оставшиеся были перебиты. Веспасиан разместил там гарнизон, как и в Адиде, находившейся неподалеку. Таким образом, Иерусалим оказался окружен со всех сторон римскими войсками.
Оставалось лишь正式но осадить его, и Веспасиан готовился к этому, когда получил известие о смерти Нерона. Он приостановил активные действия и, прежде чем начать предприятие, которое могло затянуться, решил посмотреть, как сложатся дела в империи. Однако, чтобы не оставаться в бездействии и не упускать из виду свою цель, он продолжил очищать страну, захватывая несколько укреплений вокруг Иерусалима, которые еще держались. Так прошла остальная часть кампании, к концу которой вся Иудея, кроме Иерусалима и трех крепостей, занятых разбойниками – Иродион [12], Махеронт и Масада, – оказалась покорена.
В следующем году произошло событие, отвлекшее все внимание Веспасиана. Переговоры о его возведении на престол и заботы о войне, которая доставила ему власть, вынудили его ослабить давление на иудеев. Он даже покинул Иудею и отправился, как я уже говорил, в Александрию. Но все оставалось в прежнем состоянии: если иудеи и получили передышку, нет свидетельств о том, что они вернули что-либо из утраченного.
Единственное событие, о котором мне следует здесь упомянуть, – освобождение Иосифа. Когда Веспасиан был провозглашен императором своими легионами, а также войсками Сирии и Египта, он с удовольствием вспомнил мнимые предзнаменования и пророчества, которые убедили его в том, что ему была предсказана слава, превосходящая его ожидания и даже желания; в частности, он вспомнил, что Иосиф предсказал ему императорскую власть еще при жизни Нерона. Ему стало стыдно держать в оковах того, кого он считал вестником божественной воли относительно себя. Он призвал Иосифа и в присутствии Муциана и высших офицеров своей армии приказал снять с него цепи. Тит, всегда исполненный доброты, напомнил отцу, что справедливо не только освободить Иосифа от наказания, но и снять с него позор, разбив его оковы, а не просто развязав их, чтобы он вернулся в прежнее состояние, как будто никогда их не носил. Веспасиан согласился с просьбой сына, и по его приказу цепи пленника были разрублены топором. С этого момента Иосиф пользовался большим уважением в римской армии, и мы еще увидим, как Тит не раз использовал его, чтобы мудрыми советами бороться с непреклонной жестокостью его соотечественников.
Гражданская война между Веспасианом и Вителлием, завершившаяся в пользу первого за одну кампанию, позволила новому императору, отправляясь из Александрии в Рим, отослать Тита обратно в Иудею. Он справедливо полагал, что необходимо положить конец войне, важной самой по себе и могущей стать еще более значительной, если дать иерусалимским иудеям время вовлечь в свой конфликт, как они уже пытались, своих соплеменников за Евфратом. Кроме того, при новом правлении, когда беспорядки и неудачи всегда возможны, Веспасиану было полезно иметь сына во главе мощной армии. Таким образом, Тит получил приказ осадить и взять Иерусалим – последнюю, и, несомненно, самую трудную операцию.
Примечания:
[1] Это перечисление не то, о котором говорится в Евангелии от Луки 2; оно произошло на 10—11 лет позже.
[2] Двадцать четыре тысячи фунтов.
[3] Две с половиной лиги.
[4] 51 тысяча фунтов.
[5] Это важное место находилось к югу от Асфальтового озера.
[6] PLINIUS, V, 16.
[7] Место для бега и борьбы атлетов.
[8] Этот город не принадлежал к Галилее, так как находился за Иорданом и Геннисаретским озером. Но он был связан интересами с восставшими галилеянами, и Иосиф, правитель Галилеи, причисляет Гамалу к городам своего округа.
[9] Аннас также называется Ананом у Иосифа. Но маловероятно, что он дожил до того времени, о котором идет речь, и еще менее вероятно, что восьмидесятилетний старик был бы достаточно энергичен, чтобы исполнять роль правителя города. Эти причины привели М. де Тиллемона к мысли, что понтифик Ананас, убитый идумеями, был сыном первосвященника Аннаса, названного в Евангелии, и того самого, о котором упоминает Иосиф в л. XX своих «Древностей», c. 8.
[10] MATTHEW, XXIII, 35.
[11] Год Рима 819.
[12] Ирод построил и укрепил два замка, которым дал это название, один в шестидесяти вёрстах от Иерусалима, другой, о котором здесь идёт речь, за Иорданом, у арабов.
§ II. Описание города Иерусалима
Природа и искусство совместно сделали Иерусалим одной из сильнейших крепостей во всем мире. Он располагался на двух холмах, не считая того, на котором был построен храм. Эти два холма, один из которых – знаменитый Сион, а другой назывался Акрой, стояли друг напротив друга: Сион на юге, Акра на севере, разделенные долиной, где здания с обеих сторон почти соприкасались. Первый холм был значительно выше второго и образовывал Верхний город, тогда как второй назывался Нижним городом. Снаружи оба холма были окружены глубокими оврагами, делающими доступ к ним невозможным. Это была так называемая долина сыновей Енномовых, которая, простираясь с запада на восток к югу от горы Сион, соединялась с долиной Кедрон к востоку от храма, у подножия Масличной горы.
Акра своей восточной стороной была обращена прямо к третьему холму – храмовой горе Мориа. Изначально она превосходила его высотой. Поэтому при Антиохе Епифане она служила крепостью сирийцам, которые оттуда господствовали над храмом и совершали всевозможные насилия и жестокости над иудеями, собиравшимися там по религиозным причинам. Цари Хасмонеи, не удовлетворившись разрушением крепости, построенной сирийцами, даже сровняли вершину горы и засыпали долину у её восточного подножия, так что храм стал выше Акры, а сообщение между ними – более удобным.
Четвертый холм к северу от храма был присоединен к городу в более поздние времена, так как Иерусалим уже не мог вместить огромное количество жителей. Пришлось расширяться, и многие иудеи построили дома в Безете – так назывался новый квартал, отделенный от крепости Антония широким рвом. Весь периметр города, по оценке Иосифа Флавия, составлял тридцать три стадия, или немногим более четырех тысяч шагов [1].
Таково было естественное положение местности, само по себе весьма выгодное. Люди же добавили к этому тройную линию высоких и толстых стен. Первая и самая древняя ограждала Сион двумя своего рода рукавами: один, отделяя Верхний город от Нижнего, доходил до юго-западного угла храма, а другой, огибая гору с запада, юга и востока, после различных изгибов, вызванных неровностью рельефа, заканчивался у восточного фасада храма. Две другие стены, начинаясь в разных точках стены, разделявшей Сион и Акру, тянулись на север, откуда поворачивали к храму, причем одна доходила до крепости Антония, а другая, делая гораздо более длинный обход, – до того же восточного фасада храма, к которому примыкала первая.
Эти стены были увенчаны башнями, которые по красоте и кладке камня не уступали самым искусно построенным храмам. На квадратном основании шириной и высотой в двадцать локтей возвышались великолепные помещения с верхними комнатами, цистернами для сбора дождевой воды (чрезвычайно ценной в этой засушливой стране) и широкими лестницами. Третья стена имела девяносто таких башен, средняя – четырнадцать, а самая древняя – шестьдесят. Расстояние между башнями составляло двести локтей.
Среди этих башен четыре выделялись своей необыкновенной красотой и высотой. Первая – башня Псефина [2], построенная на углу третьей стены, обращенном к северу и западу, то есть в том месте, где стена, меняя направление на север, делала изгиб, поворачиваясь к городу и храму. Она была восьмиугольной и имела семьдесят локтей в высоту; на восходе солнца с неё была видна Аравия, а с другой стороны – вся ширина Святой Земли вплоть до моря.
Три другие башни были возведены на древней стене Иродом, который, помимо своей любви к великолепию и рвения к украшению города, имел особый мотив усердствовать в этих постройках, так как посвящал их памяти трех самых дорогих ему людей: своего близкого друга Гиппика, брата Фасаила и несчастной супруги Мариамны, которой его безумная любовь стоила жизни. Эти три башни носили столь дорогие Ироду имена: Гиппик, Фасаил, Мариамна. Первая стояла на северном углу Сиона со стороны запада, у начала стены, отделявшей Верхний город от Нижнего. Две другие, по-видимому, располагались на той же стене, ближе к востоку, между Сионом и Акрой. Их высота была разной: первая – восемьдесят локтей, вторая – девяносто, третья – пятьдесят пять; эта разница, несомненно, объяснялась неровностями рельефа. Однако их вершины были на одном уровне, и издали они казались одинаковыми по высоте как между собой, так и с прочими башнями той же стены.
Нет ни одного мало-мальски образованного человека, который не знал бы, что Иерусалимский храм нельзя представлять себе подобным нашим церквям, даже самым обширным. Это был не столько отдельно стоящий храм, сколько огромный и грандиозный архитектурный комплекс, разделенный на несколько дворов и окруженный величественными галереями, служившими ему укреплениями; так что он скорее напоминал крепость, чем места, посвященные у нас отправлению религиозных обрядов. В центре находился собственно храм, со всех сторон обособленный и внутри разделенный завесой на две части, отделявшей Святое от Святого Святых. Отсюда до внешних галерей все пространство было занято, как я уже сказал, различными зданиями, предназначенными для богослужений и для служителей, а также несколькими дворами, из которых самый обширный – тот, куда входили сразу после галерей, – окружал внутренние постройки и назывался Двором или Притвором Язычников, потому что туда допускались наравне с иудеями и язычники.
Весь комплекс образовывал квадрат, периметр которого, по Иосифу [3], составлял шесть стадий, то есть четверть [4] лье. Четыре стороны этого квадрата довольно точно соответствовали четырем сторонам света.
Вершина горы Мориа, на которой стоял храм, изначально не имела достаточно ровной поверхности, чтобы вместить столь грандиозное сооружение. Пришлось поднять уровень почвы, слишком круто спускавшейся, террасами высотой в триста локтей.
Я уже отмечал, что из-за понижения холма Акры храм оказался выше этой части города: с востока его огибала долина Кедрона; с юга, ближе к западу, он соединялся с Сионом мостом, переброшенным через глубокое ущелье. Лишь с севера холм Бецета несколько господствовал над ним. По отношению ко всему остальному городу он выполнял роль цитадели.
Но башня Антония, построенная на северо-западном углу храма, полностью превосходила его высотой. От этой башни вели две лестницы: одна – к северной галерее, другая – к западной. Римляне держали там гарнизон, и через башню Антонию, господствуя над храмом, они через храм господствовали над городом. Поэтому первой заботой мятежников, как мы видели, было изгнать их из этой крепости, которая парализовала бы все их действия.
Город Иерусалим, сам по себе сильно укрепленный, был невероятно многолюден, особенно во время праздника Пасхи, когда в него стекалось бесчисленное множество поклонников со всех концов света. Я упоминал, ссылаясь на Иосифа, что Цестий во время одного из таких празднеств оказался окружен тремя миллионами иудеев. Эта поражающая цифра приведена не случайно. Цестий, желая доказать Нерону, что тот напрасно презирает иудейский народ, попросил первосвященников исчислить население Иерусалима. Чтобы удовлетворить его просьбу, священники сосчитали пасхальных жертв и нашли их число равным двумстам пятидесяти шести тысячам пятистам. При этом каждого пасхального агнца вкушали не менее десяти человек, а иногда за одним столом собиралось до двадцати. Но даже если принять наименьшее возможное число, двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот жертв означают два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч участников трапезы. Добавим тех, кто из-за ритуальной нечистоты не мог участвовать в Пасхе, и иностранцев, привлеченных простым любопытством, – и станет ясно, что цифра в три миллиона не преувеличена.
Но это бесчисленное население скорее могло истощить город, чем защитить его. Затрудняло завоевание Иерусалима лишь то, что к моменту, когда Тит подошел к его стенам, город был полон отчаянных людей, давно привыкших к оружию и ужасам войны, не боявшихся ни опасности, ни смерти и ослепленных верой в святость города и храма, которая внушала им нечто вроде энтузиазма и полной уверенности в своей непобедимости – важные преимущества для долгой и упорной обороны. Однако им недоставало одного существенного условия – единства под началом мудрого предводителя, который сумел бы разумно управлять их силами. Они разделились на три враждующие группировки, которые, хотя и действовали сообща против римлян и против мирных граждан, взаимно ослабляли себя внутренними распрями и в ожесточенных стычках внутри стен не раз давали общему врагу благоприятные возможности. Вождями этих трех группировок были Элеазар, сын Симона, Иоанн из Гисхалы и Симон, сын Гиоры.
Из этих трех тиранов (а мы увидим, что они вполне заслуживали этого имени) Элеазар был старшим. Его партия существовала в городе еще во время осады, предпринятой Цестием, и он отличился при преследовании этого полководца. Под его началом зелоты захватили храм и выдержали осаду, устроенную против них первосвященником Ананом. С тех пор они всегда следовали его советам, и он пользовался в этой партии авторитетом вождя – до тех пор, пока к ней не присоединился Иоанн из Гисхалы.
Этот человек, соединявший безудержную дерзость с коварством и обманом, едва вступив в партию зелотов (в пользу которой, как я уже рассказывал, он предал интересы народа и знати), тут же принялся добиваться единоличной власти над нею. Его отвага привлекала к нему поклонников, его ласки приобретали ему сторонников, которым он старался внушить презрение и неповиновение любому приказу, исходившему не от него. Поскольку приверженцы Иоанна были самыми решительными и безрассудными, их заговор вскоре сделался грозным, и страх перед ними увеличивал число их сообщников. Так Иоанн создал партию внутри партии и, окончательно затмив Элеазара, лишил его влияния среди зелотов, сосредоточив всю власть в своих руках. Получив под свое начало силы этой могущественной группировки, он стал хозяином города и творил в нем любые бесчинства. Самое жестокое насилие, самый разнузданный грабеж, самая гнусная распущенность – вот что он считал плодами и привилегиями своей власти. Он и его преступные приспешники, погрязшие в позорной изнеженности, проявляли человеческие качества лишь в жестокости к своим согражданам, и несчастные жители Иерусалима страдали от своих домашних тиранов больше, чем могли бы опасаться от римлян.
Иоанн ликовал и торжествовал. Но он нашел нового врага в лице Симона, сына Гиоры, который, подобно ему, начав с самых ничтожных средств, возвысился благодаря дерзости и преступлениям. Симон, изгнанный из Акрабатены [5] первосвященником Ананом, которому его беспокойный и предприимчивый дух сделал его подозрительным, сначала не имел иного выхода, как укрыться у последователей Иуды Галилеянина, занимавших крепость Масаду и оттуда совершавших набеги, занимаясь жестоким разбоем по всей округе. Однако и там его приняли с недоверием, ибо негодяи боятся друг друга. Они поселили его в нижней части крепости со своими людьми, оставив за собой верхнюю часть, откуда могли контролировать его. Вскоре он доказал своими деяниями, что был столь же решителен на зло, как и они, и они приняли его в свои грабительские шайки. Но у Симона были более честолюбивые замыслы: он стремился к тирании и планировал использовать оружие своих хозяев для достижения этой цели. Поэтому он попытался вовлечь их в какое-нибудь значительное предприятие, вместо того чтобы довольствоваться мелкими грабежами окрестностей. Но тщетно. Разбойники Масады считали эту крепость своим логовом, из которого не желали удаляться.
Не сумев склонить их к своей цели, Симон покинул их, узнав о смерти Анана; и так как он был молод, смел, способен благодаря своей отваге бросать вызов любой опасности и преодолевать любые тяготы благодаря крепости тела, то, предложив себя в качестве вождя множеству разбойников, рыскавших по всей Иудее, пообещав свободу рабам и награды свободным, он так увеличил свою банду, что в короткое время создал армию и оказался во главе двадцати тысяч человек.
Такие значительные силы вызвали зависть у зелотов, которые справедливо полагали, что Симон намеревается двинуться на Иерусалим и отнять у них власть над столицей. Они выступили против него, но в сражении потерпели поражение. Тем не менее Симон не считал себя достаточно сильным, чтобы атаковать Иерусалим, и бросился на Идумею, которую полностью опустошил, разгромив – отчасти силой, отчасти благодаря предательству одного из идумейских вождей – армию в двадцать пять тысяч человек, выставленную против него. Он учинил в стране ужасные разрушения: жег, грабил, вырубал посевы и деревья, так что любая местность, через которую он проходил, превращалась в пустыню, не оставляя и следа того, что там когда-то жили и возделывали землю. После этого варварского похода он приблизился к Иерусалиму и блокировал город, выжидая возможность проникнуть внутрь.



