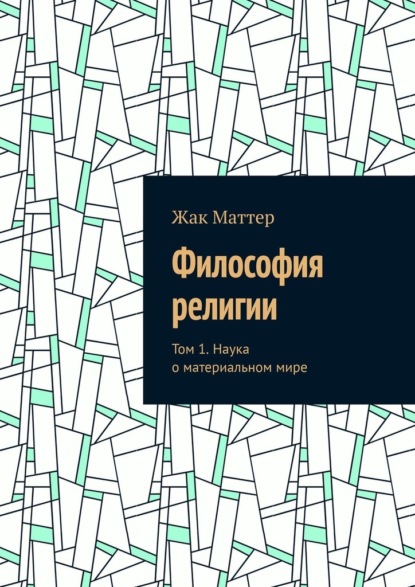
Полная версия:
Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире
Отвечают, что нет, и в подтверждение приводят поразительный факт. Указывают на то, что язык религии, обращенный преимущественно к эмоциям души и говорящий о Боге лишь в той мере, в какой Он вызывает любовь или страх, более трогателен, чем когда он обращен к одному лишь разуму, но при этом обычно дает лишь ложные идеи. И действительно, если религия затрагивает те же вопросы, что и философия, ее учения, более красноречивые, обретают в ее устах силу, которой нет в более строгом языке философии; что эффект даже самых заурядных проповедей сильнее, чем у самых прекрасных лекций по метафизике; что они проникают еще глубже в сердце и воображение, когда облекаются в поэтические формы; но истина лишь теряет от этих искажений, продиктованных нашими эмоциями.
Тем не менее, все это верно лишь в тех случаях, когда эмоции искажают. Однако это не их истинное назначение и не их сущностная природа. В норме у них более возвышенная и благородная роль: они сопровождают идеи, как теплота сопровождает свет, и если порой они смущают, то часто помогают и завершают то, что чистая мысль была призвана начать и наметить. Игра эмоций – не пустая игра и по природе своей не опасная. Напротив, она предназначена для целей, достижимых только через них; и если сила священных песнопений, псалмов Давида, гимнов Средневековья, немецких хоралов превосходит не только самые возвышенные уроки метафизики, но и самые великолепные светские поэзии, то это не для поддержания заблуждения, а для утверждения истины. Тот, кто является объектом этих песнопений, даровал их силу эмоциям, чьим естественным языком является гимн. Без этого тепла строгая, суровая истина оставалась бы лишь холодной и ледяной.
Однако теология в поэтической или ораторской форме – не наука, и часто пример самых благочестивых душ лучше всего показывает, как важно, чтобы в конечном итоге именно наука учила нас о Боге. Чистые идеи встречаются только в ней, и теология, отказывающаяся от науки в пользу гимнов, проповедей, литаний, искажает не только познание Бога, но и все остальные – антропологию и космологию в первую очередь. Истинная же наука о Боге, напротив, приносит свет повсюду.
Это значит, говоря формально, что она [теология] является наукой. И нужно добавить – самой трудной из наук. Судя по первому вопросу всей теологии, а именно: какова природа Бога?
Действительно, как бы просты ни были эти слова, это самая тяжёлая проблема для разума. И всё же её необходимо решать, насколько это возможно, в соответствии с уровнем знаний или просвещением каждого века, не во имя поэзии или красноречия, порождающего в воображении некие пустые фантомы, а в сердце – бесплодные эмоции, но чтобы дать разуму здравые и твёрдые понятия, определяющие истинное место человека под солнцем Божьим. В самом деле, этот вопрос не только охватывает всю теологию и, будучи правильно рассмотрен, освещает все атрибуты Бога, но также проливает свет на Его деяния и отношения – вещи, без которых невозможно знать ничего во вселенной и которые можно постичь лишь настолько, насколько мы понимаем природу Бога, какую Он позволяет нам уразуметь.
Природой Бога называют то, что отличает не Его проявления, атрибуты или состояния, но само Его бытие от всего иного.
Античная метафизика много колебалась и заблуждалась на этот счёт. Современная метафизика, не претендуя на то, чтобы больше не колебаться и не ошибаться, движется твёрже. Она представляет Божественное Бытие в пяти основных формах:
1. Как чисто абсолютное существование;
2. Как универсальную и единственную субстанцию;
3. Как абсолютную мысль;
4. Как абсолютную причинность;
5. Как абсолютный субъект или высшую личность.
Из этих концепций первые четыре дают нам лишь абстрактного Бога; только пятая содержит личного и реального Бога. Поэтому она не только предпочтительнее остальных, но и единственно приемлема для существа, чья жизнь требует личного и реального Бога. Но какую бы из этих концепций ни предпочесть (а у каждой есть свои защитники), из любой, включая пятую, трудно извлечь понятия, способные раскрыть природу Бога. Ибо если логическую сущность Бога (то есть природу идеи Бога) определить легко, то самого Бога или Его природу в строгом смысле – то есть когда речь идёт о внутренней субстанции, о метафизической сущности Бога – определить крайне трудно. Эта субстанция или сущность не только неизвестна, но и непознаваема; она даже недоступна для разума. Человеческая мысль, столь обильно озаряемая божественным разумом в том, что ей необходимо знать об этом в общих чертах, погружается во тьму, как только пытается подняться выше, или запутывается в противоречиях, когда стремится определить бесконечное.
Природа Божества во все века была предметом самых возвышенных размышлений, о чём свидетельствуют самые блистательные страницы всех литератур; но нигде человеческий дух не достиг научного понимания этого вопроса. Напротив, если он и не остался на начальной точке, то, чем больше стремился постичь божественную сущность, тем больше поражался её непостижимости и тем больше радовался всё возрастающему чувству этой превосходящей всё величия. Ибо его усилия не были бесплодны: нельзя безуспешно размышлять о Том, в Кем собраны все совершенства. Человечество как бы просветлело в этих изысканиях, и конечное смогло уловить проблеск бесконечного. Однако оно не смогло и не может постичь бесконечное, и Фенелон выразил общую мысль всех мыслителей, когда, обращаясь к Богу, воскликнул с порывом, полным своего прекрасного гения:
«Вы так велики и чисты в Своём совершенстве, что всё, что я примешиваю от себя к представлению о Вас, делает так, что это уже не Вы. Я провожу жизнь, созерцая Вашу бесконечность и разрушая её. Я вижу её и не могу сомневаться; но как только пытаюсь понять, она ускользает, это уже не она, я вновь падаю в конечное. Я вижу достаточно, чтобы противоречить себе и поправляться всякий раз, когда представляю себе то, что меньше Вас; но едва поднимаюсь, как вновь падаю под собственной тяжестью… Это не облако, скрывающее Вашу истину, а свет самой этой истины, превосходящий меня; именно потому, что Вы слишком лучезарны и ясны, мой взор не может остановиться на Вас».
(«О существовании Бога», стр. 287.)
Руссо в свою очередь говорит со свойственной ему строгой рассудительностью:
«Я не знаю Высшее Существо, которому дал имя Бог; оно одинаково ускользает от моих чувств и моего разума: чем больше я размышляю, тем больше путаюсь. Я твёрдо знаю, что Оно существует и существует само по себе; я знаю, что моё существование подчинено Ему, и что все известные мне вещи находятся в том же положении. Я вижу Бога повсюду в Его творениях; я чувствую Его в себе, вижу вокруг себя; но как только хочу созерцать Его в Самом Себе, как только пытаюсь найти, где Он, что Он такое, какова Его сущность, Он ускользает, и мой смущённый дух больше ничего не различает. Проникнутый сознанием своей неспособности, я никогда не стану рассуждать о природе Бога, если не буду вынужден к этому чувством Его отношений ко мне».
(«Эмиль», книга IV.)
«Что такое Бог? – говорит другой текст. – Далеко от того, чтобы что-либо утверждать о Высшем Существе, будем хранить перед Ним глубокое молчание: тайна безмерна, и дух теряется в ней. Чтобы сказать, что Он есть, нужно быть Самим Богом».
Это совершенно верно, и тем не менее Бог желает, чтобы Его знали; и не только хочет, чтобы мы знали, что Он для нас значит, но и чтобы мы угадывали, Кто Он есть в Себе Самом. Поэтому эти столь красноречивые тексты можно было бы упрекнуть в некотором преувеличении, если бы вообще можно было преувеличить таинственное величие Божие.
Дело в том, что это величие непостижимо; Бог пожелал остаться для нас в некоторой тайне. Но Он не хотел остаться для нас совершенно неизвестным. Он не мог открыть нам Свою природу, не изменив нашей; однако Он не скрывается полностью ни от наших чувств, ни от нашего разума. Напротив, всё Его Существо сияет перед взором ума, и Его великолепие повсюду являет телесным очам, что Он пожелал быть познаваемым всем существом человека.
Будучи Бесконечным Разумом, Он пожелал открыться конечному разуму, но не ему одному и даже не главным образом ему. Поэтому чисто метафизические умозрения не могут удовлетворить нас в познании Бога. Едва разум улавливает Его, как Он становится для нас прежде всего предметом сердечного размышления, порождая чувство мистической общности и духовного родства. И тем душам, в которых это родство ощущается сильнее всего, в которых эта общность наиболее утверждена, Он являет Себя с наибольшей силой.
Это одна из истин, на которую христианство настаивает наиболее сильно и которую речи Иисуса Христа освещают с наибольшей ясностью. Они звучат с тем большим авторитетом, что Сын Божий открывает не только идею, но и саму природу Бога: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна, 17:3). В этом заключается истина. Бог и то, чем Он является для нас, остаётся неизвестным для того, кто не принимает Его с любовью и сердечным расположением; Он остаётся неизвестным для того, кто не принадлежит Богу, то есть не отдаёт себя Ему и не соединяется с Ним, как сын Божий. Напротив, Бог открывает Себя тем, кто отдаёт себя Ему и соединяется с Ним, как Он соединён с Тем Сыном, Который пришёл открыть Его, Который пришёл возвестить даже простым людям Того, чью сущность Филон ещё называл непостижимой, невидимой, необъяснимой, недоказуемой.
Но из того, что мы познаём Бога главным образом через Его отношение к нам, ещё не следует, что мы знаем Его только в этих отношениях и только в том, чем Он является для нас. Мы знаем также, чем Он является для вселенной и чем Он является Сам по Себе, независимо от всего творения. Познавать Его исключительно через то, чем Он является для нас, значило бы заменять возвышенный теизм узким антропоморфизмом. И не только разум способен мыслить Его иначе, чем как фетиш, украшенный всеми совершенствами, но он стремится, он желает постичь Бога в Нём Самом.
До некоторой степени даже можно сказать, что мы проникаем в Его природу. И в самом деле, знать, что Он превосходит всё сущее и самое великое из того, что мы знаем, – это не значит познавать Его лишь через отрицание. Часто говорят, что наши представления о Его совершенствах – всего лишь перенесённые на умозрительное существо отрицания наших несовершенств. Но если наши представления обо всём остальном положительны, почему же они должны быть отрицательными только в отношении Того, в Ком нет никакого отрицания? Напротив, все наши отрицания о Нём суть утверждения.
Знание наших отношений с Ним – отношений чувствующих существ к Самому Познаваемому Существу – само по себе подразумевает до некоторой степени знание Его природы. И пусть никто не заблуждается: в нормальном состоянии нашего разума эти отношения не подвергаются сомнению.
Что же касается всякого существа, с которым мы находимся в отношениях, мы необходимо познаём то в его природе, что соответствует этим отношениям. И мы познаём отношения Бога с нами лишь в той мере, в какой познаём Его природу. Если бы мы не знали, что Его сущность есть одновременно абсолютная и свободная сила, свободная настолько, что ничто не может связать Его волю, мы не осмелились бы утверждать ни на мгновение, что Он управляет нашей судьбой; мы не сказали бы с той уверенностью, которая есть полная достоверность, что Его рука ведёт нас по нашим нуждам и Его милостям, что Его око следит за каждым нашим шагом и движением, нашим упадком и исправлением – словом, что Он неизменен в Своей правде, несмотря на все перемены в нашем поведении, все колебания, падения и возвращения, свойственные жизни нравственного и свободного существа.
Таким образом, поскольку всё знание о наших отношениях с Богом выводится из нашего знания о Его Существе и из представления о Его природе, нет ничего опаснее и безумнее, чем намеренно преувеличивать наше неведение о природе Божией.
Тем не менее, иногда впадали и в другую крайность, столь же опасную – в безрассудную самонадеянность. Не довольствуясь тем, чтобы определять природу Бога лишь в той мере, в какой Он Сам позволил нам это, забывали, что мы не знаем ничего иначе как относительно, отрывочно, ограниченно и преломлённо через призму человеческого разума; забывали, что всё наше знание антропоморфично, и пытались определить природу Бога точно, абсолютно, аподиктически. «Знать, что Бог существует, – говорили, – значит уже глубоко проникнуть в Его природу».
Но и это утверждение, как и те, что упиваются изображением нашего полного неведения, очевидно преувеличено. Добавлять же, как это делали, что «нам не хватает лишь метода для строгого и научного анализа идеи Бога», – значит предаваться благочестивому, но не философскому доверию и рисковать создать лишь субъективную теологию, чисто логическую теологию.
Между тем, прекрасно сказано: Бог – не абстракция, не предмет логически правильного определения; напротив, Он – Причина причин, Всеобщий Разум и Всесовершенное Существо. Но когда добавляют, что уже по одному этому Он есть Творец и Промыслитель, то обманываются, ибо даже под всеми этими именами – Причины, Разума, Творца и самого Промысла – Он остаётся лишь абстрактным существом, творением нашей мысли.
Скажут ли, чтобы придать Ему реальность, что это Бог совести и что совести нельзя не верить? Без сомнения, совесть непогрешима, если что-либо в нас и может быть таковым; но ничто в нас непогрешимо не есть, и совесть, если вопрошать её искренне, говорит нам только одно: «Так я понимаю Бога». И она не может сказать больше. Совесть – не источник познания; она лишь возвращает нам нашу идею, и если наша идея Бога совпадает с одной из первых четырёх из пяти представленных ранее концепций (как итог господствующей теологии), то никакой анализ не выведет из неё реального, личного Бога. Да и пятая концепция, представляющая Бога как высшую Личность, не даёт Его познать.
Вообще, далеко не углубляясь в природу Бога через одно лишь понятие о Его существовании, мы, очевидно, останавливаемся на идее этого существования. Какое представление можно составить о природе чисто абсолютного бытия? (первая концепция). Какое – о природе единой и всеобщей субстанции? (вторая). Какое – о природе абсолютной мысли? (третья). Наконец, какое – о природе высшей причинности? (четвёртая).
Очевидно, что недостаточно анализировать нашу идею Бога, чтобы познать Его природу: такой анализ есть лишь разбор более или менее логичной концепции.
Природа Бога познается только через анализ сущности Бога, божественной субстанции; а она, как мы уже сказали, недоступна нашему разуму, как и самая внешняя сторона Его бытия, то есть способ Его существования.
То, что нам дано знать о Боге, соответствует тому, что нам дано знать о самих себе. Наша собственная сущность также недоступна нашему разуму. Но через проявления нашей души мы достаточно познаем её свойства, а из этих свойств выводим достаточно о её природе, чтобы понимать себя. Мы одновременно и загадка, и то, что знаем лучше всего. Бог для разума – величайшая из тайн, и в то же время Тот, чье существование, бытие, свойства и саму природу он утверждает с наибольшей уверенностью. Чтобы убедиться в несомненной реальности этой столь уверенной науки и столь абсолютного неведения, достаточно рассмотреть самое совершенное представление, которое, как нам кажется, мы имеем о природе Бога.
Действительно, каждый охотно говорит о сущности или природе Бога, что Он есть дух, и добавляет о способе Его существования, что этот способ – способ духа. Но что мы делаем этими определениями? На первый взгляд – ничего. Поскольку природа или субстанция духов нам неизвестна, называя Бога духом, мы вовсе не даем определения, а просто относим Его к категории неизвестного. Однако, присмотревшись внимательнее, мы не так обманываемся словами, как может показаться.
Понятие духовности включает в себя понятие нематериальности, а следовательно, и полной свободы от всех ограничений материи или пространства. Оно включает понятие жизни, ибо представление о мертвом духе заключало бы в себе противоречие, поскольку смерть может касаться только тела. Оно подразумевает понятие истинной жизни – жизни в её совершенстве, силе, энергии, способности проявляться и, следовательно, в её творческой славе. Наконец, оно включает понятие разума и знания, без которых дух немыслим.
Таким образом, это понятие духовности имеет реальное значение, и если оно не раскрывает нам всю природу Бога, то всё же далеко не бесполезно. Оно приближается к ней с самой надежной и плодотворной стороны. Именно поэтому Священное Писание любит слово «дух» (πνεύμα), применяемое к Богу. И для Писания это не пустой термин. Напротив, оно говорит о Духе Божьем как об источнике жизни и силы, и когда требует от человека вести духовную жизнь, подражая Творцу, Который есть Дух, оно возлагает на него ряд очень ясных, возвышенных и положительных обязанностей.
Здесь снова можно ожидать возражения: скажут, что Священное Писание использует общепринятый язык, не создавая нового, что оно берет выражения, знакомые народу, а не импровизирует определения для метафизиков. Это справедливо, но лишь до известных пределов. На самом деле откровение создало собственную терминологию, которую ниоткуда не заимствовало. Оно создало всё – и идеи, и слова; оно особенно утвердило духовность Бога в знаменитых словах: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Безусловно, правильно говорят, что не следует превращать этическое высказывание – эти великие слова: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине – в метафизическое определение. Этим словом Иисус Христос борется с ложными представлениями о несовершенном богослужении. Его урок по сути этичен. Он заявляет по великому вопросу культа, что Бог – не одно из тех антропоморфических существ, тех ложных богов, которые довольствуются материальными дарами, пышными жертвами и торжественными молитвами; что Он принимает наше поклонение лишь тогда, когда оно исходит от духа и когда истинность чувств освящает его обряды; что Он отвергнет всё самое драгоценное и великолепное, что предложит Ему виновный, если в сердце того – ложь, лицемерие или ненависть, а на устах – обман. Будучи существом не плотским, а духовным, святым и чистым, Бог желает духовного, святого и чистого поклонения – вот что говорит Иисус Христос. Он провозглашает нравственную истину, а не метафизическое определение. Тысячу раз правы те, кто говорит это. Но от этого не менее верно, что слова Христа, сказанные по поводу вопроса культа, утверждают философское воззрение и стали принципом метафизики для христианской мысли.
Таким образом, понятие духовности Бога далеко не пусто и не бесплодно. Напротив, оно одно из самых содержательных и плодотворных – как в метафизике, так и в этике. Однако не следует преувеличивать свет, который оно проливает на природу Бога. Когда говорят, что Бог не имеет с телами ничего общего – ни протяженности, ни размеров, что Он не занимает пространства и ничего не перемещает; когда все эти перечисления сводят к одному слову, говоря, что Бог есть дух – какова реальная значимость этого понятия? Что означает духовность Бога, и что хотят сказать, утверждая о природе Бога: Бог есть дух?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См. J. Matter, «О свободе и авторитете в философии и религии». Париж, 1855.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

