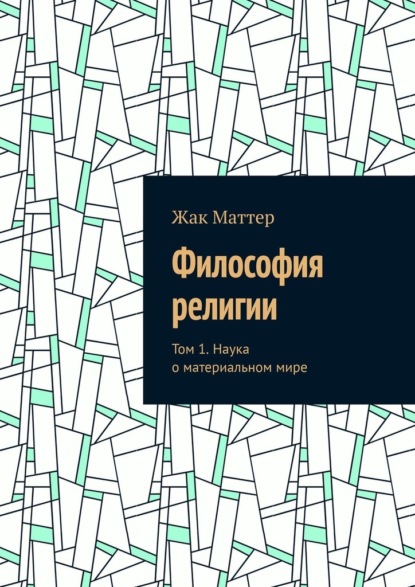
Полная версия:
Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире
«Многие вещи благи; они таковы благодаря единой высшей вещи: следовательно, Бог есть существование, через которое существуют все другие.
Нельзя не иметь этого понятия, и даже нельзя помыслить отсутствие, не-существование Бога. Существо, не-существование которого немыслимо, необходимо существует.»
Несмотря на все усилия святого Ансельма, его аргумент вскоре был оставлен средневековьем, а Ренессанс оставил его в забвении, куда он и пал. Его подхватили Декарт, Фенелон, Боссюэ и Лейбниц, переработав на свой лад. Чтобы укрепить его, они поочередно делали упор на понятие высшего, совершенного, бесконечного. Эта идея, находящаяся в человеческом разуме, должна подразумевать абсолютное и вечное существование, поскольку во всей вселенной ничто не было бы совершенным без этого. Все прочие существа зависимы и случайны, Бог же существует уже потому, что Он один совершенен; Он есть, ибо должен быть.
«У меня есть идея совершенного, идея бесконечного, – говорит Декарт. – Она исходит не от меня, следовательно, была вложена в меня существом, обладающим всеми совершенствами, о которых у меня есть представления. Та же способность, что дает мне „я“, дает мне и Бога как бесконечное существо. Я не могу не мыслить Бога, равно как не могу мыслить Его иначе как существующим. Следовательно, существование выводится из самой идеи» («Размышления V»). Затем в другом месте Декарт, соединяя идею совершенства с идеей причинности, приходит к выводу, что мы созданы другим, ибо если бы мы были своими собственными творцами, то наделили бы себя всеми совершенствами, о которых имеем понятие.
Но нельзя удержаться от некоторого изумления перед этой аргументацией, которая скорее схоластична, нежели принадлежит здравой философии.
Превзойдя немного учителя, Фенелон утверждает, что истинность наших идей требует Бога («О существовании Бога», стр. 190—191), что идея Бога настолько необходима, что служит гарантией и порукой всех остальных. Они должны быть истинными, ибо Бог не может нас обманывать. Но если Бог гарантирует наши идеи, то Он необходимо существует. «Без сомнения, так». Однако если бы Бог гарантировал наши идеи, они всегда были бы истинными и никогда не вводили бы нас в заблуждение, а между тем все факты опровергают эту теорию, доказывая ее тщетность. Не будем останавливаться на том, что чистый картезианство в этой форме превращается в своего рода чистую схоластику.
Боссюэ извлекает из идеи совершенства наиболее блестящие выводы и лучше всех комментирует святого Ансельма:
«Говорят: совершенного нет; совершенное – лишь идея нашего ума, который восходит от несовершенного, видимого глазами, до совершенства, имеющего реальность лишь в мысли. Так рассуждает нечестивец в своем безумном сердце, не помышляя о том, что совершенное первично и в себе, и в наших идеях, а несовершенное во всех отношениях – лишь его умаление. Скажи мне, душа моя, как ты понимаешь ничто, как не через бытие? Как понимаешь лишенность, если не через форму, которой она лишена? Как понимаешь несовершенство, если не через совершенство, от которого оно отпало? Душа моя, разве ты не видишь, что у тебя есть разум, но несовершенный, ибо он не знает, сомневается, заблуждается и обманывается? Но как ты понимаешь заблуждение, если не как лишенность истины? Как понимаешь сомнение и тьму, если не как лишенность света и разума? Или, наконец, как понимаешь неведение, если не как лишенность совершенного знания? Как понимаешь в воле беспорядок и порок, если не как лишенность порядка, прямоты и добродетели? Следовательно, изначально есть разум, достоверное знание, истина, твердость, непоколебимость в добре, правило, порядок – прежде, чем есть отпадение от всего этого. Одним словом, есть совершенство прежде, чем есть недостаток; прежде всякого беспорядка должно быть нечто, что само есть свой собственный закон и, не могущее отступить от себя, не может ни ошибаться, ни ослабевать. Вот оно – совершенное существо; вот Бог, природа совершенная и блаженная. Остальное непостижимо, и мы даже не можем знать, насколько оно совершенно или блаженно, даже в какой мере оно непостижимо. Отчего же нечестивец не знает Бога, и столько народов, вернее, вся земля не знала Его, если идея Его заложена в нас вместе с идеей совершенства? Отчего это, как не от недостатка внимания, от того, что человек, отданный чувствам и воображению, не хочет или не может углубиться в себя и прилепиться к чистым идеям, истинную простоту которых его дух, обремененный грубыми образами, не в состоянии постичь?»
Лейбниц также возвышается над мыслью Декарта к мысли святого Ансельма, но не для того, чтобы ее усилить, а чтобы привести к сомнению, ибо он мало ценил онтологический аргумент, предпочитая космологический, который сам и выдвинул.
«Существование возможно лишь постольку, поскольку возможно само существо. Без сомнения, совершенное существо должно существовать, иначе оно не было бы совершенным. Но нет ли противоречия в самой идее совершенного существа? Пока это не доказано, вы не доказали, что Бог есть, ибо Он существует лишь постольку, поскольку возможен».
Вольф, с его очень ясным умом, почувствовал, что нужно разрешить это затруднение, и решил, что лучше всего показать в своих «Разумных мыслях», что в идее совершенного существа нет противоречия.
«Совершенное существо обладает всеми качествами, – говорит он. – Для него нет никакого отрицания, никакого ограничения, и это не заключает в себе противоречия. Если существо, обладающее всей реальностью, возможно, то оно действительно, ибо существование – величайшая реальность. Оно даже необходимо, ибо необходимое существование есть высшая степень бытия».
Это было действительным возвращением к идее святого Ансельма и приданием его аргументу всей возможной силы. Но, повторим, эта сила не всемогуща.
IV. Этические доказательства. – Оценка всех доказательств
Существует два доказательства, называемых этическими, из которых одно по сути историческое, но во Франции именуется моральным, а другое действительно этическое, однако в Германии его называют метафизическим.
Первое – это факт, что всегда и повсюду человеческий род в той или иной форме верил в существование духовного существа, могущественного и мудрого, которое создало миры и управляет их бытием.
Вывод, сделанный из столь фундаментального и всеобщего факта, несомненно, обладает большой авторитетностью. Однако это не философский аргумент, и критика имеет право – даже обязанность – исследовать, на чем основано это всеобщее убеждение. Является ли оно просто ошибкой, пустой иллюзией? Или же это врожденная идея нашего вида, исходящая от совершенного существа, первичное чувство, составляющее часть жизни души, естественное и непосредственное озарение человеческого разума божественным духом? А может, это творение разума, предположение, прозрение веры?
Каждый из этих вопросов одинаково важен, и все вместе они образуют проблему, наиболее трудную для решения. В конечном счете, нельзя отрицать, что идея Бога имеет одно из тех происхождений, которые остаются сокрытыми от разума. Поэтому ценность аргумента, основанного на авторитете, сколь бы всеобщим он ни был, естественно страдает от тайны, окружающей рождение этой идеи. Тем не менее, никто не может противостоять всем, и Цицерон прекрасно выразил суть исторического доказательства в своих резких словах: «Nulla gens tam immansueta, tam fera, quæ non Deum habendum esse sciat» («Нет народа столь дикого и варварского, который не знал бы, что Бог должен почитаться», De leg. I, 8). Конечно, строгая философия не позволяет принимать догмат на чей-либо авторитет, но нельзя не признать, что авторитет всего человечества имеет огромный вес.
Возражают, что в определенные эпохи человечества серьезные заблуждения бывали более или менее распространены. Но отличие всех этих заблуждений от рассматриваемой истины в том, что со временем они ослабевали и наконец исчезали, тогда как истина, о которой мы говорим, становилась все яснее и сильнее с тех пор, как была дана человеческому сознанию или завоевана им. Из века в век учение о существовании Бога становится богаче и прекраснее, и каждый шаг цивилизации привносит в него новую идею или более достойную форму. И конечно, если сам факт его всеобщего владычества – не философский аргумент, то это, по крайней мере, моральное соображение величайшей важности.
В своей второй форме – собственно этическое доказательство, представленное как единственно верное главой критической школы Кантом, – оно выводится из понятия разума о высшем благе, которому соответствует неотделимый от него факт сознания – любовь к этому благу.
Понятие разума о высшем благе требует существования творца, который был бы принципом справедливости и законодателем свободных существ. Любовь к благу требует абсолютного ценителя или судьи, который вознаграждал бы добро и карал зло. Этот принцип – творец справедливости, и этот судья – воздаятель за добро и мститель за зло – не могут не существовать, ибо если бы их не было, то в нашем практическом разуме не было бы того, что в нем есть. Но это в нем есть – следовательно, они существуют. И настолько несомненно, что мы вынуждены верить в них, как только верим в самих себя.
Кант, придавший этому рассуждению наиболее точную форму, не был его создателем, но считал себя таковым и придавал ему столь большое значение, что, показав сначала несостоятельность всех прежних доказательств, он украсил это всею роскошью своего обильного и тонкого гения. Он назвал его единственно возможным доказательством бытия Божия (Der einzig mögliche Beweis vom Daseyn Gottes). Но на самом деле человечеству пришлось бы несладко, если бы это было так, ибо это доказательство далеко не пользуется той популярностью, которую имело когда-то. Очевидно, что Кант не изобрел его, а нашел у Платона, чья этика основана на идее высшего блага. Более того, Платон развил его с такой любовью, что в нем можно усмотреть в зародыше идеи Декарта, св. Ансельма и Канта. Вот его рассуждение в существенных чертах:
«Мы испытываем потребность любить прекрасное, и наше чувство требует для своего удовлетворения бесконечного, совершенного прекрасного; во всяком случае, ничто несовершенное, ограниченное не может его удовлетворить. Откуда же это чувство, как не от Того, Кто Сам по Своей сути есть благо и прекрасное, источник всякого восхищения и любви? Таким образом, любовь и другой побудительный мотив – разум в его высшей функции, диалектика, – суть два крыла, на которых душа возносится к созерцанию абсолютного, прекрасного, совершенного».
Этот аргумент не только лежит в основе всей морали Платона, но также составляет основу этики св. Августина и мистической теологии многих средневековых докторов, особенно св. Ансельма, не говоря уже о некоторых современных философах.
Таким образом, Кант сам первый впал в заблуждение, с таким жаром развивая и с такой иллюзией преувеличивая ценность одного порядка идей, столь же древнего, который не стоит ни больше, ни меньше многих других. Возможно, его ждет даже менее счастливая участь, ибо он страдает тем недостатком, что основывается на разграничении, по сути схоластическом, – разграничении теоретического и практического разума. Действительно, согласно Канту, понятие добра, как и любовь к добру, принадлежат не теоретическому, а практическому разуму. Но всё это разграничение чисто схоластическое: у нас только один и тот же разум. И неприемлемо это утверждение Канта, что Бог, рассматриваемый как Существо существ, как причина и провидение мира, есть чистая гипотеза, доказательство которой невозможно, тогда как мы обязаны верить в Бога, рассматриваемого как принцип всякой справедливости, как законодатель свободных существ, как вознаграждающий добро и карающий зло.
Вообще, не следует обманываться относительно практической ценности каких-либо доказательств существования Бога. Их действительная важность и роль, которую они играют, находятся в обратном отношении к их возвышенности, тонкости или глубине. Наимене убедительные для большинства умов – как раз самые метафизические. И даже очень религиозные философы сами признавали, если не слабость, то по крайней мере обязательную несостоятельность рассуждений, которые казались наиболее неопровержимыми другим религиозным философам. Так, тонкость святого Ансельма была честно и остроумно провозглашена Фенелоном, чья критика, впрочем, столь благожелательна, что равносильна похвале. «То, что люди, привыкшие размышлять об абстрактных истинах и восходить к первым принципам, познают Божество через его идею, – говорит он, – это верный путь прийти к источнику всякой истины. Но чем прямее и короче этот путь, тем он труднее и недоступнее для простых людей, зависящих от своего воображения. Это доказательство настолько простое, что своей простотой ускользает от умов, неспособных к чисто интеллектуальным операциям. Чем совершеннее этот способ найти Первое Существо, тем меньше умов способны следовать ему».
Другие доказательства, не будучи столь утонченными, разделяют в разной степени ту же участь, что и доказательство святого Ансельма. Несмотря на дань похвалы, которую каждое из них может получить в момент своего появления, не только ни одно из них не принуждает разум в момент своего возникновения, но постепенно все они стареют, как формы, предназначенные сменять друг друга в служении человеческому роду. Ценность каждого из них зависит от состояния народов, их просвещенности, их чувств. Подобно тому как искусство существует только для эстетических душ, а музыка, например, ценна лишь для тех, у кого есть слух, религиозные истины имеют значение только для умов, способных их понять и расположенных их любить, – одним словом, для тех, у кого есть разумение и вера. Отсюда происходит, что то одно, то другое доказательство оказывается в фаворе. Тем не менее, различные доказательства так связаны и поддерживают друг друга, что их объединенная сила всегда побеждала самым убедительным образом все возражения, будь они народные и простые или схоластические и скептические. Эти доказательства представляют собой очень возвышенные философские соображения, религиозные размышления величайшей важности, и факт в том, что даже когда они не представлены в форме силлогизма, разум не может им противостоять. Именно благодаря их сущностно религиозной ценности наиболее религиозный из философов – я имею в виду Фенелона – изложил их с наибольшей красноречием и убедительностью.
Вообще, с этими доказательствами дело обстоит так же, как и с доказательствами бессмертия души: каждое в отдельности можно опровергнуть; но собранные вместе, они не только усиливают друг друга, но и дополняют идею Бога, делая её столь же мощной в своей истинности, сколь и ясности. Для нравственных существ они носят характер авторитета настолько неопровержимого, что существование Бога для них действительно доказано.
Существование Бога, кроме того, дано душе непосредственно, и даже если бы оно было недоказуемо для разума, оно оставалось бы предметом веры для чувства. Возможно, оно настолько мало доказуемо именно разумом, что и не нуждается в доказательствах, поскольку так легко, просто и естественно постигается, – ведь высший разум есть также высшая постижимость. «Если кто-нибудь спросит меня, – говорит Фенелон, – каким образом Бог присутствует в душе, какой вид, какой свет, какой образ открывают Его нам, я отвечу, что Ему не нужен ни вид, ни образ, ни свет. Высшая истина есть высшая постижимость; бытие через себя самого есть через себя самого постижимое. Бесконечное Существо присутствует во всём». (стр. 234, 315.)
Из того, что эти доказательства не принуждают разум, хотели сделать вывод, что они имеют чисто субъективную ценность и что этот характер происходит именно от отсутствия в них объективности.
Но, напротив, если идея Бога вспыхивает в нас, то потому, что она живет в нас, составляет саму основу, субстанцию нашего разума; и если существование Бога не может, как истина второго порядка, быть выведено из чего-то другого, то потому, что всякая выведенная истина, всякое заключение имеет меньший охват и причастно абсолютной истине в меньшей степени, чем посылки, источник, из которого оно выводится.
Вера в Бога, не будучи ни фактом наблюдения, ни индукции, ни дедукции; это убеждение, имеющее своим предметом первоначальную истину и образующее фундаментальную идею разума, – все доказательства могут быть сведены к одному, уже найденному у Платона, а именно: существование и природа самого разума. Если все наши идеи и сама способность к идеям, разум, есть лишь причастность вечным идеям, то существование Бога, вместилища этих идеей, доказывается одним лишь существованием наших идей, существованием нашего разума.
«Именно потому, что существование Бога дано в самом неоспоримом из всех фактов – существовании нашего собственного разума, – оно излучалось повсюду: во всех душах, во всех святилищах, во всех школах. Как данность, непосредственно присутствующая в человеческом сознании, идея Бога особенно утверждалась мыслителями с глубоким религиозным развитием: Сократом и Платоном в античности, Паскалем и Фенелоном в расцвете нашей современной философии.
В наше время два немецких философа – Якоби и Баадер – настаивали не только на непосредственном характере веры в Бога, но и на способности постигать через интуицию Того, Кто одновременно является и источником, и главным объектом этой способности. Это заманчивая теория, которая, конечно, не нова, но едва намечена в других учениях и настолько увлекательна, что отражается даже в трудах критических метафизиков – естественных оппонентов верующих мыслителей.
Недавно у нас появилось доказательство, превосходящее все прочие своей простотой. Всеобщие и необходимые истины – те, что не являются общими законами, которые наш ум извлекает через абстракцию из частных явлений (по своей сути относительных и случайных и потому не могущих содержать ни всеобщего, ни необходимого), – не существуют сами по себе. В таком случае они были бы лишь чистыми абстракциями, висящими в пустоте и ни с чем не связанными. Истина, красота, благо – это атрибуты. Нет атрибутов без субъекта, а поскольку три названных атрибута суть абсолюты, их субстанцией может быть только Абсолютное Существо». Это восхитительно просто; однако было неопровержимо показано – не то что всеобщие истины происходят из опыта и анализа (это не доказано), а то, что слово «истина» в этой аргументации используется в двух разных значениях: сначала как необходимые отношения, а затем как знание этих отношений; что в первом случае оно вовсе не подразумевает идею познающего субъекта, а если подразумевает её во втором, то вывод от этого не становится менее ошибочным, поскольку две посылки связаны лишь двусмысленностью. Таким образом, следует признать – не то, как говорили, что вся эта теория основана на языковых ошибках, а то, что она покоится на подлинной путанице идей, что является логической ошибкой.
«Различные доказательства существования Бога, – говорит один философ-теолог, – лишь обозначают те ступени, по которым ум поднимался к познанию Бога вне откровения, а аргументы лишь логически суммируют более или менее медленные пути, которыми шли. Главным образом, есть два пути, ведущих человека к Богу и познанию Его бытия: изучение мира и изучение себя. Изучение мира отражается в космологическом и телеологическом доказательствах; изучение себя – в онтологическом и этическом. Но ни один из этих путей не ведёт к истинному познанию Божественного существа, пока ему не сопутствуют свидетельства откровения, которые христианство пробуждает в нас и вокруг нас». (Мартенсен, «Христианская догматика», 3-е изд., стр. 94.) И это не просто утверждение теолога. Это факт: христианская религия внесла в лоно человечества и в теологическую науку своего рода интуицию Бога и близость с Ним, так что Иисус Христос мог сказать в полной истине: «Никто не знает Отца, кроме Сына и тех, кому Сын открыл Его». Христианское знание тем более прямо, позитивно и обладает Божественным Существом, что оно не ищет Его, не доказывает и не обосновывает Его – оно имеет Его, Он всегда был в сознании народа Божьего. (Евангелие от Иоанна 1:1; Послание к Евреям 1:1.) Некоторые тексты, кажется, отсылают: одни – к физико-теологическому доказательству (Деяния 14:17; Римлянам 1:20), другие – к онтологическому (Римлянам 1:19, 32; Деяния 17:24), третьи – к этическому (Римлянам 2:14). Но если так, то без какого-либо умысла. Для христианства доказательство существования Бога есть демонстрация, присущая духу человека и его естественной силе (ἀπόδειξις πνεύματος καὶ δυνάμεως). См. Ган, «Теология Нового Завета», «Существование Бога», т. I, стр. 75.
Чтобы склонить к теизму великих мира сего, иногда демонстрировали пользу или необходимость догмата о существовании Бога для обеспечения воспитания и управления народами. Вдохновлённые самыми благородными чувствами, эти педагогические и политические соображения, однако, имеют реальную ценность лишь постольку, поскольку опираются на изначально этическую природу человека; и тогда они обладают для некоторых умов такой же силой, как и другие. Впрочем, вполне естественно, что Божественное величие, Владыка всего и всех, принимает дань уважения любого рода и что каждый рад указывать на Него там, где находит Его.»
Нужно сказать, в конечном счете: на всех доказательствах бытия Божия, сколь бы сильными или ясными они ни были, лежит некая тень, пока они не подкреплены и не освещены здравой теорией о природе и атрибутах Существа всех существ. Дело в том, что, хотя они и проливают на Него некоторый свет, хотя и дают понятие о причине и абсолютном бытии, они, тем не менее, раскрывают лишь некое отвлеченное представление; и если они не оставляют сомнений в умах относительно того, что Бог существует, то оставляют неясность в этом главном вопросе: Каков Он?
Кроме того, тот факт, что большинство этих доказательств принимается самыми разными системами, показывает, насколько смутны и пусты теории, которые – за исключением атеистов – могут принять все философы: натуралисты, детерминисты, пантеисты. Как может Бог, столь неизвестный и столь мало определенный, что Он подходит к учениям, которые я отвергаю, – как может Он подходить к моему учению?
Все эти столь тонкие и возвышенные аргументы, которые мы только что рассмотрели, имеют ту участь, что при переходе от их совокупности к изучению самого Бога с горечью замечаешь: хорошее доказательство существования Высшего Существа – не только весьма отвлеченная, но и весьма несовершенная, весьма темная работа, поскольку оно не дает того, что важно в отношении Бога. А важно – знать Его, понимать, что Он есть в Себе, что Он есть для творения и, главное, что Он есть для нас.
С этой точки зрения Евангелие тоже является философским, хотя и не стремится к этому.
Евангелие не доказывает существования Бога – оно предполагает его известным через дела, через явления Божии, которым разум не мог противиться. Согласно Евангелию, Бог был мало познан, познан плохо или же остался вовсе неизвестным (Евангелие от Иоанна I, 18; Первое послание к Коринфянам I, 21), и не в том задача, чтобы доказывать Его существование, а в том, чтобы явить, Кто Он есть.
Глава III. Природа и атрибуты Бога
I. О природе Бога
Когда существование Бога доказано в общих чертах, разум еще обладает лишь абстрактным бытием – началом, причиной или творцом всего, словом, Высшим Существом, но лишенным каких-либо конкретных атрибутов. Как бы ценно ни было это фундаментальное исследование, оно по сути предварительно, и сразу после него необходимо перейти к другому, гораздо более прямому. И если оно не важнее, то, по крайней мере, решающее, поскольку только оно придает реальную ценность первому, придавая определенные черты Существу, чье бытие установлено. Это исследование касается природы Бога и Его атрибутов.
Действительно, через познание того, что есть Бог, и особенно того, чем Он является для нас, философское или умозрительное доказательство Его существования меняет свою природу; оно приобретает для души такую ценность, пробуждает в ней столь ясный и отчетливый интерес, что обретает все черты новой истины. Доказательства становятся тем сильнее, чем более личными они для нас становятся, то есть когда исследования о том, чем Он является для всех, лучше объясняют, чем Он хочет, чтобы мы были для Него. Существование Бога понимается тем лучше, чем ближе Он к нам и чем больше наше бытие связано с Его. В этом отношении серьезная и полная антропология поистине является лучшим светочем теологии. По крайней мере, теология обретает свою наиболее позитивную и точную форму, когда освещается и подкрепляется всеми человеческими чувствами, равно как охватывает и направляет все человеческие судьбы.
Но в какой мере дозволено доброй метафизике прислушиваться к человеку в его представлениях о Господе и учитывать не только идеи его разума, но и вдохновения его сердца? В какой мере наука о Боге может принимать во внимание желания и надежды человека? Не значит ли это отдавать теологию во власть поэзии, делая ее теории зависимыми от прихотей наших интересов или чувств? Без сомнения, теология, столь проникнутая человечностью, может быть более трогательной, но станет ли она от этого более истинной?

