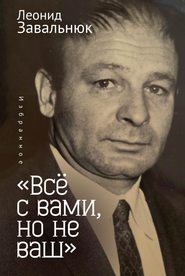скачать книгу бесплатно
Поэзия – старинный спорт отважных.
Поэт – небесный альпинист. И цель его
Те выси обживать, где даже богу страшно.
Всё остальное – комплекс ГТО.
Опрощение Бога уравновешено возвеличением Поэта. Он становится смыслопорождающим явлением:
Не было, не было, не было!
Ничего, уважаемый, не было! <…>
А теперь что происходит в небе?
А теперь весна происходит в небе,
А теперь любовь происходит в небе,
Потому что поэт запел.
От его животворных песен
Ничего не родится в мире,
Ничего не родится в мире
От высоких прозрений его.
Но там, где нету причины
Бряцать на бессмертной лире,
Там может быть всё, что угодно,
Но нету там ничего!
Аполлоновское начало – служение музам – отводится в сторону:
Вот твой читатель.
Бей без промедленья!
Посулы сыпь, и пестуй, и мани,
Но доконай его, каналью, дотяни,
Не дай ему уйти от просветленья!
В обыденной жизни под просветлением понимают выход к Богу. Но из стихов поэта, методов его обращения с читателем совершенно ясно, что под просветлением имеется в виду выход за рамки обыденности, осознание себя частью вселенной, природы, т. е. расширение рамок существования. Не исключено, что для Завальнюка суть просветления очень сближена с путём к «внутреннему человеку», сиречь – Богу:
Какой-то новый свет во мне,
Но сквозь рутину не пробиться.
И я кричу душе:
– Уж ты хоть повнимательней смотри.
Порой мне кажется, пророк грядёт.
Не упустить бы зодчего-провидца.
И слышится ответ:
Согласна. Но терпи.
Для этого мне должно раздвоиться.
И не как в сказках-снах,
А с кровью раздвоиться,
Поскольку неизвестно, он извне придёт
Иль изнутри.
Пророк теряет «небесную» ипостась – посланца Бога, сближаясь (по среде обитания) с человеком. Ни у кого, кроме Завальнюка, поэт не может сказать: «Пророчеств хочется. Хоть сам их сочини». Даже если он пророчит, то лишь как медиум. Тютчев следовал давней традиции, когда говорил:
Стоим мы слепо пред Судьбою,
Не нам сорвать с неё покров…
Я не своё тебе открою,
Но бред пророческий духов…
Кажется, против самой этой традиции и взбунтовался Завальнюк:
О радости предел! О темени порог!
Неведомо, когда и кем он был поставлен.
Но ведомо, что нами он прославлен
И утверждён на вечные года.
Поэт и перехватывает у неба право голоса, пророча о земном, а не заоблачном:
Дороги хочется.
Поддамся наважденью
Немыслимых прозрений ножевых!..
Уж лучше быть никем в краю навек живых,
Чем быть собой средь мёртвых от рожденья.
Не отрицается ни Бог, ни «тот мир», но в центр выдвигается проблема человека, его «самоуправления»:
Пророка жду… Бог в помощь, говори!
Пророка жду… Он лёгких слов не скажет.
Он мёртвых всех простит,
А всех живых отвяжет
Равно от мрака вечного и от пустой зари.
Пока ничего страшного, всё ещё может выглядеть по-старому. Но вот следствия:
И понесутся люди кто куда, –
Одни побежкой волчьею, другие конским скоком.
– Живите, – скажет [Пророк], – врозь.
– Не лезьте в небо скопом.
И даже по двое не лезьте вы туда.
При том, что бог один, у каждого свой бог.
В речи поэта смешались амплуа моралиста и пророка. И это даёт совершенно непредвиденную отдачу – возвращение доверительного и уважительного смысла словам, скомпрометированным и обесцененным в современном обороте.
V
Едва ли кто сейчас склонен принять без улыбки слова о любви к ближнему, сочувствии, справедливости. Они остались в употреблении лишь у наивных провинциалов. Трудно допустить, чтобы Завальнюк с этим не считался, что говорок о наивности и провинциальности не достигал его ушей, – мол, пишу, как дышу. Особенно это касается слова «правда» – названия коммунистической газеты, ставшей символом того, чему никто не верит. Казалось бы, элементарное чувство реальности должно было удерживать руку поэта. Но мы видим обратное, высказанное со всей силой пророка:
Когда я говорю, пленённую зарю
Вдруг отпускают мёртвые твердыни.
И самоуниженье без гордыни
Даётся всем, когда я говорю.
Когда я говорю так, словно свет творю
Из горькой немоты и одичалой боли,
Жизнь воцаряется на брошенном престоле,
И вечен мир, когда я говорю.
Когда я говорю и так душой горю,
Что чужд и жуток небесам и людям,
Из праха восстают все те, кого мы любим,
И я вселяюсь в них, когда я правду говорю.
Когда я правду говорю, когда судьбой сорю
В отважных лунатизмах потрясенья,
Вам благо всем. Мне больше. Мне – спасенье.
Я жив! Я есмь, когда я правду говорю!
Это стихотворение названо «Монолог старого поэта». «Старого», т. е. мысль выстрадана, «небо стало небом». Опора на традицию очевидна, но не ближнюю, а дальнюю, на того, кто сказал: «Я есмь – конечно, есть и ты!». По конструкции, по звучанию она сработана по модели самопрославления, заданной Державиным:
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих…
«Правда» – любимое слово Державина, его кредо, его грозное оружие («я тем стал бесполезен, что горяч и в правде чёрт»). В этом смысле он не был свободен: «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду». Но «стоять – и правду говорить» – ещё не всё. По свидетельству И. Дмитриева, Державин «как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство»[6 - Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. http://derzhavin.lit-info.ru/derzhavin/ vospominaniya/dmitriev-vzglyad-na-moyu-zhizn.htm.]. Малопочтенные сейчас слова обладали необескровленным значением для Державина.
Когда переводы псалмов – привычная практика, сближение поэта с пророком не выходит за рамки тривиального. Но в «Памятнике» нет и следа «пророка». В заслугу ставится смелость говорить императрице то, за что мог лишиться головы. Всё так, но есть нечто, недостаточно заметное или замеченное, некая поправка, без которой памятник – не памятник. Не просто говорить истину царям, но «с улыбкой». Весь смысловой вес в этой строфе принимает на себя первая строка: «первый я дерзнул в забавном русском слоге». Ведущим был не пророческий пафос, достойный «бесед о Боге», а просторечие, сниженный тон совсем иной языковой среды.
«Правда» – слово, безусловно, этически окрашенное. Но в придворной сфере употребление подобных слов считалось «моветоном», т. е. «знаком» нарушения писаных и неписаных правил светского общества. В данном случае дело даже не в уместности слова, а в самом языке. Слова живы, покуда ими пользуются. Для Державина высокие слова «правда», «честность», «нравственность», «потомство» должны были иметь живую цену. Иными словами, речевая картина мира Державина отличалась от (выпадала из) светской.
В речевой картине мира подчеркнём один из аспектов, а именно «картинность», т.е. изобразительно-красочную форму языка. Важно учесть, что в становлении послепетровской культуры особая роль принадлежала портрету, в котором соединялись возможности слова и краски. Первым образцом портретного искусства была парсуна (от «персона») – произведение, выполненное на традициях иконописи. Давление иконописной «крови» на поэтическую и живописную культуру было ещё сильным. В живописном портрете словесный образ отражается специфической формой – надписью к портрету. Живое переключение с одного образа на другой, с образа на мысль и обратно отвечает диапазону «философии портрета». Именно портрет претендует на роль полноценного выразителя образа мира. Особенно наглядно это проявилось в императорской теме – ключевой составляющей государственного мифа. Такие произведения, как портрет Д. Г. Левицкого «Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия» (1783) и ода Г. Р. Державина «Видение мурзы», воспринимались в едином срезе.
Сравнение произведений, решающих одну и ту же задачу прославления императрицы, обнаруживает уникальную особенность, которая метит работу именно Державина, – забавность. В неё входит сильно заявляющее о себе смеховое начало, порождаемое перепадом уровней языка. В оду императрице включаются непозволительные обороты: «Подобно в карты не играешь, / как я, от утра до утра». Но «забавность русского слога» – это не только смешение высокого с низким, это ещё и «красочность» поэтического словаря, его яркость, живописность и жизнерадостность. На Руси любили яркие краски: красный, малиновый, голубой, зелёный, жёлтый, иногда чёрный. Ценилось их резкое сочетание. Необычность поэзии Державина чрезвычайно высоко оценил и прокомментировал один из лучших знатоков литературы XVIII века Г. Гуковский: «У Державина на первом плане – красочное пятно. <…> Он ищет всевозможных средств изображения материального мира».[7 - Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М.: Аспент-Пресс, 2003. – С. 354.] Как особенность державинского «открытия природы», учёный акцентировал внимание на «яркости, бодрости, великолепии красок его живописи»[8 - Там же. С. 355.] (курсив мой – А. Б.).
Все эти компоненты – смех, причастность одновременно и литературе, и живописи – встречаются вместе только в одном из видов искусства – лубке. В этом отношении описание Гуковским популярности стихов Державина чрезвычайно показательно. О поэзии говорится языком похвалы лубку: «Его стихи рвут из рук, их переписывают в заветные тетради, они не нуждаются даже в печати, их и без того все знают наизусть; они – злоба дня, они попадают не в салон и не в школу, а на улицу; их читают не в тиши кабинетов, а на общественных гуляниях, за многолюдным обедом, в гостиной, в передней, в дворцовом аванзале, в офицерской кордегардии, в семинарском рекреационном зале, на весёлой пирушке. Их не изучают, как «Россиаду», а используют по назначению. Всякому интересно заглянуть в стихи, где продёрнут известный вельможа, где остро говорится о политике, где автор высказывается о вчерашнем событии. Иногда стихи возмущают, иногда приводят в восторг. Автор рассылает своим читателям бюллетени о своих наблюдениях, сопровождая их своими замечаниями»[9 - Гуковский Г. Цит. соч. С. 362.]. Стоит добавить, что Державин был умелым рисовальщиком, он набирал опыт на перерисовке лубочных картинок.
В 1989 г., выходит сборник стихов Завальнюка «Деревья, птицы, облака». Обе сторонки обложки – и лицевая, и закрывающая книгу – представляют собой цветные картинки. Их игровой, сказочный, упрощённый рисунок по типу приёма принадлежит лубку. В той же манере выполнена обложка сборника «Мужик ласкает даму»[10 - Собран Завальнюком в 1989 г., опубликован только в 2014 г.]. Если рисунки рассматривать как специфическую форму авторского послания к читателю, то «говорящим» является тот факт, что выбор типа обложек и исполнение рисунков принадлежит автору.
В обоих сборниках на равных началах идут тексты «смешные» и серьёзные. Для автора они равноценны, а вот для читателя, не заметившего лубочной специфики, – совсем нет. Лубочно-смеховые тексты не равноценны по изобретательности языка и хитроумию, не все свободны от дидактичности. Стих сильно приближен к разговорной речи райка, «рассказчик» толкует обо всем на свете – о политике, бюрократизме, экологической проблеме, любви, быте и т. п. Уже заголовки стихов показательны: «Разговор с человеком в белых брюках, про которые я думал, что они чёрные», «Коля и Маруся, или Как возникло Созвездие Гончих Псов», «Экологическое, или Баллада о зубро-бензоле», «Разговор о всезабавности, который прервался на самом интересном месте». Но, читая, стоит помнить «старое» (дореволюционное) отношение к лубку: картинку рассматривают (именно «рассматривают», а не смотрят), «вертят, тыкают пальцами, заливаясь при этом хохотом, за изображённых на картинке людей говорят, сочиняя целые диалоги и сюжеты, картинку разыгрывают, она выступает как стимулятор своеобразного действа. Именно на это и рассчитана лубочная живопись»[11 - Лотман Ю. М Художественная природа русских народных картинок // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств») – СПб.: Академический проект, 2002. – C. 322–339.Впервые в сб.: Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX веков: (К 150-летию со дня рождения Д.А. Ровинского). – M., 1976. – С. 247–267. (Материалы науч. конф. (1975)). Цит. по: philologoz. ru›lotman/lubok.htm.]. Как это всё близко к словам Гуковского о Державине!
Подобно Державину, Завальнюк самостоятельно обучился рисованию и известен не только как поэт, но и как художник. Его картины – абстрактные цветовые композиции (с однотипными названиями: «Знак воды», «Знак неба», «Знак земли» и т.п.[12 - Leonld Zavalnluk. Леонид Завальнюк / Каталог выставки «Знаки»Catalog of the Art Exlbltlion “Symbols” The Nicholas Roerich Museu7m, New York, N/Y/декабрь 1992.]). Любопытно, что «изобретателем» абстракционизма считают Кандинского, который прошёл через лубок в поисках живописных возможностей преодоления материальности. Абстракционист в живописи, Завальнюк и в поэзии выразил примерно ту же идею, возвеличив «общение только токами души». В сфере любви желание «сказаться без слов» вполне естественно. Но не любовь волнует Завальнюка:
Бывает – встретишь… Так, мальчонка…
А в очах
Настолько мне знакомое горенье,
Что я скажу, он скажет – и пустейшее мгновенье, –
Как дни, как годы гостеванья при свечах.
Вот этим и живу. Всё остальное – блажь.
Примат духовного разводит поэта со своим материалистичным временем, и стихотворение завершается признанием огромности расстояния между собой и современниками:
Куплю-продам, автомобиль, свобода…
С какого года я?
Я ни с какого года.
Родился вместе с вами.
Жил.
Умру.
Всё с вами.
Но не ваш.
«Не ваш», так чей? Ничей, свой. В книге по русской литературе XVIII века Гуковский определил «ничейность» как «личность». Честь открытия личности вместе с идеей личной ответственности поэта за свои суждения приписана Державину. По мнению учёного, всей своей жизнью и поэзией Державин отстаивал «право живой личности на самостоятельность», желание не повиноваться «ничему, кроме своих мнений»[13 - Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. С. 362.]. Стоит подчеркнуть, что в советское время, не признававшее независимости от партийной догмы, проблематика «личности» относилась к области буржуазных фальсификаций. Но продолжим.
Ответственность перед кем? Перед собой – это по Канту. У Сковороды с «ничейностью» связана вся концепция «внутреннего человека» («познай самого себя»). Формула внутреннего отдаления от современников («Всё с вами. / Но не ваш») очень близка к эпитафии, написанной Сковородой самому себе: «Мир ловил меня, но не поймал».
Со «штрихом» личности получает завершение вся картина поэзии Завальнюка. Она замышлялась нами как индивидуальный литературоведческий портрет, но оказалась своего рода лубком с изображением ствола дерева с мощными корнями. Дерева особой породы, ибо по осени с него осыпаются не плоды, а овощи. Роль хорошо различимых корней играют произведения и биографии Державина и Сковороды. Но не только. По оттенкам духовной жажды узнается Пушкин, а уподобление человека дереву («без корней я – древесина») восходит к ранним стихам Заболоцкого:
В жилищах наших
Мы тут живём умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях <…>
«Столбцы» Заболоцкого – своеобразная печать или мета единства культурного феномена, связующего XVIII век с ХХ-м.
VI
До сих пор устойчиво разбиение искусства на две категории, одна из которых –«верхняя», создаваемая специально обученными людьми и отвечающая вкусам доминирующих слоев общества, а вторая – «нижняя», издавна существующая, относимая к сфере фольклора. Не так давно стали говорить о существовании «третьей культуры», «однажды возникшей, исторически развивавшейся в изменчивых и зыбких, но всё же уловимых границах между фольклором и учёно-артистическим профессионализмом»[14 - Прокофьев В. Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени(к проблеме примитива в изобразительных искусствах)/ Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983, с. 6-28 Цит. по: ec-dejavu.ru›p/Primitivism.html.].
Естественно, что её появление относят к числу последствий деятельности Петра I, при котором единое прежде общество разделилось надвое, породив и соответствующее различие в культурах. В самом грубом приближении оно выразилось в противопоставлении городской («высокой») и деревенской («низовой») системы понятий. При таком бинарном раскладе поневоле игнорировалось ещё одно обстоятельство послепетровской реальности – зарождение и постепенное разрастание промежуточного слоя: купцов, торговцев, мастеровых, печатников и пр. О культуре этого слоя речи не возникало. Наиболее известным был «лубок», но и он пользовался дурной славой, относился к сфере интересов «черни». Только сейчас положение начинает меняться. По словам специалиста, «вопрос о существовании в художественной культуре, по крайней мере Нового и Новейшего времени, наряду с учёно-артистическим профессионализмом и фольклором, особого – третьего пласта, обладающего собственной эстетикой и нуждающегося в специальном изучении, по существу, достаточно нов как для фольклористов, так и для тех, кто изучает профессиональную литературу, музыку, театр и т. д.»[15 - Прокофьев В. Н. Цит. соч.]. Для «изучающих профессиональную литературу» полезно было бы взглянуть на поэзию Державина с точки зрения влияния на неё языка «третьей культуры». Тогда не пришлось бы втискивать «на три четверти свинцового» Державина в рамки «тяготения к реализму». А «эстетическую совесть» перестала бы смущать необыкновенная популярность басен Сумарокова.
Оба поэта XVIII века – современники Сковороды. На Украине Сковорода был широко известен как бродячий народный мудрец – «старчик». У них, у старчиков, черпал живую воду Завальнюк:
И вспоминаю сединою убелённых
Глубоких старцев, что прошли сквозь жизнь мою.
Как лебедей таинственную стаю,
Чудачества их милые листаю
И дань души им молча отдаю.
Взаимный свет, проливаемый выделяемыми нами поэтами друг на друга, вынуждает подозревать, что основа сходства «лиц» этих разных индивидуальностей заключена в самой «третьей культуре». Как заметил Заболоцкий, «Земля ласкает детище своё». Но главное, что мы видим в них, поэтически выразил не он, а Завальнюк, давший свою версию Прометея:
Он смерть попрал, не соблюдая правил,
Небесных уложений и законов.
И был за это сам к скале прикован,
И мясом стал для пропитания орла.
О, сколько птичьей падали вокруг!
Орлы сдыхали, падая как мухи.
А он был жив, терпя большие муки,
Как всякий, кто судьбу
Взял в собственные руки
И в ком небесный пламень
Не потух!
Вот оно, то главное, что мы искали: «судьбу взял в собственные руки».
«Небесный пламень» хорошо знаком «верхней культуре», а вот людей, «взявших судьбу в собственные руки», и там не много. Понятие о таком человеке веками формировалось в Европе и получило название «личности». Для русского люда, коллективистского (общинного, соборного) по ментальности, это понятие чужеродно. Личность (не вдаваясь в тонкости) – это человек, отвечающий за свои действия только перед собой, перед своим, свободно избранным, внутренним законом. Допустить в низовой среде существование личности не было никакой возможности. Но туда, вглубь специфики русской ментальности, уходят корни «правды», выглядящей одиозно в поэзии Державина и Завальнюка. «Правда» понятнее русскому подсознанию, чем «закон» и «свобода», на которых взросло понятие европейской личности. «Правду» видит Бог, «закон» творится людьми. Вопрос о возможности существования «личности» на русской почве до сих пор остаётся вне обсуждения. Только Пушкин, упорно искавший наследников чувств независимости и достоинства, присущих сходящему с исторической сцены дворянству, пристально вглядывался в среду «капитанов Мироновых», опростил и переместил туда своего героя-дворянина. Совсем не случайно Завальнюк вложил в уста «единственного на свете Александра» своё понимание «высшего пострига человека».
Часть I
Подорожная
Если вы очень любите жизнь