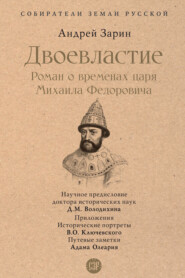скачать книгу бесплатно
Экономика России была подорвана. Центральные области подверглись разорению, в особенности города. Москва стояла в руинах. Оборона русского Юга утратила способность сдерживать набеги крымских татар. Целые области обезлюдели на годы и даже десятилетия, во множестве деревень и сел не осталось ни единого человека, пашня стояла заброшенной. В некоторых уездах исчезло 50–90 % деревень. Даже из монастырей в столицу шли челобитные, в которых сообщалось, что обители долгое время стояли «пусты, без пения», а церковная утварь сгорела или разворована.
О мощных полевых армиях, какими страна располагала под Казанью и Полоцком, пришлось надолго забыть.
Первым Романовым – патриарху Филарету, государям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу – пришлось заняться сложнейшей задачей. Им требовалось не только восстановить экономику страны, поднять города из развалин, дать обществу стабильность, но также реставрировать, а кое в чем и реформировать государственный аппарат, разрушенный Смутой, заново создать вооруженные силы, отвоевать потерянные территории с православными храмами и русским населением. Одно мешало другому: найти средства для восстановления армии, аппарата управления, для новых войн можно было только за счет крестьян, ремесленников и торговцев. А обложить их огромными податями и заставить отрабатывать тяжелые повинности значило выжать все народные силы досуха. Население страны и так уменьшилось, обеднело, так его еще ожидало ожесточение налогового бремени! Иной курс в тех условиях для правительства и не был возможен. Но эта политика должна была вызвать недовольство, волнения, бунты… Так и произошло. XVII век богат безрассудно-жестокими мятежами, как никакой иной в русской истории. Кровь лилась реками, и, бывало, судьба государства висела на волоске.
Но в конечном итоге первые Романовы вывели Россию из разрухи. А их потомки вернут все то, что отобрали у страны, воспользовавшись Смутой, шведы и поляки.
Что принесла стране династия Романовых в целом? Не при Михаиле Федоровиче, а за все то время, которое она занимала престол?
Прежде всего надо сказать, что она выглядит достойно в ряду современных ей монархических династий Европы и мира. Романовы правили громадной державой в течение 304 лет, при них территория страны значительно расширилась, ее население умножилось, а «вес» в мировой политике значительно вырос. Романовы приняли разоренную, обезлюдевшую, едва живую страну, а привели к страшному революционному рубежу одно из величайших государств мира.
Не все, разумеется, складывалось гладко. Так, например, отношения династии с Церковью знали несколько резких поворотов.
Тяжело приходилось Русской церкви в XVIII столетии, когда Московское государство превратилось в Петербургскую империю.
А. П. Антропов. Портрет Петра I. 1772
При Петре I Русская церковь стала частью государственной машины. С 1721 года она лишилась духовного главы – патриарха. Церковным организмом теперь правил Синод – фактически «коллегия по делам веры», госучреждение. Надзирал за его деятельностью обер-прокурор (светский чиновник). Порой он назначался из персон, бесконечно далеких не только от православия, а и от любой разновидности христианства. Пять лет обер-прокурором числился крупный и весьма энергичный масон Иван Иванович Мелиссино (1763–1768). Потом еще шесть лет обер-прокурором состоял Петр Петрович Чебышев – не только масон, но еще и открытый проповедник безбожия (1768–1774). Позднее, при Александре I, в обер-прокуроры был поставлен князь Александр Николаевич Голицын, по отзывам современников – «веселый эротоман» и сторонник идеи «универсального христианства».
Петр I запретил учреждать новые монастыри, строить скиты, постригать во инокини женщин моложе 50 лет, ограничил количество монахов произвольными штатами. При Анне Иоанновне издевательство над русским монашеством продолжалось. Обители «вычищались» от «лишних» иноков, дабы у правительства появились новые работники на рудниках и новые солдаты. По закону запрещалось постригать во иночество кого-либо, кроме вдовых священников. Екатерина II отобрала у храмов и монастырей землю. Без малого 600 обителей предполагалось упразднить, и, действительно, в итоге екатерининской реформы множество обителей просто исчезли, оставшись без источников пропитания.
На заре XVIII века Россия располагала 1200 обителей. Их число сокращалось стремительно. К середине 1760-х у нас осталось 536 обителей. Из них содержание от государства получали 226, а прочим 310 позволялось влачить существование на пожертвования. К началу XIX века общее число монастырей уменьшилось приблизительно до 450.
Можно констатировать: XVIII век – время, когда правящая династия усвоила в отношении Церкви чудовищную бесцеремонность как норму, как нечто само собой разумеющееся.
В XIX столетии дела русского духовенства несколько выправились.
В то время среди Романовых были государи благочестивые, ставшие для Церкви истинными благодетелями. При Николае I из церковного управления был вычищен масонский дух, так много испортивший во второй половине XVIII – начале XIX столетия. Тогда же правительство позволило монастырям приобретать большие участки ненаселенной земли. Николай Павлович – первый русский монарх после Петра I, в царствование которого возобновился устойчивый рост монашества.
В годы правления императора Александра III началось настоящее возрождение православия. Все тринадцать лет своего царствования он покровительствовал Церкви и сделал для ее блага исключительно много. Обнищавшее донельзя православное духовенство получило от правительства вспомоществование, несколько поправившее его дела. Одна за другой выходили «народные книжки», разъяснявшие простым людям христианский этический идеал. Церковь, тяжело переживавшая эпоху нигилизма, воинствующего атеизма, бушевавших у нас в 60-х и 70-х годах XIX века, наконец-то ощутила сочувствие власти на своей стороне, готовность власти помочь, защитить. При том же Александре III велось обширное церковное строительство, на которое щедро выделяла средства казна.
Православное возрождение продолжалось и при следующем монархе – Николае II. Тогда появилось около 300 новых монастырей. В начале XVIII века установилась норма: если Церковь считала кого-либо достойным канонизации, то окончательное решение принимал Синод, а утверждал его император. И за все столетие только две персоны удостоились причисления к лику святых… Николай II унаследовал трон в 1894 году. На протяжении почти целого века – до начала его правления – Церковь смогла провести канонизацию еще трижды. А за двадцать лет царствования этого благожелательного к православию государя появилось семь новых святых!
Иоанн Кронштадтский. Фотограф А. Федецкий. 1890
Святой Иоанн Кронштадтский за несколько лет до смерти сказал о Николае II: «Царь у нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан ему тяжелый крест страданий как своему избраннику и любимому чаду». Пророческие слова. Последнему государю российскому еще предстояло принять вместе с семьей горчайший крест; Николай II нес его достойно, как добрый христианин, вплоть до последнего срока…
Между Романовыми и Церковью на закате времени, отпущенного династии, возникли принципиально новые отношения. Идеал христианского государя начал возвращаться в политическую реальность. Между монархией и духовенством открылся доброжелательный диалог. Правящие особы повернулись к православию и показали свою преданность ему.
Русская монархия времен Романовых являлась стержнем всего государственного строя. Она обладала значительными преимуществами по сравнению с нарастающим в Европе и Америке республиканством и парламентаризмом.
Прежде всего, русский монарх не испытывал зависимости со стороны политических партий и финансовых домов, оказывающих им поддержку. Так, независимая политика Александра III вывела империю из тяжелого финансового кризиса именно благодаря тому, что монарх имел возможность вести страну по правильному маршруту развития как самостоятельный «игрок».
Монарх мог не опасаться «потерять место» на следующих выборах, даже если он проводил непопулярные, но жизненно необходимые меры. Такие, например, как строительство флота при Петре I, освобождение государственных крестьян при Николае I и частновладельческих – при Александре II.
Монарх в большинстве случаев готовился к деятельности у кормила власти с детства. Он получал не только особым образом заостренное образование, но и наставления от членов семьи, давно погруженных в дела большой политики, а также опыт от военной и административной работы. Со второй половины XVIII века на российском престоле не бывало людей необразованных или не подготовленных к трудам правителя. В отличие от наследственной монархии республиканская парламентарная система могла привести на высоту верховной власти человека случайного, не имеющего систематических знаний, злонамеренного демагога, слабовольную марионетку. В силу этого империей на протяжении полутора десятилетий никогда не управляли столь слабые по части способностей к государственной работе, сомнительные и даже прямо скандальные люди, как, например, президенты Хейс и Гардинг.
В 1917 году русская монархия была уничтожена в тот момент, когда она уже нащупывала новую социальную базу и могла получить перспективу массовой поддержки. Церковь, как уже говорилось, обрела поддержку по целому ряду важных вопросов как при Александре III, так и при Николае II. Столыпинские преобразования создавали слой крупных земельных собственников крестьянского происхождения, и они могли быть продолжены. Отношения государственного промышленного заказа вкупе с протекционистским курсом могли привязать крупных отечественных предпринимателей к высшей светской власти. Таким образом, слабеющее, «разбавленное» русское дворянство передало бы роль главной опоры трона классу предпринимателей. Но в экстремальных условиях войны, давления извне, оказываемого в том числе и путем искусственного раздувания революционного движения, а также подкупа элиты, позитивная перспектива для русской монархии была разрушена.
Н. Я. Яш (Н. Яшвиль).
Портрет императора Николая II. 1896
Роль же самого Николая II, последнего монарха из династии Романовых, в судьбах империи очень хорошо передана в рассуждении историка Г. А. Елисеева: «Ни у кого не вызывает ни протестов, ни сомнения правомочность канонизации сына и дочерей последнего российского императора. Не слышал я возражений и против канонизации государыни Александры Федоровны. Даже на архиерейском соборе 2000 года, когда речь зашла о канонизации Царственных мучеников, особое мнение было высказано только относительно самого Государя. Один из архиереев заявил, что император не заслуживает прославления, ибо “он государственный изменник… он, можно сказать, санкционировал развал страны”. И ясно, что в такой ситуации копья преломляются вовсе не по поводу мученической кончины или христианской жизни императора Николая Александровича… Его подвиг как страстотерпца вне сомнений. Дело в другом – в подспудной, подсознательной обиде: “Почему государь допустил, что произошла революция? Почему не уберег Россию?” Или, как чеканно высказался А. И. Солженицын в статье “Размышления над Февральской революцией”: “Слабый царь, он предал нас. Всех нас – на все последующее”. Миф о слабом царе, якобы добровольно сдавшем свое царство, заслоняет его мученический подвиг и затемняет бесовскую жестокость его мучителей. Но что мог сделать Государь в сложившихся обстоятельствах, когда русское общество, как стадо гадаринских свиней, десятилетиями неслось в пропасть? Изучая историю Николаевского царствования, поражаешься не слабостью Государя, не его ошибкам, а тому, как много он ухитрялся сделать в обстановке нагнетаемой ненависти, злобы и клеветы».
* * *
Итак, династия Романовых, три века стоявшая во главе Русского дома, достойна почтительного отношения. Тот несуразно обвинительный, менторский тон, который в годы Советской власти был взят историками по отношению к ней, в наши дни стал анахронизмом и должен быть окончательно отброшен.
Д.М. Володихин,
доктор исторических наук,
член Союза писателей России,
профессор исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой культурного наследия
Московского государственного института культуры
А. Е. Зарин
Двоевластие
Часть первая
Божий суд
I
Скоморохи
Князь Теряев-Распояхин едва женился, сейчас же отстроил усадьбу в своей любимой вотчине под Коломной. Быстрая речка омывала ее с задней стороны, на которой раскинулся огромный сад. Передней стороной усадьба выходила на проезжую дорогу и казалась маленьким острогом, так высок и плотен был частокол, так массивны были ворота со сторожевой башенкой. В неспокойное время строился князь – в то время, когда поляков и хищные войска самозванца сменили придорожные разбойники, когда грабеж и убийство творились и на проезжей дороге, и на городских улицах, и в самих домах. Нередко по службе царской князь Теряев отлучался из дома на долгое время и, дорожа покоем жены и своего маленького сына, выстроил прочные хоромы.
Тотчас за воротами был еще огород, а за ним уже шел широкий двор с мощеной дорогой к теремному крыльцу. По сторонам были разбросаны служилые избы для охранной челяди, во главе которой стоял любимец князя и княгини, Антон. Дальше за ними размещались строения бани, конюшни, кладовок, погребов, повалушек, а терем в два этажа с башенной пристройкой, крепкими дубовыми стенами, толстой дверью, тяжелыми ставнями стоял посреди крепких избушек, как богатырь во главе своей рати, и князь, выстроив его, с довольством бахвалился:
– Сам пан Лисовский наедет, так и от него со своими людьми отобьюсь.
В лето 7128-го по счислению того времени, а по нашему – в 1619 году, в жаркий полдень 11 июня молодая княгиня Анна Ивановна вышла на заднее крыльцо терема посидеть на крылечке, подышать чистым воздухом и полюбоваться своим сыном – семилетним богатырем, который резвился на заднем дворе с сенными девками.
Крылечко было широко и просторно. Молодая княгиня сидела на верхней ступеньке на толстом ковре; подле нее стоял жбанчик холодного кваса, и она наслаждалась тихим покоем счастливой женщины.
Молода она и красива, даже дородной стала, и не намилуется с ней князь, когда дома. Думала ли она, внучка бедного мельника, в такой почет попасть? Чего Господь не делает! И она с умилением обвела кругом взглядом. Разгорелся ее Миша, распарился, черные волосенки, подстриженные кружком, сбились на лоб и завесили его сверкающие радостью и весельем глазки. Молодые, здоровые девки с веселым смехом гоняются с ним, играя в горелки, и летает он, соколом гоняясь за ними. Огромная радость для матери любоваться своим первенцем.
Для полного счастья молодой княгине не хватало только ее любимого мужа. Великое дело совершалось для всей Руси в это время; радость наполняла сердца всех, любящих своего царя. Из тяжкого польского плена возвращался Филарет Никитич, великий подвижник за свою родину, отец царствующего Михаила. Вся Русь делила радость своего царя, первого из Дома Романовых, и князь Терентий Петрович был отозван ради того случая в Москву. Любил его царь Михаил за его воинскую удаль, за смелые речи и решительный нрав. Любя, пожаловал он его в окольничьи и скучал без него, несмотря на то что сильные братья Салтыковы всячески очернить его старались.
Н. Л. Тютрюмов. Патриарх Филарет.
Вторая половина XIX в.
Мягкий царь Михаил, хотя и склонялся под волею своей матери и ее приспешников Салтыковых, а все же не мог не ценить того, кто, не щадя живота своего, от молодой жены и сына-малютки ходил имать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою, и всяких других разбойников, никогда не отказываясь от ратного дела.
Чувствуя вражду против себя царских клевретов, князь Теряев много раз говорил жене:
– Перейдем жить в Москву, там я палаты выстрою!
Но княгиня каждый раз отказывалась.
– Не привыкла я к городской жизни, князь, – говорила она, – не неволь меня. Люблю я простой обычай, да и сам знаешь, мне ли, глупой, угнаться за боярынями. Слышь, они и брови чернят, и щеки сурмят, и лицо белят. Где мне тягаться с ними? Только посмех всем будет!
И князь покорялся ей, находя в ее словах немало правды, и таким образом делил время между Москвою и Коломною.
Плотно покушала княгиня за обедом, сластей наелась, и теперь ее брала измора; то и дело прикладывалась она к жбанчику, чтобы освежиться. Но глаза уже начали слипаться, и княгиня поднялась, тяжело вздыхая. Вдруг до ее слуха донеслись звуки волынки и резкое бряцанье накр. Анна Ивановна приостановилась и окликнула одну из девушек:
– Матреша, сбегай до ворот! Глянь, никак потешные шумят.
Девушка стрелою помчалась на передний двор и через минуту вернулась, весело крича:
– Скоморохи идут!
Княгиня улыбнулась. Сон на время оставил ее.
Девушка подбежала к крыльцу и, едва переводя дыхание, быстро заговорила:
– И уж что за занятные. Почитай, полтора десятка будет. Медведя ведут с козою, а у других сопелки, домры, накры. Один с куклами, а другой с гудками. Старый-старый!.. Повели позвать.
– Повели позвать, княгинюшка! – смело заголосили сбившиеся в кучу девушки, а Миша, вбежав на крыльцо, обнял колена матери и запросил тоже:
– Повели, матушка! Золотце, прикажи!
И самой княгине хотелось развлечься. Она улыбнулась и кивнула головою.
– Ин быть по-твоему! – сказала она, гладя черную головку Миши, и приказала той же Матреше:
– Вели им к нам сюда идти!
Матреша вспрыгнула козою и скрылась за зданиями.
Княгиня снова опустилась на верхнюю ступеньку крылечка, маленький Миша сел и прижался к ее коленам, а девушки столпились у крыльца. Через несколько минут послышались шум шагов, осторожный говор, бряцание цепи, и из-за угла терема вышла толпа скоморохов. Они подошли ближе, остановились в почтительном отдалении – и земно поклонились княгине.
– Встаньте, встаньте, прохожие люди! – ласково сказала княгиня.
Скоморохи встали и выпрямились, держа в руках войлочные колпаки и гречишники.
Их было человек двенадцать, и они казались шайкою разбойников – так дерзок и лукав был их внешний вид. Впереди всех стоял поводырь с медведем. Огромный, с рыжей бородою, с одним глазом и черной дырою на месте другого, в сермяге и с босыми ногами, он производил отталкивающее впечатление. Рядом с ним, держа в поводу козу, стоял маленький паренек в пестрядинной рубахе, с лицом, изъеденным оспою, с жидкими волосенками на остроконечной голове; его раскосые глаза бегали во все стороны, а тонкие, бескровные губы растягивались до самых ушей. За ним стоял чудашник – высокий, слепой старик с угрюмым лицом, и рядом с ним мальчик, державший гудок старика. А дальше стояла толпа рыжих, черных, белых оборванцев с беспечными лицами и наглыми взглядами.
– Куда путь держите? – ласково спросила княгиня.
Рыжий поводырь тряхнул кудрями и ответил:
– На Москву, государыня-матушка, слышь, там на три дня от царя веселие заказано…
– Так, так, – сказала княгиня, – к нашему царю-батюшке его батюшка ворочается.
– Дозволь потешить! – проговорил тот же поводырь.
– Что же, потешьте! Чем тешить будете?
– А что повелишь нам, смердам. Есть у нас и гудошник – песню споет, есть и куклы потешные, и медведь наученный, и коза-егоза, и плясуны, и сказочники. Что повелишь, государыня?
Девушки умоляюще взглянули на княгиню, и она, сразу поняв их желания, сказала:
– Ну, кажите все по ряду!
Ф. Н. Рисс. Скоморохи в деревне. 1857
Рыжий великан поклонился и дернул медведя за цепь. Тот зарычал и поднялся на задние лапы, девушки с визгом сжались, как испуганное стадо. Миша прижался к коленам матери, да и сама княгиня побледнела, услышав страшный рев.
– Ну, ну, Мишук, поворачивайся! – грубым голосом заговорил косой поводырь. – Покажи на потеху честным людям для смеху, как лях кобенится, на красну девку зарится!
– А ты, коза-дереза, пляши для веселия, как смерд с похмелия! – загнусил его товарищ, дергая козу за рога.
В это время загремел деревянный барабан, зазвенели накры (род теперешних тарелок. – Прим. авт.), затрубил рожок, и началось представление. Коза с усилием поднялась на задние ноги и завертелась на месте, а медведь, рыча, поджал передние лапы, словно в бока, и, откинув голову, стал важно ходить взад и вперед.
Лицо княгини озарилось улыбкою, девушки, поджав руками животы и перегибаясь, звонко смеялись.
– А покажи теперь, как этот лях до лесу утекает, – продолжал поводырь.
Медведь стал на четвереньки, жалобно замычал и поспешно побежал под ноги своему хозяину, а коза то опускалась на передние ноги, то вновь поднимала их и опять вертелась. Показал медведь, как девки горох воруют и как баба в кабак идет похваляется и, из кабака выйдя, по земле валяется.
Потом его сменили плясуны. Четыре парня под музыку затеяли пляску.
Подробного описания тогдашней скоморошьей пляски до нас не дошло, но, по словам Олеария, срамота этих плясок была неописуема. И с ним можно согласиться, судя по тому рисунку, который он сделал, изобразив одну из «фигур» двух пляшущих скоморохов. Современный писатель не решается описать этот рисунок, но в тогдашнее время понятия о приличном и неприличном были иные, и теремные девушки без всякого зазора потешались скоморошьим плясом.
После плясунов выступил мужичонка с куклами. Он надел на себя нечто вроде кринолина, потом вздернул его выше головы и образовал таким образом некоторое подобие ширмы, из-за которой стал показывать кукол, говоря за них прибаутками (некоторое подобие современного Петрушки).
Девушки покатывались со смеха, Миша не отрываясь смотрел на кукол загоревшимся взором, и княгиня милостиво улыбалась скоморохам…
Адам Олеарий. Кукольник. 1643
А потом выступил гудошник и, перебирая струны гудка, запел заунывную длинную песню о том, как Шуйские погубили славного Скопина, как пришел он на пир и жена его дяди подносила ему чару зелена вина, как замутилась голова его с того зелья, что было подсыпано в вино, и как привезли его умирающего домой, где горьким плачем и воплями встретила его тело молодая жена.
Затуманились все, слушая заунывный, гнусливый речитатив под скорбное гудение струн, и по белому лицу княгини скатилась слеза. Но скоро грусть, навеянная песней, сменилась истомою, и княгиня поднялась с крылечка.
– Ну, люди добрые, потешьте девушек, – приветливо сказала она, – а я пойду.