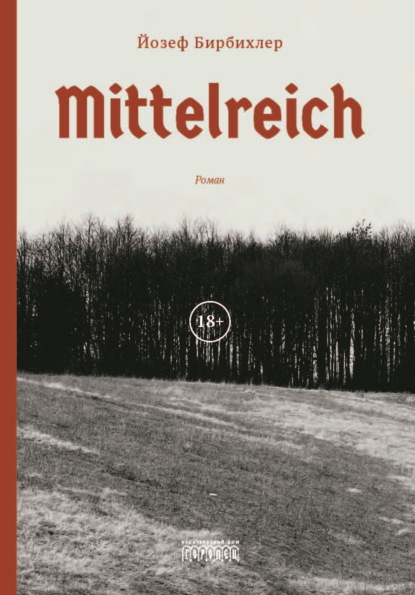
Полная версия:
Mittelreich
– Давай, ешь, – просила Мара уже настойчивее, – мне нужно домой, дел невпроворот.
«Дурацкое выражение», – подумал Панкрац.
– Отвернись, пока я буду есть.
– Хорошо, – она обратила приветливое лицо к горам. – Я буду смотреть на колокольню Клостеррида и считать до ста, а ты все съешь, ладно?
– Ладно.
– Не забудь помолиться, – напомнила Мара и, когда он наспех пробормотал что-то, принялась считать. Тарелка опустела уже на счете «семьдесят», и он, сияя, смотрел, как она, не оборачиваясь, считает дальше. Закончив, Мара собрала все в корзинку, снова погладила его по голове и босиком, как и пришла, побежала по проселочной дороге вниз к дому.
Кувшин она оставила.
Мальчик встал, побежал за коровой, которая забрела на соседский участок, и загнал ее обратно в стадо. Вернулся, достал школьные принадлежности. Пора браться за уроки.
†– Тони, сын хозяина усадьбы на озере, сейчас в лазарете в Мюнхене. Ранение в голову.
– Он что, без шлема был?
– В шлеме. Все равно.
– Да что ж будешь делать. Случится же такое!
– Пастор сказал, он тронулся. Не в своем уме, – и Диневитцер покрутил пальцем у виска.
– Ого!
– Папа, а что такое Мюнхен? – спросила маленькая Тереза, повернувшись к Диневитцеру спиной. Не удостоила его взглядом.
– Город такой, – ответил дочери Лот, крестьянин из Айхенкама, и обратился к Диневитцеру:
– И как же они теперь?
– Похоже, хозяину придется сделать наследником младшего. А как иначе?
– Похоже, – согласился Лот, а потом спросил застывшую рядом девочку:
– А тебе что?
– Ничего.
Но это было неправдой. Тереза взволнована и очень растеряна. Диневитцер, войдя в дом, мимоходом поприветствовал ее: «Привет, малышка с большой головой!» – и прошел в кухню к ее отцу, чтобы рассказать ему новость. Она тут же помчалась вниз по лестнице в комнату и бросилась к зеркалу. На глазах выступили слезы, голова и правда казалась большой; из-за шуточек Диневитцера девочка смотрела на себя по-другому, она была еще слишком мала и не понимала колкостей старших. Отец продолжал говорить с полным энергии Диневитцером о простреленной голове Тони:
– Наверное, пуля пробила шлем, – потом обратился к Терезе: – Сходи к матери, может, ей что-то нужно.
Отослав вернувшуюся было девочку, Лот повернулся к собеседнику. У того был ворох новостей. И все с войны. Он рассказал о несметном количестве убитых и тяжелораненых – всё близкие и дальние знакомые, жившие по обе стороны реки. С ампутированными руками, лишившиеся ног, с изуродованными лицами, каких только нет. У одного, слышал Диневитцер, голова и туловище целехоньки, но нет ни рук, ни ног. Сам его не знает.
– Слава богу, – заметил Лот. – Радуйся.
– Даже покончить с собой не сможет, – сказал Диневитцер.
Иногда крестьянин переспрашивал, если не сразу понимал, о ком речь. Про многих он только слышал, но почти все, о ком рассказывал почтальон, были из крестьянских семей, Лоту они казались ближе других, он сочувствовал им сильнее. С кем-то мог и встречаться. Он понимал, как трудно приходится семье после потери работника и какое это горе.
Девочка тихонько вошла в чистую комнату, где на диване, который старшая сестра приспособила под кровать, в лихорадке лежала мать. Два дня назад она в хлеву неосторожно наступила на вилы, и зубья проткнули ей вену. «Кровь хлестала фонтаном, – рассказывала старшая сестра доктору, за которым отец съездил в ближайший город на рыдване, – пол в хлеву был такой, будто теленка забили». Когда доктор уехал, мать упрекала отца, что тот из-за такой ерунды поехал за доктором. Мол, в хозяйстве подобное случается сплошь и рядом. Сейчас, когда с деньгами туго, как уже давненько не бывало, им ни к чему расходы на доктора. Повязку бы и Мария наложила, а больше ничего не надо. На следующее утро матери стало плохо, когда она доила корову. Опершись на подоконник, мать неловким движением опрокинула горшок с молоком. На лбу выступили капли пота, она медленно сползла по стене и смотрела странным, застывшим взглядом. Совсем как сейчас, когда Тереза спросила, правда ли, что у нее большая голова. Мать не отвечала. Она смотрела перед собой и не двигалась, хотя сидела в постели прямо, прислонившись к двум большим подушкам.
– Хочешь еще укол, мама? – спросила Тереза. – Сказать папе, чтобы он опять привез доктора?
Мать по-прежнему смотрела вперед, и дочь помчалась в кухню. Пусто. Отец и Диневитцер ушли. Тереза побежала во двор, ища хоть кого-нибудь. Того, кто избавит ее от чувства вины. Взгляд матери жег девочку изнутри. «Возможно, заражение крови», – сказал доктор Пачи, когда приехал делать второй укол. После укола взгляд матери стал нормальным. «Пусть доктор опять сделает маме укол, – думала Тереза, – очень страшно, когда она так смотрит. Пусть доктор уколом заставит этот взгляд уйти». «Папа, папа!» – кричала она. Из сарая вышла сестра Сюзи с потным лицом, черным от сена и пыли, и отругала Терезу за то, что та громко кричит:
– Рита еще спит! Ты разбудишь ее воплями.
– Мама опять так смотрит, – сказала Тереза, и на душе полегчало, рядом была сестра. Хоть и ругалась.
Сначала они пошли в комнату, а потом разыскали отца. Постепенно собрались все дети. В том числе трое младших. Из города снова приехал доктор. Но мать уже умерла. От столбняка, так им сказали. Из-за него и был застывшим взгляд. Тереза представляла, что такое столбняк, лицо матери стояло у нее перед глазами.
Лот больше ни разу не разговаривал с доктором Пачи и сам, безо всякой помощи, воспитал семерых детей. Терезе тогда почти исполнилось пять.
†Поговаривали, что сразу после выписки из лазарета было ясно: от Антона, сына хозяина усадьбы на озере, проку не будет, пуля, попавшая в голову, повредила рассудок. Впрочем, разве странности, которых раньше не замечали, появились не почти у каждого, кто вернулся с войны невредимым? Даже у тех, кто не получил ранений?
Нет, нет, каждого, кто побывал на фронте, настиг хотя бы один выстрел. Каждого! И необязательно пуля. Все были выбиты из колеи, большинство так или иначе повредились умом. Но что правда, то правда: странности Антона сильнее бросались в глаза, и дело было не только в мрачном фанатичном взгляде, от которого у встречных мороз шел по коже и которого прежде в помине не было. Глаза Антона горели мрачным фанатизмом, когда он выступал с речью перед членами народной дружины в большом зале трактира Хольцвирта в Кирхгрубе или приказывал отряду дружинников, которым командовал, подняться по Кальвариенберг на Эггн для тренировки. С тем же взглядом он маршировал во главе шествий в Праздник тела и крови Христовых и в День памяти павших воинов, размахивая сверкающим, до блеска отполированным штыком, и одни не могли удержаться от смеха, испуганно прячась за спинами других, чтобы никто не заметил: так комично, ненормально и жутко это выглядело. Комично, потому что за сверкающим штыком всегда было видно мрачное, исполненное фанатизма, убийственно серьезное лицо; ненормально, потому что все знали о пуле, пробившей шлем. И когда шел дождь, и когда небо затягивали тучи, и когда Праздник тела и крови Христовых выдавался солнечным, и когда холод пробирал до костей, каждый, у кого были глаза, мог наблюдать убийственно серьезную карикатуру: вот дружинники с застывшими взглядами шагают впереди дароносицы в близлежащий Вальштадт и бормочут молитвы. А вот деревенские муниципалитеты – верующие, у которых в хвосте плетется сама вера. Жители поддерживали отряды дружинников, образованные сразу после войны, ведь неизвестно, надолго ли красный призрак задержится в Мюнхене, не проникнет ли он и в села. Никто не смеялся над Тони открыто, лишь тайком, испытывая угрызения совести. Если коммунисты и в самом деле победят, то под угрозой окажется вся собственность – не только богачей, но и простых крестьян. Крестьяне тоже собственники, пусть и не состоятельные. Богачей среди них не было, разве только хозяин усадьбы на озере, чей сын командовал отрядом дружинников. Но они хорошо знали, как завидуют им неимущие рабочие, завсегдатаи того же трактира. Некоторые выпивали несколько кружек пива, становились разговорчивыми и громко высказывали дерзкие мысли, выплескивая зависть и недовольство, а крестьяне украдкой прислушивались, и эта необузданная одержимость страшила их – по крайней мере, когда закончилась война и события стали развиваться пугающе непредсказуемо. Даже Лот из Айхенкама, который всегда надеялся на лучшее, не говорил дурно об Антоне и никогда не смеялся над ним. Даже Лот, который после смерти жены, вне себя от боли и возмущения, на глазах у собравшихся вокруг майского дерева назвал доктора Пачи тупоголовым, свихнувшимся милитаристом, патриотом-идиотом и коновалом, угробившим его жену, и получил предупреждение от начальника округа за непатриотичные высказывания после доноса Метца, бедного крестьянина из Штайнода, притом что бургомистр отказался вынести предупреждение из уважения к Лоту, как он выразился, поскольку тот недавно потерял жену… Даже Лот! Словно в поисках средства борьбы с безумием, которое, как они считали, грозило прийти из города, они сделали ставку на родное и знакомое деревенское безумие – положились на Антона и его дружинников. Обе сестры смотрели сияющими глазами снизу вверх на решительного брата и под его гипнотизирующим взглядом открывали сердца грядущему.
†Лоту, крестьянину из Айхенкама, удалось избежать краха. Внезапная и преждевременная смерть жены поначалу повергла семью в шок. Три старшие дочери первое время заботились исключительно о Лоте, который после похорон словно сделался безразличным ко всему. Внешне он казался спокойным, выполнял работу как обычно, но автоматически. Если ему случалось ошибиться или во время привычной работы что-то шло наперекосяк, как это часто бывает в хозяйстве (раньше он реагировал на такое сдержанным – Лот был благочестив – проклятием), это теперь его нисколько не трогало. На непроницаемом лице, с каким он встречал все вопросы, уговоры, новости и обиды, появлялась пренебрежительная гримаса, похожая на усмешку, и казалось, что всем видом он будто выражал вопрос: какой во всем этом смысл? Он находился на пути к глубокому нигилизму, который ему, крестьянину и христианину, совершенно чужд и неизбежно должен был привести к скорому физическому и душевному распаду. Неопытные в таких вопросах старшие дочери, тем не менее, поняли, как опасно отцовское состояние, и инстинктивно делали все правильно: они взяли на себя роль, принадлежавшую матери, – выполняли всю положенную работу и одновременно, безо всяких споров и уговоров, ухаживали за младшими братьями и сестрами. То и дело (но не слишком часто) они обращались к отцу за советом, неявно напоминая ему, что он им необходим, и пробуждая в нем ответственность за детей и за жизнь в целом. Единственное, что осталось как огромный рубец, – набожность старика.
Через год после смерти матери младшие дети почти забыли ее. Старшие дочери под грузом ответственности рано повзрослели и превратились в молодых женщин, и Лот обращался с ними соответственно: разговаривал на равных, а не как глава семейства с детьми. Это передалось и младшим, они жили в семье без матери – со старшими сестрами, будто у них было несколько матерей. Горе привело к тому, что в семье возник практически матриархат, повлиявший и на отца, и на единственного сына.
В доме Шварца, который хозяин усадьбы на озере купил еще в 1911 году, потому что его отдавали дешево и нужно было больше места для отпускников из города, число которых росло, после Первой мировой войны квартировала госпожа Краусс, в прошлом камерная певица. Она получала достойную пенсию и давала в месяц четыре-пять уроков пения студентам консерватории. Они добирались поездом до Зеештадта, а потом пароходом в Зеедорф. Там высаживались на берег на причале перед усадьбой, меньше чем в ста метрах от дома Шварца. Многие охотно оплачивали это маленькое путешествие, чтобы насладиться прекрасными видами, даже если в итоге петь им приходилось довольно необычно. Гуляющие по набережной порой слышали «ми-ми-ми» и «до-до-до» вперемешку с «ля-ля-ля» и опять сначала, восходящая гамма, нисходящая, «Ди-да-ди-да-ди-да-ди», за которым следовало «мия-мия-мия», неуверенно переходящее в «бра-брэ-бри-бро-бру». Некоторые люди останавливались и слушали, раскрыв рты.
– За это они старой кошелке еще и платят, – сказал крестьянин из Кирхгруба. Он стал однажды свидетелем такого урока, ведя готового к убою быка вниз в Зеедорф, чтобы передать Диневитцеру, который переправит его на железнодорожную станцию в Клостеррид. – Ради такого швырять деньги?!
Он был вне себя, потому что слышал, будто урок у камерной певицы стоит восемь марок. Ему, чтобы столько заработать, нужно две недели доить коров.
В усадьбе на озере, как и во всем Зеедорфе, где с образованными постояльцами в деревенские дома проникло некое подобие культуры (о чем в этой находящейся всего в двух километрах, но хорошо укрытой и защищенной от ветра дыре, Кирхгрубе, даже не слышали), внимали сбивчивому пению из квартиры Краусс совсем иначе – с немым благоговением. Пару раз певица слышала, как младший сын хозяина поет в церковном хоре, и предложила, если тот хочет, проверить, есть ли у него талант.
– Пока что вы кусок глины, – шепнула она ему после пасхального богослужения, – но, может быть, я смогу вылепить из вас нечто. Приходите. Тут недалеко.
Сын хозяина был простодушным молодым человеком и неплохо общался с горожанами, которые каждое лето заполняли дом. Они привозили и распространяли отношение к жизни, отличное от деревенского; появлялись на два или три месяца, поднимали вихрь, быстро действовали и быстро говорили, так что невозможно было поспеть за их речью, и исчезали на остаток года, который, казалось, становился длиннее и темнее по мере того, как Панкрац взрослел и привыкал к подобному ритму, лето воспринималось единственным проблеском света, будто только тогда были движение и жизнь, а в оставшуюся часть года – лишь затхлость, серость, дождь и грязь; нашествие отдыхающих каждый раз опьяняло его.
Все лето он был весел, как молодой жеребенок. Трудился, ни капли не уставая. Спал вдвое меньше, чем в другое время года, и все равно его не покидала бодрость. Готовность услужить и непредубежденность делали его желанным собеседником для постояльцев, когда им нужно было что-то узнать или требовалась помощь. Мало-помалу он начинал чувствовать, что способен на большее, чем предлагала жизнь в деревне и родном доме. Если эти образованные и искушенные люди так явно ищут встреч и разговоров с ним, значит, в нем есть нечто, о чем он сам еще не знает и что ему предстоит понять.
Когда он рассказал дома о предложении певицы, отец лишь пренебрежительно обронил:
– Вот как? Ну-ну! – А затем, помолчав, добавил: – Если тебе только от этого глупости в голову не полезут! По мне, так иди. Госпожа Краусс хорошо платит за жилье. Но если будет в ущерб работе, тогда всё! Ясно?
Обе сестры, узнав об интересе певицы к голосу их брата, напротив, затрещали, как… как… как подожженный сухой хворост при порыве ветра. Они воспитывались в интернате при монастыре и получили среднее образование. Школьное обучение, которое в крестьянской среде было совершенно непривычным и считалось причудой, укрепляло подозрение, что хозяин усадьбы на озере имеет большие планы насчет дочерей.
– Что там у них? Среднее образование! – злословил с завсегдатаями своего трактира Хольцвирт из Кирхгруба за утренней кружкой пива после воскресной мессы. – Все равно на них никто не женится, уж поверьте мне, одна круглая как шар, другая тощая как щепка. Первая будет выкатываться у тебя из рук в постели, вторую вообще туда не затащишь, такая она католичка!
Языками трепали некультурные и необразованные жители Кирхгруба.
– А я бы не прочь иметь спелую жену с аттестатом, – ехидно заявил Баххубер.
– Балабол! – обругал его старик Фезен. – Кто же у девок спелость аттестатами меряет?
Он с раскатистым хохотом стукнул кулаком по столу так, что пиво в кружках вспенилось.
Сидевшие там же жители Зеедорфа предпочитали отмалчиваться. Некоторые ловили себя на мысли – а что, если и у их дочерей есть способности к среднему образованию? Все они общались с приезжими и знали их особенности. Почти в каждом доме сдавали комнатушку или даже гостиную, а семьи хозяев теснились в кухне все лето, стараясь не мешать горожанам. Все они были слегка заражены этой культурой, что было заметно уже по их манере сидеть, будто насупленные коты по осени, в трактире у Хольцвирта среди завсегдатаев – краснолицых и тучных обитателей Кирхгруба, которые не знали комплексов и были хозяевами своего дела и самих себя, которых ничто не могло смутить или оскорбить, даже молчание жителей Зеедорфа.
– На них же все равно никто не женится, – разглагольствовал Аттенбауэр, – на них никто не женится, понял?! Такие всегда всё лучше знают. Тебе слова не дадут сказать… В собственном доме!
Дочери хозяина, конечно, не знали об этих разговорах, оскорбивших бы их. Когда брат ворвался, чтобы поделиться новостью, они вспомнили прекрасное время, проведенное в интернате бенедиктинок в Пойнге, когда почти каждый день музицировали, потому что там учились многие девочки из благородных семей и почти все играли на инструменте – чаще всего на блокфлейте, а также на скрипке и фортепиано. Тем, кто происходил из семей, лишь недавно добившихся благополучия, и еще не прошел школу хорошего тона – а потому не в полной мере овладел правилами поведения за столом и совершенно не умел играть на инструментах, – разрешалось компенсировать этот недостаток навыком пения. В этом отношении дочери хозяина усадьбы на озере не были самыми бездарными. Та, что полнее, Герта, обладала глубоким альтом, а худая, Филомена – высоким сопрано. Они исполняли сольные партии в школьном хоре, а позднее, вернувшись домой и не зная, что им делать с полученным образованием – если только не забредет в деревню француз или англичанин, которому понадобится помощь, – солировали в церковном хоре. Был так прекрасен голос у тех артистов двух… особенно вблизи, в собственных ушах. В душе росли тайные желания одновременно с пониманием их несбыточности. И тут ворвался брат, и рассказал о предложении камерной певицы, и рассеял морок обреченности, и пробудил надежду. Дважды летние постояльцы уже приглашали всех троих в оперу. И память об этом они бережно и надежно оберегали, как скудный запас зерна в хранилище. Сестры не давали брату покоя: он не должен упускать такую возможность! А может, и для сестер какая-нибудь возможность представится.
– Какая еще возможность? – спросил брат.
– Ну, дать послушать наши голоса певице.
Словно дети на елку, глядели сестры на брата. А в другие дни, как это обычно и бывает, сестры к брату постоянно придирались.
Однажды осенью, когда серый ноябрь, как царство мертвых, сдавливал грудь серой тоской и в голову проникали серые мысли, Панкрац постучал в дверь госпожи Краусс.
– Ах, вот и вы, наконец, – вскрикивает она, открыв дверь, – а я уж подумала, что оскорбила вас на Пасху, когда назвала куском глины. Но такого сильного юношу, как вы, нелегко сломить, правда? – Она закрывает за ним дверь. – Летом я несколько раз, сидя на скамейке на вершине Кальвариенберг, наблюдала, как вы, обнаженный до пояса, грузили на повозку тяжелые тюки сена. Черт побери! Ну и сила у вас! Великолепные мускулы! Конечно, вы так просто не сдадитесь. Проходите! Садитесь. Сначала я сделаю нам кофе. Пива вы и дома попьете.
Храбро садится Панкрац на предложенный стул и с любопытством ждет, что будет дальше. И вот камерная певица возвращается. В руках у нее поднос, на нем кофейный сервиз и пирог из песочного теста. Они пьют кофе, едят пирог, и Панкрац смотрит на ее полные, красиво изогнутые губы, видя и морщины, целую сетку мелких морщин, которые, думает он, немного старят лицо. «Наверное, у нее все так выглядит, не только лицо!» А певица рассказывает о своей карьере, об окружавшем ее блеске. Звучат названия больших городов: Париж и Милан, Лондон и даже Нью-Йорк. И вот уже Панкрац забыл о ее морщинистом теле и представляет мир, образ которого она пробуждает рассказами о блестящем прошлом и речами о таланте, который, возможно, дремлет в нем самом.
– По этой причине вы здесь, – говорит госпожа Краусс, – а то, что вы мужчина, а я женщина, ни при чем. У нас, к сожалению, слишком большая разница в возрасте. Так что давайте петь, и забудем страстные мечты.
Панкрацу бросается кровь в лицо, он краснеет до корней волос. И он рад, что она идет к фортепиано. Рад, что наступает момент, который страшил больше всего: нужно петь. Певица замечает, что руки у него хорошей формы, когда он кладет их на крышку фортепиано. Он видел такое движение однажды у певца Роде, когда тот выступал с немецкими лирическими песнями в приходской церкви в ближайшем городе. Роде положил руки на фортепиано, затем, когда начал петь, поднял одну и перенес на талию, оставив другую на инструменте. Это выглядело достойно, как вспоминал Панкрац, когда мысленно готовился петь и думал, как ему встать.
– Вы настоящая загадка, – говорит певица, – у вас тяжелейшая работа, даже представить невозможно, и такие прекрасные руки. Покажите-ка!
Она берет его ладонь в свои, крепко держит и рассматривает. «Как мясник теленка, когда собирается отправить на бойню, – думает Панкрац. – Прикидывает цену». Так паршиво он давно себя не чувствовал. Пожалуй, никогда. Она поворачивает его руку так и сяк, поднимает, «чтобы ощутить вес» – это ее слова.
– Тяжелая, как львиная лапа, – выносит вердикт госпожа Краусс и смотрит искоса снизу вверх, – а кажется легкой, словно держащая вожжи рука дельфийского возничего.
Панкрац ни черта не понимает. Если не справится с наплывающим головокружением, то прямо сейчас упадет в ее объятия. Черт побери! Так у него кружится голова, только если он вечером выпьет больше, чем нужно, и ночью просыпается от позывов к мочеиспусканию, быстро вскакивает и облегчается в желоб у входной двери. Однажды он даже упал в обморок, но, ударившись о пол из еловых досок, пришел в себя. В то время он еще делил спальню с братом, и тот, проснувшись от глухого стука и увидев, что Панкрац беспомощно сидит на полу на корточках, сказал:
– В европейской культуре только женщины мочатся в таком положении.
Брат тоже ходил в среднюю школу и умел культурно избавляться от излишков жидкости. Культура! Всегда в такие моменты Панкрац казался сам себе неотесанным. Брат невозмутимо вернулся в кровать.
И так же беспомощно стоит Панкрац перед певицей, совсем как когда-то сидел на корточках перед братом. Выглядит как идиот. Ссутулившись – одна рука висит, другую держит певица, взгляд застывший, – борется с головокружением.
– Да не смотрите на меня так! Вы и правда очень красивый мужчина.
Она отпускает его руку и садится на табурет у фортепиано. Нормальным усаживанием это не назвать: она натягивает платье на ягодицах, дважды или трижды примеривается над табуретом, прежде чем с легким вздохом согнуть колени, а потом вульгарно плюхается на сиденье. Но у Панкраца уже прошло то, что поначалу могло раззадорить.
Он ушел от госпожи Краусс весьма обнадеженным. По ее словам, с его голосом можно кое-что сделать, но это она еще на Пасху поняла. Все зависит от того, хочет ли он этого, да и может ли.
– Ничем другим у вас заниматься не получится, – сказала она. – Если захотите стать певцом, потребуетесь не только вы целиком, но и все ваше время. Вы должны понять это, прежде чем примете решение. И это будет недешево, хотя не исключено, что удастся получить стипендию. Может быть, индивидуальную. К талантам из деревни в культурной сфере все еще повышенное внимание. Но давайте это обсудим, когда примете решение. Сможете ли вы оставить сельское хозяйство и усадьбу?
Юноша замялся. В памяти всплыли слова отца, что не должно быть глупостей в голове и ущерба работе.
– Я должен обсудить этот вопрос с родителями, – ответил он на литературном немецком. – За усадьбу несет ответственность брат. Он наследник. Мне все равно придется подыскивать что-то другое.
Брат! Да! Хоть он к тому времени уже получил ранение в голову, никто еще полностью не осознал последствий, во всяком случае, в семье хозяина усадьбы на озере. Тони по-прежнему считался наследником, Панкрац еще мог мечтать о карьере певца.
Отец после долгих колебаний все же позволил ему брать уроки у госпожи Краусс. Плату она запросила небольшую, но в придачу регулярно получала свежие деревенские продукты и живого карпа к Рождеству. Сестрам она тоже дала несколько уроков пения – вернее, подсказала несколько технических хитростей, чтобы сопрано Филомены звучало не так фальцетно, а альт Герты – не так баритонально, более женственно. Благодаря ей церковный хор обрел некоторую гармонию и, когда душевная болезнь окончательно поразила старшего брата, хорошего хормейстера в лице Панкраца, чьи мечты рухнули.
†Терезе уже исполнилось пятнадцать, и она работала наравне со старшими сестрами, которые пока жили дома. Самая старшая, Мария, несколько лет тому вышла за крестьянина из соседней деревни. Правда, тогда ей было восемнадцать, и она с удовольствием еще несколько лет не спешила бы надевать супружеские оковы, но выбор оставался невелик. Сказывались последствия войны, которая все поставила с ног на голову, нарушив баланс численности между мужчинами и женщинами. Не было уверенности, что позже подвернется хорошая партия. Муж был наследником большой крестьянской усадьбы, и не исключено, что Мария даже любила его. Ничего не поделаешь! Так или иначе, ярмарка невест в доме Лота из Айхенкама была открыта. К ним стали часто приезжать гости. По выходным сваты прибывали издалека в полукаретах, их принимали во дворе. Когда дочери Лота поняли, что пользуются успехом, они отбросили крестьянскую застенчивость, сохранив для приличия самую малость, в качестве украшения. Старик находился среди гостей и с удовольствием выслушивал новости из отдаленных селений. Появлялись и претенденты из близлежащих деревень. Люди знакомились, между одними завязывалась дружба, между другими развивалась неприязнь, временами грозила вспыхнуть конкуренция, подогреваемая мужской гордостью, но старик Лот умел подавить конфликт в зародыше; в итоге шесть дочерей пошли под венец, и веселая суматоха, царившая в доме, поспособствовала крайне редким в иных случаях контактам за пределами естественных границ в виде озера на западе и большой реки на востоке, что подстегнуло местных парней отправляться в путешествия в поисках невест. Сошла на нет и многовековая практика крестьянских браков между близкими родственниками.

