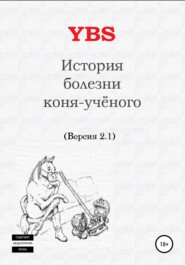скачать книгу бесплатно
От Фестиваля остались и другие следы: впервые в Москву завезли для гостей кофеварки-эспрессо, одну из которых я помню в кулинарии на Ленинградке. Похожий аппарат под действием растущего благосостояния мы получили в подарок от кого-то из друзей. Четыре инженера-теплотехника и один вертолетчик изучили инструкцию на немецком, нашли, куда насыпать кофе, за неимением иного – засыпали то, что продавалось у нас в коробках серого картона, и включили прибор. Оттуда после некоторого размышления вылилось несколько кубиков черной жидкости, а потом пошло то, что инженерное сообщество охарактеризовало как «писю сиротки Хеси» и в качестве кофе забраковало. Дело было в том, что наша тогдашняя психология была настроена на потребление напитков не менее, как стаканом, и 10–20 кубиков продукта всерьез не воспринимались. В общем, эксперимент был признан неудачным, а прибор отправлен на шкаф, где и скончал свои дни. Только десятилетие спустя жизнь открыла для меня, что есть настоящий кофе.
Серые мундиры
1-го сентября 1957 года мама отвела меня в первый класс. Незадолго до того мужские и женские школы объединили и ввели обязательную школьную форму – коричневые гимназические платья с черными фартуками для девочек, а для мальчиков – серые гимнастерки под ремень и фуражки с кокардой, на которую в окружении лавровых листьев была помещена литера «Ш» – школа. Кокарду у нас было принято тут же переворачивать – тогда получалась буква «Т» – тоска. Нам, тогдашним пацанам, помешанным на армии, носить форму, вообще-то очень нравилось. Проблемы, однако, возникли с брюками – они застегивались на скобу, сделанную, по-моему, из пружинной стали. Руки семилетних мальчиков справиться с этим изделием не могли, что привело к целому ряду трагедий среди одноклассников. Меня в брюки вставляли по утру, а потом, по возвращении из школы, если отец был в Москве, он забегал из своего отдела и выпускал меня из штанов на волю, если его не было – приходилось ждать вечера, когда с работы приходила мама. Сильно развил терпение и выдержку. Только к Новому Году я наловчился сам справляться – то ли скобу подразболтало, то ли руки накачались.
В школе мне понравилось, особенно когда перед входом построились десятиклассники с винтовками – на урок по «Военному делу». Я мечтал, что вырасту и тоже буду вот так клацать затвором[42 - зигзаги миролюбивой внешней политики Советского государства привели к тому, что уроки военного дела из школьной программы были устранены и заменены Гражданской обороной, сокращенно – ГРОБ. Так что поклацать затвором удалось только в стрелковой секции Биофака МГУ и на командирских курсах.]. Так что и 2-го сентября я туда отправился спокойно – напрягаться особо не приходилось, читать и считать я уже давно умел, и, пока коллег учили буквам, думал о своих текущих задачах. Дело в том, что мама ушла на суточное дежурство в свой ГАМЦ ВВС, и мне надо было после школы самому греть себе обед. К счастью, у нас дома незадолго до того поставили газовую плиту, и мама потратила час, обучая меня ее зажигать. С нашим старым керогазом все было бы сложнее…
Боевая задача состояла в том, чтобы согреть кастрюлю с борщом. Началось все хорошо – удалось подпалить плиту без взрыва, ну, я и расслабился – в комнате на столе меня ждала раскрытая «Старая крепость» Беляева, в которую я тут же и углубился. Из нирваны меня вывела соседка сообщением, что у меня что-то горит.
Да, борщ уварился почти до состояния каши и приобрел из-за потери воды катастрофически соленый вкус. Пришлось это съесть – и потому, что был голоден, и в наказание самому себе за разгильдяйство.
В моем 1-м «Б» классе 150-й школы, что на Ленинградке аккурат напротив комплекса ЦСКА (тогда еще носившего самое длинное и корявое в своей истории название – ЦСК МО)[43 - Центральный Спортивный Клуб Министерства Обороны. Морякам повезло еще меньше – ватерпольную команду назвали ЦВСК ВМФ (центральный водно-спортивный клуб Военно-Морского Флота), и в печати ехидничали, что это русское слово с самым большим количеством согласных подряд.], было по списку 50 человек. Конечно, вся эта орава собиралась вместе только 1 сентября, а потом кто-то сразу переходил на домашнее обучение, начинал болеть или прогуливать, но и из того, что оставалась, сейчас, определенно, сформировали бы два класса. Или три… Тогда я получил еще один урок советского интернационализма: завуч начальной школы взяла в этот год очередной класс, и во всеуслышание заявила, что «жидов у нее не будет». Всего через четыре года после «дела врачей» здесь ничего удивительного нет, кроме разве что прямоты этой деятельницы народного образования и члена коммунистической партии. В результате всех «космополитиков»[44 - Первая антисемитская кампания в СССР в конце 40-х гг. формально была направлена на борьбу с «безродным космополитизмом».] сплавили молодой Валентине Алексеевне Тимониной, и набралось нас таких 16 человек, так что всю начальную школу у нас в классе антисемитские поползновения были исключены. А класс, назло завучихе, три года держал в районе первое место по успеваемости, хотя у нас было два второгодника и один третьегодник (!)[45 - Второгодник, третьегодник – названия обозначали учеников, оставленных на повторный или даже третий курс в одном классе. С развитием формализма в обучении понятия вышли из употребления примерно в 65-м – 66-м годах.].
Учиться мне было легко, но некоторые затруднения случилось почти сразу. Первое состояло в том, что по арифметике надо было написать несколько строчек 1+1=2. Елки-палки, мне и так было понятно, что «2», но я внутренне никак не мог поверить, что надо просто тупо это повторять – мне казалось, что тут какой-то подвох, и пример надо каждый раз решать заново, однако простота задачи ставила в тупик – все время получалось одно и то же… Я к тому времени уже прочел «Кондуит и Швамбранию» Кассиля, где постоянно упоминалась заубрежка и по некотором размышлении понял, что вот это она и есть.
Второе состояло в том, что время уроков тянулось болезненно медленно, выматывая жилы и мозги. Я только во втором классе дошел до нахальства совать в парту раскрытую книгу и почитывать на уроках, не требующих постоянного внимания. А потом, в 7-м классе я вдруг почувствовал, что что-то сдвинулось – уроки стали заканчиваться все быстрее и быстрее, и в какой-то момент оказалось, что мне уже 71 год…
А тогда, когда мне было на 64 года меньше, несмотря на перечисленные выше школьные тяготы, у меня сложился вполне оптимистический подход. Выглядело это примерно так: наша страна – самая большая и замечательная в мире (хотя бы потому, что здесь живут мои, несомненно, самые замечательные папа и мама), она победила страшного и бесчеловечного Гитлера в кровавой битве, у нас были недостатки и даже ужасные преступления (это я себе уже уяснил), но недостатки устранены, преступления наказаны (это было заблуждением), у нас лучшие в мире спортсмены, мы всех побеждаем на олимпиадах, и теперь-то у нас все вообще будет прекрасно.
Такая парадигма, несомненно, накладывалась на генетически унаследованный темперамент и детский оптимизм, что немало меня впоследствии поддерживало в разных трудных жизненных обстоятельствах. И осенью 57-го, надо сказать, такая жизненная установка получила изрядное подкрепление. 4 октября я стоял в коридоре у умывальника и чистил зубы зубным порошком[46 - Паста только входила в обиход и еще не полностью вытеснила порошок, которым еще можно было чистить бляху на форменном школьном ремне.], когда услышал позывные московского радио, которые давали по важным поводам, а вслед за тем сообщение ТАСС о запуске первого в мире искусственного спутника Земли. Кричать «ура!» с зубами, надраенными порошком, было очень неудобно, но меня это не остановило. Да, о космической гонке тогда никто и ничего не писал, но эта тема все время напоминала о себе разной книжной и кинофантастикой, и вот выплыла на поверхность, и мы взяли первый приз!
Даже условия для моего футбольного боления складывались оптимальные. Никакого численного превосходства красно-белых или бело-голубых у нас в классе не было и в помине. В Петровском дворце располагалась уже не раз упоминавшаяся Военно-воздушная Инженерная Академия им. Жуковского, а кругом стояли дома, заселенные ее слушателями и преподавателями. Вот их-то дети и составляли значительную часть учащихся нашей школы, в массе своей – армейские болельщики, которые и верховодили у нас в классе. Правда, мой лучший друг оказался динамиком – он жил в Петровском парке на Праводворцовой аллее – это слишком близко к их гнезду, вот и заразился, хотя папа у него был нормальный – служил в желдорвойсках.
Футбол и хоккей были важными темами обсуждений в классе, и после этапа походов на футбол с отцом настала пора и собственной активности. Как-то раз удалось просочиться на трибуны, когда ЦСК МО играл с «Тотенхэмом». Матч почему-то в рабочий день игрался в рабочее время. Дождь был, промок насквозь, выиграли мы 1:0, но запомнился только английский вратарь Спринджет, классно он таскал из углов, а так – никакого потрясения от англичан не испытал и только закоснел в убеждении, что мы всех сильней. Потрясение было потом дома – оказалось, что мама неожиданно рано вернулась с работы, и я ей зачем-то был срочно нужен…
Потряхивало и основы общества. Осенью 58-го года, когда мы были уже во втором классе, началась подготовка к годовщине Октябрьской революции. Была в школах такая штука – монтажи. Ко всяким праздникам дети разучивали какое-нибудь длинное-длинное стихотворение и читали на пионерском (октябрятском) сборе. Чтобы не сильно перегружать детские мозги, а также чтобы каждый мог себя проявить, стихотворение делилось по-братски – по строфе, а то и по двустишию на нос. Особо выдающимся доставались вершки и корешки – первая и последняя, обычно ударная, строфы. В тот раз нам тоже раздали «пайки» – бумажки с написанными красивым учительским почерком двустишиями. Помню, что фабула состояла в том, что где-то в глухом Мухосранске девочка решила вырастить цветок в подарок товарищу Сталину. Дальнейшие перипетии не запомнились, отчасти потому, что у меня двустишие было где-то в первой четверти монтажа, а вот заключительные, ударные строки помню, потому что их дали моей соседке по парте, что, вообще-то было странно – девочка была четкой двоечницей, нас и сажали так специально – чтобы отличники «тянули» отстающих. Может быть, соседку так старались простимулировать к свершениям в учебе. Так вот, ей достались выигрышные слова – когда, преодолев нечеловеческие трудности, героиня стиха заслала-таки свой подарочек вождю, тот, конечно, не мог смолчать и в ответ на такое проявление бескорыстной любви народной и написал девочке письмо. В монтаже была сохранена хорошо известная лапидарная манера Иосифа Виссарионовича выражаться:
– Спасибо за цветок.
А ниже подпись – Сталин.
Это не конец письма – из монтажа было ясно, что это все письмо и есть. Моя соседка по парте очень старалась, и у нее получалось – так, с чувством, с придыханием. Ее хвалили. А потом, когда вроде бы должны были начаться интенсивные репетиции и доведение исполнения до блеска, как-то все пошло на тормозах. Мы даже стали беспокоиться – так же можно и опозориться на сборе! И как раз моя соседка, которая должна была триумфально завершать наш перформанс, спросила у классной руководительницы: когда же репетиция? А Валентина Алексеевна вдруг стала что-то мямлить, что, может быть, мы монтаж читать не будем, и, говорят, сейчас такой монтаж не ко времени. А потом, себе под нос, невнятно и сильно понизив голос: – И, вообще, теперь говорят, что Сталин – плохой…
Монтаж мы так и не прочитали.
Мы постепенно взрослели и в третьем классе перешли из самой мелкой школьной категории октябрят в следующий ранг – пионеров. К этому званию прилагались знаки различия – красный пионерский галстук и значок, которые были свидетельством некоторого карьерно-возрастного роста, как бы из салаг в черпаки… Нужно было, чтобы исполнилось 9 лет, ну и, успеваемость, само собой… На этой почве Валентина Алексеевна приобрела на время кнут и пряник в одном флаконе – ах, так вот ты как домашнее задание готовишь! Пойдешь во вторую очередь! И тут дело не столько в пионерах, сколько в этой самой «второй» очереди. У нас было это очень развито – быть первым хоть где. Завязывались серьезные драки из-за того, кто будет идти в первой паре (ходили строем и парами) хоть в класс после перемены, хоть в театр…
Наконец, торжественный день приема первой очереди приблизился – следовало выучить наизусть «Торжественное обещание пионера» и написать его на сложенном вдвое листе ватмана красивым почерком и со всякими виньетками и рамочками. Надо было еще купить галстук, за ним мы с мамой съездили в «Детский мир» на Горького – там были не только дешевые темно-красные из ситца, но и шелковые, подороже, но покрасивей. Еще надо было научиться правильно его завязывать, так чтобы узел не торчал наружу, а был перекрыт ровной полосой, как в обычном галстуке.
С местом приема школа расстаралась, правда в Музей Ленина (это был класс-люкс) не вышло, но получилось по тем временам «4 звезды» – Траурный поезд Ленина, что у Павелецкого вокзала. Вообще-то странная затея – проводить торжественные акты для маленьких детей возле железнодорожного катафалка, но я до таких высот осознания тогда не поднимался, а старшие товарищи считали это большой честью, о чем нам и сообщили.
Нас ввели в траурный зал с настоящим паровозом и багажным вагоном. Двери вагона были раздвинуты, и был виден гроб, заваленный венками. Мы произнесли «Торжественное обещание», и старшие ребята повязали нам галстуки. Но больше всего меня занимало – а что в том гробу?..
В 58-м советская сборная впервые участвовала в чемпионате мира. Отбор в группе, прошедший в остром соперничестве с поляками и завершившийся дополнительным матчем с ними, не очень отложился в памяти, и только из воспоминаний Стрельцова и Иванова я впоследствии узнал о пикантных подробностях – опоздании этих торпедовских форвардов к поезду на матч, погоню на автомобиле аж до Можайска и оправдании Стрельцова голом и голевым пасом.
Психологически я был настроен на то, что в финальном турнире в Швеции наши будут бороться за самые высокие места, и на первых порах радио приносило обнадеживающие сведения. Если глянуть на результаты первых матчей сборной СССР современным взглядом, так и вовсе выглядят они сенсационно успешными. Посудите сами: с англичанами сборная сыграла 2:2, обыграла австрийцев 2:0 и уступила бразильцам – 0:2, но потом в дополнительном матче с Англией взяла верх 1:0, и, выйдя из группы, уступили хозяевам чемпионата – шведам 2:0. Вот тогда началась эта серия, если вдуматься, кошмарного нефарта: на нескольких крупнейших турнирах почти подряд мы нарывались на хозяев – в 58-м – на шведов, в 62-м на первенстве мира – на чилийцев, в 64-м на первенстве Европы – на испанцев, и ни разу такой барьер взять не сумели. Горечь относительной неудачи в Швеции несколько сглаживалась тем, что проиграли, кроме хозяев, только бразильцам, которые произвели сенсацию и своей схемой 4–2–4, и феноменальными Пеле, Диди, Вава, Гарринчей и компанией и начали эру своего безусловного господства в мировом футболе. А сейчас, если бы мы на первенстве мира сыграли с англичанами вничью и выиграли, это событие было бы навечно вписано золотыми буквами в память болельщиков страны. И ведь все это – без трех игроков основного состава – Огонькова, Татушина и Стрельцова, из коих последний был настоящей звездой и лидером атаки… Армейцев в той команде представлял лишь Герман Апухтин.
В третьем классе я и сам стал немножко армейцем. К нам на урок физкультуры пришел какой-то дядька. Всех построили в несколько рядов и заставили сделать несколько упражнений на гибкость, а дядька ходил между рядами и выдергивал тех, кто ему понравился. Выдернутых, меня в том числе, спросили, хотим ли мы заниматься в бассейне ЦСК МО. Ну, раз в ЦСК МО – что за вопрос! Даже несмотря на то, что плавать я кое-как научился только что и особенно далеко уплыть не смог бы. Потом уже выяснилось, что особо далеко и не надо – набрали нас в секцию прыжков в воду, а дядька – это тренер Белый, действующий прыгун, призер первенств СССР.
Три раза в неделю я переходил через Ленинградку, что в те времена было сложным номером. Светофоров там почти не было, а машины мчались со скоростью под 100. Акробатика, особенно на батуте, мне нравилось, а вот падать в воду с высоты – не очень, поскольку я поначалу не был уверен, что выплыву. Достижения мои сводились к тому, что я подучился плавать и ходить строевым шагом, а также приобрел хроническую травму спины после нескольких особо успешных сальто и кульбитов.
В бассейне на галерее тогда было что-то вроде музея боевой славы ЦСКА – выставлены кубки и даже здоровенная очень красивая золотая олимпийская медаль кого-то из армейских гребцов или стрелков. На каждом шагу встречались многократные чемпионы СССР – прыгуны Чачба и Бренер, пловцы и ватерполисты. Зимой рядом с входом в ЦСКА на ледяном поле тренировалась команда по русскому хоккею, а весной на поле рядом с бассейном – то ли дублеры, то ли молодежка футболистов. Так что я купался не только в бассейне, но и в атмосфере армейского спорта.
Как-то раз, возвращаясь домой с тренировки, я услышал, как майор рассказывал подполковнику о поездке на просмотр матча «Спартак» (Ереван) – «Нефтяник» (Баку): – Там во втором тайме такое началось – народ попер на поле, толпу пожарные брандспойтами полчаса разгоняли…
А буквально на следующий год – в июле 1960 года – нечто подобное вдруг приключилось с нами самими. Вся Москва про это гудела месяца два. Играли мы с Киевом в Лужниках. По рассказам тех, кто был на матче, Киев всю игру наших провоцировал, а рижский судья Клавс на это сквозь пальцы посматривал. При счете 1:1 он назначил пенальти в ворота ЦСКА, и удар Лобановского вратарь армейцев Коротких отбил, но судья потребовал перебить. Повторный пеналь Лобановский забил… А вскоре с поля удалили нашего хавбека Крылова. Допровоцировались – публика, доведенная всем этим свинством до белого каления, поперла на поле. Менты растерялись, и «все смешалось в доме Облонских»…с дерьмом…
Говорят, все поле было усеяно обувью, которую болельщики пооттоптали друг у друга. Менты потом самых меркантильных на этом и похватали: кто возвращался поискать свои баретки, тех влекли в узилище и впаивали по 15 суток метлы и лопаты. Кому-то отвесили и реальные сроки в колонии. Федерация нам засчитала поражение, Евгения Крылова дисквалифицировали на год, и он уже больше нигде не появился. У нас умели провинившихся на место ставить. А у меня появилось дополнительное основание для нежной «любви» к киевскому «Динамо».
Футбольное чтиво
4-го января 58-го года нам в почтовый ящик стали класть газету, которая надолго стала обязательной частью жизни – отец подписался на «Советский спорт», тогда практически единственный источник спортивной информации. Дождаться, когда ее принесут, было совершенно сверх моих сил, и по огромной винтовой лестнице еще до ухода в школу я успевал пару раз слетать вниз – проверить почтовый ящик. За эти пробежки доставалось от мамы – надо было собираться, завтракать и выметаться, а меня постоянно нет на месте.
В школу брать с собой газету категорически запрещалось, и я очень хорошо понимал – почему. После знакомства с ней одноклассников, среди которых была туча болельщиков, от этого бестселлера к вечеру не осталось бы ничего. А газета вообще-то в первую очередь предназначалась отцу. На время его командировок газеты складывались в стопку, а потом заглатывалась им в один присест.
«Совспорт» тогда отличался от большинства центральных газет. Во-первых, форматом – он был маленький. На самом деле просто стандартный газетный лист складывали еще пополам, и получалось восемь полос. Во-вторых, там не было того, что писали все остальные газеты (тогда без особой точности можно было прочитать одну и знать содержание всех остальных), но было то, о чем больше никто не писал. Манера перепечатывать доклады Генерального Секретаря ЦК КПСС на весь номер, не оставляя спорту ни одного квадратного миллиметра, появилась позже – вместе со второй стадией развития маразма у «нашего дорогого Леонида Ильича»[47 - Леонид Ильич Брежнев (1906 – 1982) – партийный и государственный деятель СССР, с 1965 г. – фактический глава государства, правивший в стране рекордно долго, пока летом 2017 года его результат не превзошел В.В.Путин. Автор «эпохи застоя», особенно «застоявшейся» после случившегося с ним инсульта.]. На первой странице были анонсы, вторую я пропускал, потому что очень быстро выяснил – там вести из трудовых коллективов, сенсационные сообщения об организации производственной гимнастики швей-мотористок различных синепуповских заводов и достижениях колхозных гиревиков.
Вот на третьей странице переходили к делу, хотя иногда и ее прихватывали под физкультурников – тогда день был испорчен. Но уж на втором развороте гарантированно шли отчеты о футболе или хоккее, в зависимости от времени года. Действовали оперативно – в 50-е годы отчеты с составами команд из всех городов появлялись на следующее утро, и это несмотря на тогдашние средства связи. Потом, где-то в 70-е, обленились, обнаглели и стали подробные отчеты печатать только через день. Шевелиться их заставило только появление конкурентов в новейшие времена, а тогда я на «Совспорт» хамство в душе затаил.
Не стану здесь анализировать творчество авторов Совспорта, но отмечу черты, которые либо исчезли из нынешней спортивной журналистики, либо присутствуют в ней в виде реликтов. Во-первых, объективность. В какой-то степени предписанная и контролируемая сверху, потому что нельзя обижать «Динамо» – Органы, нельзя обижать ЦСКА, потому что это – родная Армия, нельзя обижать Киев, Тбилиси и т. д., потому что это национальные республики, а с этим было очень строго. А в какой-то степени объективность была хорошим тоном. Никто не знал, за кого болеет журналист, а подавно и комментатор. Проявить симпатии считалось неприличным – все равно, что ввалиться в «Арагви» с расстегнутой ширинкой. О том, за кого же журналисты на самом деле болели, узнавали по слухам, по случайным проговоркам. Это вам не СЭкс… Все это, конечно, касалось только Москвы – в Киеве, Одессе, в Закавказье на такие мелочи внимания не обращали, там прямо говорили в репортажах и писали: – Наши то, наши се…
Случаи, когда написали бы в московских отчетах какую-нибудь гадость про судью, можно было пересчитать по пальцам. Надо было так наворочать, чтоб все стонали, тогда в заметке сообщали, что «судья имярек провел игру неуверенно». «Футбол» позже иногда себе позволял кое-что, но, обычно в рамках обзора судейства.
Во-вторых, писали довольно грамотно, если хотите – литературно. Телерепортажей из других городов тогда не было, а потому большинство заметок излагали ход матча. Роль кого-то конкретно выпячивать не полагалось, так что влюбиться в футболиста по газете было трудновато. Аналитика не приветствовалась, иногда только – в конце сезона. Никакой инсайдерской инфы, упаси бог, никаких межсезонных слухов – только результат: игроки команды мастеров Х (не подумайте плохого) и Y за проявленные ими рвачество, выразившееся в желании перейти из команды А в команду Б (опять-таки, никакой задней мысли) дисквалифицированы на сезон. Если эти рвачи хотели из какого-нибудь «Красного Лаптя» перейти в «Динамо» – ждите, еще до начала календаря появится в уголке на 4-й странице покаянное письмо этих подонков общества с объяснениями, что только желание повышать мастерство да вот нечаянное поступление в московский вуз заставили их оторваться от корней, от груди вскормившего их спортобщества, а так бы – ни за что. И играли голубчики, как миленькие, где надо – с первой игры. А вот если ренегат намылился из «Динамо» в «Спартак» или, того хуже, из Тбилиси в Москву, позже – из Москвы в Киев или обратно, могли промариновать и полгода. Из Киева-то вырваться, как правило, не стоило и пытаться. Не затем Лобановский игроков сгонял к себе в казармы, чтобы потом отпускать… Ладно, об этом «великом» – позже[48 - См. главку «Тоталитарный тренер или ТТ» (стр. 263)]…
На последних страницах Совспорта шли второсортные виды и зарубежные вести. Слишком много из этих материалов узнать было нельзя, но я проглатывал все по главному советскому принципу: «берите, берите, а то и этого не будет».
Потом возник еженедельник «Футбол» – в 60-м вдруг появился этот праздник болельщика. Сначала в «Спорте» я прочел, что начинается выпуск приложения к газете, по наивности слово «приложение» воспринял в лоб и подумал, что он будет прикладываться к «Спорту». Потом выяснилось, что доставать его надо будет отдельно. Мы с отцом случайно оказались у киоска и увидели первый номер – тут же, конечно, схватили. Шестнадцатистраничный «Футбол» представлял собой все тот же одиночный газетный лист, но сложенный еще вдвое против «Спорта». Формат его сохранился до сих пор, но тогда страницы по сгибам не разрезали, и приходилось это делать самому. У меня терпежу не всегда хватало, чтобы дотащить «Футбол» до дому и там аккуратно порезать ножом, тогда я разворачивал лист на ходу и начинал рвать по сгибам. Бумага была поганая, рвалась криво, и драгоценность приобретала совершенно паскудный вид.
Первым редактором «Футбола» был Мартын Мержанов, писали там все возможные авторитеты: Вит, Дангулов, Ваньят… Лев Филатов, ставший впоследствии главным редактором «Футбола», был плодовитым писателем, несколько его довольно интересных книжек стоят у меня в библиотеке. Вот там была и аналитика, и большие статьи о командах, и серьезные материалы о европейском футболе. «Футбол» породил и новый для нашей спортивной прессы жанр – дотошную статистику, которую привнес в еженедельник Константин Есенин, натуральный сын поэта, но направивший свой поэтический дар на цифры игроков, матчей, голов, пенальти и прочих радостей и бед футбола. Именно ему принадлежит замечательная идея создания списка бомбардиров, забивших 100 и более мячей в чемпионатах СССР – Клуба Григория Федотова, названного так в честь великого игрока ЦДКА (что составляет для меня особую прелесть этого начинания), поскольку именно он добился такого успеха первым. Потом идея трансформировалась – стали добавлять голы в последних стадиях Кубков, голы за сборную – подозреваю, отчасти для того, чтобы втянуть в Клуб Всеволода Боброва, который из-за травм играл в футбол недолго и до сотни в первенствах немного недобрал…
Беда с этим «Футболом» была в одном – купить его, когда народ разобрался, что это за зверь, стало весьма затруднительно, поскольку поначалу он распространялся только в розницу. Подписку на «Футбол» разрешили сильно позже, потом отменили, а окончательно разрешили чуть ли не в перестройку. А в 60-е, между прочим, говорили, что бурный рост тиража «Футбола» у властей предержащих вызвал даже раздражение, и это дело прихлопнули. У нас и мощностей, вишь, не хватало на всю советскую прессу – печатать надо было всякие блокноты агитатора, решения разных съездов и труды вождей. И еще решили: отвлекает эта несерьезная писанина советских граждан от проблем построения социализма. Так что – придержали энтузиастов, а экономические соображения типа упущенной выгоды от недопечатанных и недопроданных «Футболов» никого тогда не волновали.
Примерно тогда же мне в руки попала газетенка, ныне давно вымершая и забытая – «Московская спортивная неделя», она же впоследствии – «Спортивная Москва». Убогонькое издание, в половину объема Совспорта, в котором тем не менее был подробнейший перечень анонсов спортивных событий в Москве – от футбольных матчей класса «А» (про которые, правда, и так все знали) до первенства Москвы среди клубов II группы (были еще высшая и первая и первенство среди школ олимпийского резерва, где и играли маленькие армейцы), всяких первенств по художественной гимнастике, городкам и одно время – даже лапте. Была такая попытка возродить эту игру – в пику что ли бейсболу? Я все-таки ценил это издание за то, что оно, единственное, печатало результаты клубного первенства Москвы по футболу, в котором меня, естественно, интересовали результаты ЦСКА. Ничего, кроме счетов матчей и суммарного очкового баланса вычитать там было нельзя, но хоть это…
В 63-м впервые я сам купил футбольный календарь – довольно информативный – с полной статистикой и заявками первой и второй лиг. Потом покупал календари каждый год, с 85-го года начал выходить большой справочник-календарь «Московской правды» (до этого они печатали маленький и без особых излишеств), его я особенно ценил за то, что только там были материалы о городском футболе, и иногда удавалось прочесть что-то про команды армейской футбольной школы.
Проведя полгода в Болгарии, я подучил совсем нетрудный болгарский, а, вернувшись, стал учиться читать на чешском. Когда читаешь на двух славянских языках, научиться читать газеты на третьем – дело пары недель. Довольно быстро я освоил «Ческословенски спорт» и «Копану»[49 - Kopana (чешск.) – футбол]. Там про чешский футбол было все, вплоть до первенств краев и городов – подробнейшие отчеты, таблицы. Кстати, оттуда еще в 60-е узнал название «Виктория» (Жижков), в последнее десятилетие – одного из постоянных участников чешской суперлиги, а тогда – второй-третьей команды в первенстве Праги, бессменным чемпионом которой были Uhelne sklady – да-да, именно то, что вы подумали – «Угольные склады». Там же были шикарные обзоры европейского футбола. Заочно следил, конечно же, за тамошними армейцами – «Дуклей» (Прага), Виктором, Плускалом, Масопустом – многие из них были прославлены вторым местом на первенстве мира в Чили, а мы их периодически видели, когда чехи приезжали к нам на товарищеские матчи.
Потом, уже студентом, читал «Руде право» и «Младу фронту» со всеми материалами пражской весны 1968 года, звучавшими довольно-таки антисоветски. Каким-то образом номер «Руде право» со знаменитыми «2000 слов» я спокойно купил в киоске у метро «Кировская», которая нынче «Чистые пруды». Когда после советского вторжения в чешских газетах стали писать то же, что и в советских, начал покупать белградскую «Борбу» и по ней учить сербо-хорватский. Потом, уже когда работал, добрался до белградской «Политики», которую привозили сотрудничавшие с нами югославские коллеги.
В «Политике» я первый раз увидел, как общеполитическая газета может освещать спорт (футбол, конечно, в первую очередь) – этим было занято не менее половины 32-х страничного номера. Под отчеты о центральных матчах – по полосе, а то и по две. Объективностью и не пахло – какая, к черту, могла быть объективность, когда белградский «Партизан» играл в Загребе с тамошним «Динамо». Очень они там все друг друга любили.
Вот так, собирая информацию по капелькам из случайных источников, броуновского движения слухов и стихийных брехаловок, существовало неформальное сообщество болельщиков. Иногда какой-то слух мог расползаться месяцами. Это в новейшие времена стоило парашу запустить на Песках про Гаттузо[50 - Спонтанный глум, возникший как-то на Песках году, эдак, в 2003-м, вслед за информацией о срыве перехода в ЦСКА защитника Грыгеры из Чехии. Тут же кто-то запустил хохму, что «нафиг нам Грыгера, мы Гаттузо купим». Через час постоянного повторения хохмы на разные лады корни ее уже были надежно забыты, а еще через час gazeta.ru сообщила об интересе ЦСКА к итальянскому защитнику. Следующий день был посвящен опровержениям и недоверчивому отношению к опровержениям.] – и через час все агентства ее стали цитировать как достоверную инсайдерскую инфу.
Спортивные комментаторы тогдашние – это легенда. Синявский стал комментировать еще задолго до войны. В раннем детстве я думал, что слово «Синявский» просто обозначает человека, который рассказывает по радио про футбол. Когда впервые услышал репортаж Озерова, половина удовольствия пропала. Потом уже понял, что на радио Синявский брал темпераментом, даже про самую занудную игру говорил в таком темпе, что можно было подумать – там вихревые атаки… Он к телевидению так и не приспособился до конца – места для творчества не хватало. И он, и Озеров, и Спарре – первый ряд, с которого для меня начались футбольные комментаторы, были также корректны и объективны, как и пишущие журналисты. Только Озеров со своим «Спартаком» к старости стал себе кое-что позволять…
Мы смотрели футбол в БПК по единственному в округе телевизору «Авангард» в комнате, в которой обычно проходили собрания партгруппы. Детей сажали впереди, включали телевизор, при этом обязательно надо было поднять у него крышку и упереть на подставку вроде рояльной – иначе перегревались лампы, потому упор был предусмотрен конструктивно – и возникала совершенная атмосфера стадиона, даже еще лучше, потому что можно было и орать, как на «Динамо», да еще репортаж слушать.
Еще один телевизор в пределах моей досягаемости стоял дома у деда и бабки (со стороны отца) в Малом Козихинском. Мы ехали туда на метро, на входе отдавали билетики контролеру, и она их надрывала, билетик надо было хранить до конца поездки, потому что по вагонам, открывая на ходу под вой ветра в тоннеле переходные двери, перемещались другие бесстрашные контролеры. А на перроне пассажиров встречала серьезная тетенька в красной фуражке с круглым белым жезлом и черным кругом в середине – им она сигналила машинистам поезда, что двери можно закрывать. В кабине же было двое – машинист, который сидел за рычагами управления и его помощник, который на станциях стоял одной ногой на перроне и, получив сигнал жезла дежурной по перрону, кричал машинисту «Готов!», а тот включал механизм закрывания дверей. Потом на станциях понаставили зеркал, через которые машинист сам все видел, и кричать перестали.
Потом мы с родителями шли по улице Горького мимо магазина «Телевизоры», в котором нельзя было купить выставленные в витрине образцы, мимо карикатур в окнах Дома художника, мимо ТЮЗа и Глазной больницы, все еще в противовоздушном камуфляже. Родители с дедом и бабкой обычно садились за преферанс (в детстве я ненавидел эту игру, потому что она отвлекала родителей и деда от меня), а я ждал шести часов, когда детской передачей начиналась программа телевидения.
Этот вид массовой информации еще пребывал в подростковом возрасте – передачи шли только по одному каналу, а, когда как-то раз мы пришли в гости к деду и бабке посреди недели, я едва дождался срока, щелкнул включателем, а на экране ничего не появилось. Взрослые посмотрели на меня с сочувствием: – Сегодня же четверг! На телевидении выходной!
Однако в остальные дни по единственному каналу исправно шли репортажи со стадионов. И в 58-м эра электронных СМИ началась и в нашей комнатушке на Нарышкинской. Мама уже два года, как вернулась на работу, папа перешел на должность заместителя по наладке главного конструктора подольского котлостроительного завода им. Орджоникидзе, и денег стало хватать от зарплаты до зарплаты. Тут еще вернулся в Москву демобилизовавшийся майором друг моих родителей – при деньгах, полученных под расчет при увольнении. И вот отцы семейств замыслили купить по телевизору. Подозреваю, что одним из основных стимулов для папы была возможность смотреть футбол дома, потому что он очень уставал, ежедневно катаясь в Подольск и обратно, и на стадион мог выбираться нечасто.
Слава богу, телевизоры уже не распределяли по талонам, но и купить их было непросто: их продавали в ограниченном числе крупнейших магазинов штук по 50 в день, поэтому надо было очередь занимать очень заранее.
Папа отправился ночевать к другу на улицу Горького в Елисеевский дом, а часа в 3 ночи они направились к ГУМу. Однако к магазину их не пропустили милицейские патрули – норовящих приблизиться к Красной площади так рано они гоняли, а упирающихся забирали в «собачий ящик» (он же – воронок, сейчас чаще именуемый автозаком). Пришлось прятаться от них по подъездам, которые в те времена не запирались. Часов в 5 народ все-таки из укрытий повылезал и накопился в квартале от ГУМа в таком количестве, что кого-то хватать милиционеры уже не рисковали. Около 6-ти они отконвоировали толпу к входу в ГУМ. Папа рассказывал, что очереди не было – там такая традиция сложилась. Задача была совершенно в стиле нынешних распродаж, которые показывают по ТВ – когда открывались двери магазина, толпа рвалась в них, и призы доставались тем, кто успевал добежать до отдела телевизоров первыми.
Когда, наконец, в 8 утра раздался «выстрел стартёра», наши молодые и спортивные отцы оказались в головке пелотона, а на дистанции отыграли много мест, и папа пришел вторым, а друг – пятым, то есть, совершенно точно оказались «в призах». Призами были ультрасовременные телевизоры «Рекорд-2Б» с диагональю экрана в 35 см, которые потом прожили у нас до конца 60-х.
Дальше были уже только счастливые хлопоты по вытаскиванию из ГУМа огромных тяжеленных коробок сквозь толпу аутсайдеров, поиск такси и торжественная доставка сокровища домой. К нам в комнатку поначалу откочевала часть аудитории институтского телевизора, а потом уже постепенно все отоварились… Кстати, так начинался процесс разрушения структуры коммунальной квартиры, когда соседи все знали друг о друге до седьмого колена и до донышка последней кастрюли, а нынче – и в лицо-то различают с трудом.
Лето 59-го года было для меня этапным, потому что тогда прекратились мои ссылки на целое лето в Киев, и мы всей семьей отправились в Палангу, в тогда еще советскую Литву – маме после туберкулеза юг был противопоказан, а на море всем хотелось, потому и была выбрана Балтика. Мы остановились на день в Вильнюсе, где я впервые в жизни увидел надписи на домах на латинице, а больше всего развеселил памятник с надписью «Leninas». Там же я увидел и первую в своей жизни синагогу, и до сих пор дивлюсь тому, как это она там уцелела после всего, что случилось в войну с литваками[51 - так назывались литовские евреи, пока все не погибли от рук гитлеровцев и местных коллаборационистов или не уехали из Литвы]… До знакомства с архитектурными красотами Вильнюса – улицей Антоколио и святой Анной – мне оставалось еще лет 20…
Добравшись до Паланги, очаровательного городка среди сосен на берегу с песчаными дюнами, мы оказались в совершенно непривычной обстановке литовского пансиона. Гостеприимство, которое сдержанно-вежливые хозяева оказывали в форме “bed and breakfast”, произвело впечатление высокой культуры и даже изысканности.
Балтика порадовала возможностью неограниченного купания и игры с отцом на песке в футбол. Там же, в Паланге состоялось и мое первое столкновение с религией – у меня, московского мальчишки, глаза на лоб полезли, когда я увидел, что буквально весь городок регулярно посещает костел, причем не только торжественные службы, а просто – идет человек по улице, сворачивает в храм, опускается на колени на специальную досочку в рядах скамей, молится минуту, поднимается и идет дальше по своим делам.
Между прочим, у входа в костел помещался ящичек для пожертвований, на котором на русском языке было написано, что сбор пойдет на реставрацию шпиля, поврежденного в 1945 году американскими бомбардировщиками[52 - Мемельский край, на территории которого находилась Паланга, был в 1939 году отнят гитлеровской Германией у Литвы и включен в состав рейха, поэтому в ходе Второй Мировой Войны союзники рассматривали его как имперскую территорию и, соответственно, бомбили.]. Судя по тому, как шпиль выглядел спустя 14 лет, набрать удалось немного. Потом, в «Берегись автомобиля!» гениальная сцена с пастором – Банионисом, у которого деньги на «Волгу» «немного остались… от Него» мне безумно напомнила тот палангский шпиль… Кстати, эта сцена совершенно самоценна, и фильм стоило снять хотя бы ради нее, ради этих слов в исполнении великого Донатаса Юозо: – Одни верят, что бог есть, другие – что бога нет. То и другое – недоказуемо…
У меня от этой поездки, помимо приобретенного умения кое-как держаться на воде, осталось на годы недоумение: вот все эти взрослые, на вид вполне разумные люди, неужели они и вправду верят? Примиряться с тем, что кто-то не разделяет моего материалистического мировоззрения, я научился значительно позже…
Новые времена
Буквально на следующий день после первомайского праздника 1960 года газеты и телевидение сообщили о небывалом – зенитные ракетчики сбили американский самолет «Локхид У-2» над Уралом. Пресса заходилась в восторге от успеха – свалили считавшийся неуязвимым американский разведчик на высоте, до которой раньше не дотягивались ни ракеты, ни самолеты-перехватчики ПВО; пилота – Фрэнсиса Гэри Пауэрса – захватили и предали открытому суду[53 - приговорили к 10 годам, а затем обменяли на Рудольфа Абеля. На мой вкус мы тут сильно выиграли, получив аса разведки за рядового пилота.]. Я целых три недели ходил в школу по Красноармейской мимо выставленной в витрине Дома авиации[54 - Ныне – Центральный музей авиации и космонавтики все на той же Красноармейской] схемы полета Пауэрса, заканчивавшейся крестом на Урале. Под соусом этой истории отменили уже назначенный ответный визит американского президента Эйзенхауэра в СССР и планировавшееся заключение договора о разоружении. Не знаю, как остальные, но тогда я впервые осознанно воспринял ощущение военной тревоги, которое вообще-то культивировалось постоянно. Весь следующий год это ощущение только нарастало.
А тем временем, в параллель с грозовыми раскатами в мировой политике, в жизни нашей семьи произошло событие, которое изменило ее совершенно. Летом 60-го года меня в очередной и последний раз, правда, лишь на месяц, услали в Киев к деду и бабке, а родители под действием слухов о ширящемся жилищном строительстве решили попробовать выяснить свою судьбу в райжилотделе, где они стояли на очереди с незапамятных времен. Действительно, все газеты и телевидение громогласно возвещали о том, что Советская власть, едрена вошь, обеспокоилась-таки условиями жизни своих неподследственных граждан – в смысле, тех до кого очередь на следствие и его последствия так и не подошла, – и стала строить жилье «числом поболее, ценою подешевле». Мы летом 59-го, едучи купаться в Серебряный Бор, даже сами видели, что на Хорошевке за домами, построенными пленными немцами сразу после войны, выросли кварталы из одинаковых пятиэтажных домов, с торца выглядевших так, будто склеили вместе десять спичечных коробков в два ряда…
Шансов, как сами родители думали, у них было немного – такие же или худшие условия были еще у тысяч семей, к тому же маму только что сняли с учета в тубдиспансере как излечившуюся, и эта льгота нам больше не полагалась. И тут случилось одно из совершенно необязательных событий, которые определяют повороты судьбы. В жилотделе они попали на молодого парня, который почему-то проникся к ним симпатией, сказал, де, давайте посмотрим, что можно сделать, порылся в своих бумагах и воскликнул: – О, такой-то (видно начальник невысокого ранга) от ордера отказался! Вот, берите смотровой, но имейте в виду, что действовать надо быстро!
Надо ли объяснять, что действовали мои родители в ураганном темпе, потому что смотровой ордер обещал двухкомнатную квартиру с жилой площадью в 31 кв.м., кухней, раздельным санузлом (совмещенный тогда еще только становился пугалом для многосемейных новоселов) и даже метровым чуланчиком. И всего-то – на втором этаже (лифты тогда считались архитектурным излишеством)! Это были славные времена, когда проектировщики еще не потеряли совесть окончательно и не соединили пол с потолком, как в известном анекдоте. В квартире был настоящий буковый паркет, деревянные, а не картонные, двери и широкие лестницы, по которым можно было проносить серьезные грузы – что гроб, что пианино. В последующих сериях новостроек все это исчезло.
Когда приехавшие за мной родители сказали, что в старую комнату на Нарышкинскую мы уже не вернемся, я загрустил – и по родному месту, и по соседям, которые были вроде родственников…
Первое время мы в этой квартире друг друга теряли, и чувство локтя ближнего своего, засунутого тебе под дых, сильно ослабело. Правда, возникли трудности из-за удаленности нового места жительства – тогда это называлось 75-м кварталом Верхних Мневников. До любого метро надо было добираться полчаса, и отцу, работавшему на подольском заводе, приходилось тратить по два с половиной – три часа в один конец. Еще и в 20-й троллейбус на нашей остановке, которая тогда называлась «Правление колхоза»,[55 - Впоследствии – Бульвар генерала Карбышева] было не сесть. Как-то раз отец, опаздывая на работу, доехал вместе с еще десятком мужиков на подобравшем их «воронке» до Белорусского вокзала, а когда шофер скомандовал высадку, они попрыгали из машины на ходу – там в пробке скорость была маленькая… Фурор, когда из воронка посыпались мужики, некоторые с портфелями, на площади был огромный.
Родители из-за этого чуть не совершили роковую ошибку: попытались лихорадочно поменять отдельную квартиру на комнаты в общей квартире поближе к центру, и только спустя год, когда они распробовали прелесть независимости от посторонних и родили второго сына, прекратили эту самоубийственную деятельность.
Для меня переезд означал не только то, что я больше не буду спать на топчане у выхода из комнаты, и через меня не надо будет перешагивать, чтобы выйти, но и необходимость уйти из любимой 150-й школы, где я всех знал и прекрасно себя чувствовал. Я еще посопротивлялся жизненным обстоятельствам и несколько недель поездил с Хорошевки на Ленинградку, но потом почувствовал, что выматываюсь от этой езды и беготни по часу с лишним в каждую сторону и сдался. Все-таки в 10 лет это оказалось тяжеловато. Тем более, что на меня во все большем объеме ложились всякие обязанности в семье – именно тогда до самого 64-го года я меньше всего видел своего отца, который со своей бригадой наладчиков месяцами сидел на Южно-Уральской ГРЭС[56 - Государственная районная электрическая станция], запуская один блок за другим.
Согласно советской системе, о трудовых успехах положено было рапортовать к Новому Году, и для нас последние дни календаря превращались в напряженное ожидание – успеет ли папина бригада провести 72-часовое испытание, которое позволяло считать блок введенным в строй, и хватит ли ему потом времени, чтобы долететь до Москвы. Мама, пока работала в ГАМЦ, а потом ее подруги в московских метеобюро отслеживали погоду – я запомнил минимальные параметры, позволявшие садиться тогда в московских аэропортах – высота облачности 100 метров, дальность 1 км… Однажды папа не успел, и мы поздравляли друг друга с Новым Годом по телефону – он позвонил с Челябинского аэродрома.
Год в 100-й школе-восьмилетке пролетел незаметно, потому что я больше проболел ангинами и воспалениями легких, чем проучился. Возможно, сказалось прекращение занятий в бассейне, а может быть, детский организм так отреагировал на улучшение жилищных условий – во всяком случае на изменение обстановки. Мама таскала меня по врачам, зашла речь о необходимости операции, но тут кто-то ей посоветовал показать меня отоларингологу Фельдману – тому самому, чудом уцелевшему в лапах МГБ по делу врачей. Мы пошли к нему на квартиру, и старый доктор, надев налобное зеркало, посмотрел меня и сказал: – Не надо ребенка зря оперировать, отвезите его летом в Евпаторию, пусть мальчик пополощет там горло морской водой, и все пройдет.
С наступлением весны я стал болеть поменьше, а в школу ходить – побольше. Пожалуй, именно к этому году относится мой первый околоспортивно-окололитературный опыт – нам задали сочинение на сакраментальную тему «Как я провел зимние каникулы», и я добросовестно пересказал содержание документального фильма о Римской Олимпиаде, виденного мной в кинотеатре «Новости дня» в начале Твербуля, и заслужил от классной руководительницы восторженный отзыв. Вдохновленный им я в следующем сочинении разразился новогодней сказкой – довольно шаблонной, но все же придуманной полностью самостоятельно и настолько впечатлившей учительницу, что к «пятерке» она добавила два плюса…
Для уравновешивания к себе чересчур почтительного отношения учительницы, я, несмотря на частые отсутствия, успел поучаствовать вместе со всем классом в «хулиганстве» – учительница задержалась и долго не приходила в класс, а несколько ребят носились по коридору и орали. Нашей классной перепало от завучихи младших классов, ведшей параллельный класс и заслужившей у своих детей кличку «Бочка-полицей» за стройность фигуры и доброту, и нам не поздоровилось… Разъяренная взбучкой классная пошла по рядам и влепила в дневники всем погловно двойки по поведению. Я, не чувствуя за собой особой вины и учитывая коллективный характер репрессии, отнесся к ней наплевательски. А вот девочка, которая сидела со мной за одной партой, отличница и председатель совета пионерского отряда с двумя лычками на рукаве, заплакала тихонько и стала спарывать лычки, видимо в знак протеста. Добилась она только того, что классная еще и за это на нее накричала…
До майских праздников оставалось уже немного, когда вдруг на перемене по школе пополз какой-то слушок, что у нас запустили человека на Луну… Ну, такую возможность я своим критическим умом сразу отверг – ага, ни одного запуска человека на спутнике Земли, и сразу – на Луну? А потом слух стал как-то материализоваться и приобретать более отчетливые очертания – вроде полетел майор Гаганов. Опять мой мозг воспротивился: Гаганова – это была фамилия ткачихи из Вышнего Волочка, которой незадолго до того дали «Гертруду» – Героя Соцтруда, и я решил, что это опять у кого-то в голове что-то закоротило…
…Урок все не начинался, учительница опять куда-то исчезла, и мы колобродили в классе, пока не прокашлялась вдруг в коридоре школьная радиотрансляция, и учитель труда проговорил в микрофон, что у нас запущен космический корабль с человеком, фамилию он еще не назвал… В школе началось громкое сумасшествие, и все, с кем я потом говорил на эту тему, сходились на том, что это была невиданная ни до, ни после, эйфория.
Занятия, само собой, фактически были сорваны – никто ничего не мог и не желал слушать, все только обсуждали событие. Мы, как выяснилось, были не одиноки – тысячи людей сорвались тогда с работы и с занятий и против всяческих правил и обыкновений вывалились на стихийную демонстрацию на Манежке – вечером телевидение показывало студентов-медиков, у которых приветственные лозунги были написаны на их белых халатах. Что-то подобное мне почудилось потом во взрыве чувств в ночь 19 мая 2005 года[57 - Это когда мы кубок УЕФА взяли]…
Через несколько дней Москва готовилась к встрече первого космонавта, который, как выяснилось, Гагарин, а не Гаганов, хотя пресса не упустила случая обыграть сходство фамилий. Рано утром я шел в школу, исполненный решимости удрать оттуда любой ценой после второго урока, чтобы успеть к телевизору и все увидеть. Подозреваю, что аналогичные планы строили практически все, кто пришел в тот день на занятия. И когда после второго урока я уже напружинился, чтобы в переменку задать стрекача, в класс зашла завуч и сказала: – Дети, идите домой смотреть встречу Юрия Гагарина!
Даже жалко было пропавшего зря запала совершить побег. А через несколько секунд после замечательной речи завуча газоны вокруг школы почернели от сотен школьников, рвущихся вон, на ходу натягивающих пальто, куртки и шапки и мчащихся по домам… Дома у телевизора за импровизированным праздничным столом я к своему удивлению обнаружил группу оперативников ГАМЦ ВВС во главе с собственной мамой, которые смылись с работы с той же целью, что и я. Подозреваю, что в тот день в Москве работали только «Скорая помощь», пожарные и вытрезвители.
Картинка встречи до сих пор перед глазами, как нечто обалденное – чистый, ничем не запятнанный восторг, охвативший буквально всех. Я просто не знаю человека, который бы вспоминал этот день без теплоты в голосе, хотя оснований для всяких неудовольствий жизнью было предостаточно. Но вот – никого не убили, не завоевали, а просто совершили подвиг, которого мы, мальчишки, ждали и были уверены в нашей победе в гонке с американцами, никем не объявленной, но совершенно очевидно существовавшей. Самолет над Внуково в окружении почетного эскорта истребителей, посадка, развязавшийся шнурок у Гагарина на ботинке, рапорт и проезд от аэродрома до Кремля среди толп, беснующихся от радости, сносящих оцепления, прорывающихся с букетами к машине. Взрослые в тот день выпили все, а мама и ее сослуживицы вспомнили, как полтора года назад у них в столовой обедали молодые летчики, которых кто-то назвал «Лайками»[58 - написал и сообразил, что буду либо не понят, либо понят, но не так. «Лайками» летчиков называли по аналогии с первой космонавткой – собакой Лайкой, пилотировавшей Спутник-2 и давшей имя сорту очень посредственных сигарет. О «лайках» как символах одобрения в фейсбуке тогда не подозревали, и до подозрений оставались еще десятилетия.]…
А в июне меня по мудрому повелению доктора Фельдмана отправили-таки в эту самую Евпаторию. Видимо, специально для этого именно там дислоцировался пионерский лагерь Министерства обороны «Чайка», который в то время считался вторым по уровню в стране после легендарного «Артека». Мама, работавшая в системе МО всего лишь рядовым вольнонаемным оперативником одной из множества служб, каким-то своим особым везением или паранормальными способностями раздобыла мне туда путевку. Да, надо признать, по тем временам лагерь был шикарный, кормили вкусно и обильно, было полно всяких секций и кружков, пляж и море…
Как и во всех других местах, важное место занимал футбол – разыгрывалось первенство лагеря, хотя понятно, что команде 35-го отряда, состоявшей из пятиклассников, нечего было делать против 1-го отряда – там были ребята, перешедшие в 10-й… Даже против 3-го отряда (мальчиковые носили нечетные номера, а девчачьи – четные), где ребята были всего на год моложе, первоотрядовцы имели абсолютное превосходство. Но вот как-то на утренней лагерной линейке начальник лагеря сообщил, что к нам едет детская команда ЦСКА, чтобы сыграть со сборной лагеря. Можете себе представить, как все воспламенились от этого сообщения!
Все, конечно, были уверены, что команда НАСТОЯЩЕЙ спортшколы НАСТОЯЩЕГО ЦСКА несомненно вздует наших, пусть даже они и будут старше… Парни из сборной лагеря все это слышали и тренировались совершенно, как сумасшедшие – просто не уходили с поля лагерного стадиона, между прочим, вполне «взрослого» – с капитальными каменными трибунами и полем с разметкой и воротами с настоящими целыми сетками. В назначенный для матча день лагерь гудел и ходил ходуном, команда лагеря столпилась поблизости от поля, чтобы первыми увидеть соперников, как только их доставят.
Что-то затягивалось прибытие высоких гостей… Наконец, пронесся вой: – Приехали! А вскоре, действительно, в клубах пыли появился зеленый армейский автобусик, только что-то я никого не мог разглядеть в салоне, хотя в детстве у меня было отличное зрение. Дальше началась какая-то фантасмагория – автобус, не тормозя у границы поля, проехал в центральный круг, а потом из дверей полезли на поле какие-то черти, лешие и бабы-яги в дурацких сарафанах, в которых со второго взгляда легко распознались физруки, вожатые и прочая нечисть…
Поняв, как их надули, ребята из сборной от обиды совершенно озверели и, когда началась-таки игра, пошли рубиться с вожатыми всерьез, не стесняясь врезать сопернику по костям со всей силы. Кое-кому из взрослых это сильно не понравилось, и я слышал, как начальник лагеря уговаривал их: – Ребята обиделись! Вы уж потерпите!
В первом тайме со зла и со свежими силами пацаны штуки три наколотили, а после перерыва взрослые, сняв дурацик юбки и засучив штанины, отыгрались, чем закончилось точно не помню, но у меня остался нехорошее послевкусие, тем более что незадолго до того мы тоже попались… Для младших отрядов устроили что-то вроде военной игры – поиски «сладкого дерева» – по каким-то подсказкам. Мы первыми обнаружили под кустами ящик с пряниками, но у нас его конфисковал вожатый соседнего младшего отряда и объяснил, что маленьких нельзя обижать, этот ящик должны были найти они… В общем, мы поняли, что вся эта игра была нечестной с самого начала.
Отдых в пионерлагере МО «Чайка» оставил еще одно сильное воспоминание. Как-то раз один мальчишка из нашего отряда, сын офицера, как и большинство ребят, когда пришлось к слову, вдруг, понизив голос сказал: – А ты знаешь, что мы в 42-м году должны были на Гитлера напасть? Я о таком услышал тогда впервые и, конечно, сказал, что – нет, не знаю, но это было бы здорово, если бы мы первыми успели, и не было бы этой внезапности, из-за которой, как нам тогда объясняли, случилась трагедия первого периода войны. То есть, тогда отголоски этих предвоенных слухов продолжали циркулировать среди офицерства. Я потом спросил своего старшего дядю, служившего в кадрах с 38-го, правда ли это. Дядя Петя, как-то глядя в сторону, пробурчал что – да, разговоры такие ходили… А проблема начала войны с Германией так до сих пор и остается туманной ареной борьбы «патриотических» и «антипатриотических» историков…
Между всеми этими пионерскими делами и развлечениями, в соответствии с предписаниями доктора Фельдмана, я, действительно, во время купаний несколько раз прополоскал горло морской водой, а остальное, видимо, доделали местный микроклимат и взрослеющий организм. Так что я полностью вылечился от своих хворей и вот делюсь теперь советом старого доктора – лучшего ухогорлоноса СССР. И когда в общественном питании советского народа произошла миниреволюция – в продуктовых магазинах стали массово устанавливать миксеры и поить народ молочными коктейлями из мороженого, сиропа и молока по 10 копеек стакан, я уже потреблял это лакомство совершенно безбоязненно.
А в следующий – 5-й – класс я пошел в десятилетнюю 108-ю школу, намного ближе к дому – только пересечь 67-ю больницу. Правда, там, прямо у дыры в заборе, через которую я проникал в больницу, располагалась маленькая больничная прозекторская, и на 11-летнего пацана санитары, с ржанием вытаскивающие из машины носилки с голым трупом, у которого сопроводительные документы засунуты в сложенные на груди руки, произвели неизгладимое впечатление.
В октябре того 61-го года произошла еще одна важная перемена в жизни – родился мой младший брат, которого после ожесточенной внутрисемейной дискуссии назвали редким именем Александр. На этом закончилось мое существование в качестве единственного ребенка, что в принципе полезно для пресечения эгоцентрического развития личности. Правда, когда у тебя с младшим братцем разница в одиннадцать с половиной лет, он уже воспринимается, скорее, как племянник… Тем более, что я тут же был брошен на курс молодого бойца (отца) – сначала гуляние с коляской, а потом и оставление с этим персонажем один на один: пеленание, мытье, экстренное застирывание подгузников, которые тогда не были одноразовыми, переодевание ползунков и кормление из бутылочки. Когда у меня свои дети появились, учиться мне уже было нечему…
По тем временам ничего необычного не было в том, чтобы 11-летний мальчишка умел и простирнуть, и покормить. До сих пор помню, что для оценки температуры молочной смеси в бутылочке надо было, надев на нее соску, капнуть содержимое на тыльную сторону ладони, и, если ощущалось только слабое тепло, значит, все в порядке – можно кормить, не обожжешь.
Недавно в разговоре с младшим братом, у которого уже своих трое дочерей, услышал, что он до сих пор помнит, что я лучше всех укладывал его спать – подтыкал одеяло со всех сторон, так ему было тепло и уютно. А дело было в том, что я в силу возраста еще очень хорошо помнил, как лучше всего засыпалось мне самому… И теперь я знаю, что сделал в жизни, по крайней мере, одно доброе дело – и это меня радует, – помните анекдот, в котором бог отвечает человеку, в чем был смысл его жизни: – В поезде в Винницу в вагоне-ресторане женщина попросила тебя передать ей солонку? Ты передал. Вот в этом!
Главной же моей и самой нелегкой педагогической обязанностью были ежеутренние марш-броски за полтора километра – на молочную кухню за всякими В-гречами и В-кефирами. Как-то постепенно оказалось, что все мамины знакомые, с кем она вместе гуляла с колясками, тоже очень занятые люди, и к весне я уже таскал из молочной кухни чемоданчик с 21 бутылочкой для пятерых младенцев. Зимой, в темноте эти прогулки с хрупкой стеклотарой по заледеневшим дорожкам, из-за которых приходилось вставать часа на полтора раньше, доставляли особый кайф… Правда, по воскресеньям чадолюбивые родители, у которых рабочий день в субботу уже был укороченным, давали мне выспаться.
Случилось той осенью и удивительное событие, равного которому не было в истории ни до, ни после. Непререкаемый лидер советского хоккея команда ЦСКА, из которой по каким-то причинам был устранен один из ее основателей и неизменный тренер Анатолий Тарасов, вдруг продул динамовцам с небывалым счетом – 5:14. При этом в первом периоде легендарный непробиваемый Николай Пучков запустил 8 штук, а по рассказам бывших на игре остальные армейцы только присутствовали на площадке… Лишь в третьем периоде команда забегала и закончила его 5:5… Иначе, как слив тренера Виноградова это воспринимать было невозможно.
После этого в команду вернулся отставленный Тарасов, а Николай Георгиевич Пучков был навсегда отправлен в питерский СКА. Кончился этот сезон проигрышем «Спартаку» в знаменитом скандальном матче. Конфликт разыгрался из-за того, что в те времена в середине третьего периода звучал свисток, игра останавливалась, и команды менялись сторонами площадки. И вот именно на последних секундах первой десятиминутки третьего периода армейцы, которые весь матч проигрывали и которым для чемпионства требовалась хотя бы ничья, сравняли счет. Однако судья-секундометрист заявил, что шайба пересекла линию ворот уже после окончания времени по контрольному секундомеру, хотя на табло еще оставалась секунда. Гол отменили, Тарасов уперся и увел команду с поля, судьи тоже не сдавались, бедный Николай Николаевич Озеров не знал, что и врать-то – от эфира его не отключили, и пришлось ему импровизировать на разные лады. Через полчаса после нажима с самого верха (в правительственной ложе восседал сам Брежнев) матч возобновили, и мы все же лишились в том году чемпионства. Тарасову эта эскапада стоила временного лишения звания «Заслуженный тренер СССР».
К тому же времени относится и знакомство, смысл и последствия которого стали ясны много позже. В нашем дворе во главе шайки дошкольной мелюзги носилась самая толстая и здоровая из них деваха – Танька из 35-й квартиры. Ее семья раньше жила в 3-м Красноармейском переулке – недалеко от Нарышкинской аллеи, а потому по «улучшению жилищных условий» мы и попали в один дом на Хорошевке. Моя мама узнала, что в этой квартире живет преподавательница Стасовской музыкальной школы, и пошла у нее выяснять, нет ли тут поблизости учителя по фортепьяно, на котором меня мучили еще на старой квартире. Так мы познакомились с семьей этой преподавательницы, в том числе с ее племянницей – моей будущей женой.
Соседи. Мой полугодовалый брат Сашка и восьмилетняя Танька из 35-й квартиры. Семейный архив. 1962 г.
Тогда никаких особых мыслей в связи с этим не возникло. Ну, посудите сами: я уже, можно сказать, старший школьник – перешел в 5-й класс, и какая-то мелочь детсадовская… Когда соседская дочка подросла, перспективы каких-то особо приязненных отношений еще уменьшились, потому что теперь мне ставили ее в пример за аккуратность, а ей меня – за трудолюбие, потому что я выносил помойное ведро и бегал в магазины и на молочную кухню (про трудолюбие – это был миф, я все это делал по обязанности, а не по душевной склонности). Ничего, кроме раздражения с обеих сторон, это вызвать не могло.