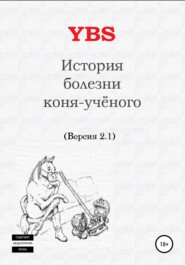скачать книгу бесплатно
Почти сразу за этими событиями последовала волна публикаций о жертвах сталинских репрессий, которые я поглощал, как и любую печатную информацию, а она запечатлевалась в детском мозгу так, что вырубишь только топором. И тут выяснилась интересная вещь: оказывается, родители прекрасно знали имена тех расстрелянных военачальников – Тухачевского, Якира, Уборевича, а киевская бабка хранила в сердце самые теплые чувства к Постышеву, долгие годы бывшему партийным лидером на Украине.
Как-то мама упомянула, что перед войной в старших классах им приходилось чуть не каждый день закрашивать на фотографиях в учебнике истории то одного деятеля, то другого… У нас в семейном альбоме тоже обнаружился интересный образчик: мама четырех лет, т. е. это 1927 год, и ее старшие братья, но пространство между ними аккуратно выстрижено ножницами – сейчас уже некого спросить, кого из родственников, о которых вспоминать было опасно, таким образом устраняли.
Дети семьи Костинских. Слева направо: Миша, Базя, Яша и Петя. В центре кого-то устранили. Семейный архив
Вот и портреты Сталина почти сразу со стен поисчезали, а когда мы на майские праздники пришли на «Динамо» на открытие сезона, оказалось, что и его статуя у Северной трибуны куда-то делась, и от нее остался только пустой пьедестал.
Оказалось, что и дядя Коля – Николай Михайлович Иваницкий – коллега отца, с семьей которого, жившей полуэтажом ниже, у нас были самые добрые отношения, и Виктор Алексеевич Ларичев, старейший работник БПК, сотрудники Рамзина – были тоже осуждены и отсидели по процессу Промпартии… Эту информацию мне переварить не удалось – дядя Коля был интеллигентнейшим человеком, и совместить в сознании его образ с понятием «преступник» у меня никак не получалось.
А в начале лета произошло то, на что я и надеяться не мог: на Динамо при большом стечении народа провели матч ветеранов ЦДСА и «Динамо». Тогда я увидел на поле ВСЕХ наших великих. В воротах Никаноров, в защите – Чистохвалов, Кочетков и Нырков, в полузащите Водягин и Соловьев, великая пятерка нападения – Гринин, Николаев, Федотов, Бобров, Демин в полном составе. Это был их последний матч. Ждал я, конечно, чего-то невероятного, а увидел медленно двигающихся мужиков, у которых их мастерство проблескивало лишь время от времени. Наши пробовали играть на Боброва, но у того ничего особенного не получалось… Не то, чтобы я разочаровался, а огорчился. Да еще проиграли 0:1. По-моему, Шабров нам забил. И все же я их всех видел на поле! Года через полтора не стало Григория Ивановича – он ушел неполных сорока, первым из той когорты.
От того лета осталось и еще одно важное воспоминание. Незадолго до очередной годовщины начала войны я стоял на крыльце нашего дома и услышал по радио из комнаты соседей стандартное для того времени перечисление основных вех Великой Отечественной: вероломное нападение, разгром немцев под Москвой, Сталинград, Курская дуга, Победа… И вдруг осознал какое-то царапающее несоответствие: Красная Армия – «непобедимая и легендарная», так меня учили, а разгром немцев – под Москвой?!
Я уже ездил летом в гости к бабушке и дедушке в Киев, и знал по собственному опыту, что на поезде туда – 15–16 часов. Я и географическую карту помнил и знал, что от Киева до ближайшей границы Советского Союза – еще столько же, сколько от Москвы. И как же получилось, что первый разгром немцев – под Москвой, если немцам даже на скором поезде от границы – больше суток? И эта мысль надолго засела, как заноза[24 - Об этом мучившем меня всю жизнь противоречии я впоследствии написал большой текст, который так и называется: «Почему же под Москвой?» http://www.yu-b-shmukler.narod.ru/time/Pochemu_1.html], пока новые источники информации, ставшие доступными после падения СССР, не внесли в этот вопрос ясность… Для нашей семь та война стала огромной катастрофой, в которой бабка только с материнской стороны насчитала 35 убитых, из коих пятеро – в боях, а старики, женщины и дети по ямам Киева и Волыни.
Еще одно принципиальное событие ознаменовало то лето: уже надрессированный выносить на помойку мусорное ведро, я был отправлен мамой в булочную. Надо было протиснуться между прутьями забора казармы музкоманды, дворами выйти на Красноармейскую, а там до бревенчатого домишки булочной оставалось метров 100. Добрался я до нее без проблем, только позабыл, что надо сначала выбить чек в кассе, а уже потом идти с ним к продавщице. Ну, да ничего, добрые люди подсказали, по-моему, даже пропустили без очереди, и я выполнил свое первое боевое задание – купил батон за рубль-35[25 - в ценах 1947 года. При деноминации 1961 года превратился в «батон за 13», каковым и известен более молодому поколению. Это было единственное изделие, цену которого округлили в меньшую сторону.]. Сейчас, наверное, только совершенно безумный родитель отправит шестилетнее чадо в булочную без конвоя, даже если надо просто выйти из двора. Но тогда это было в порядке вещей, и я отнюдь не раньше всех был пристроен в семье к делу.
И, наконец, главное, что случилось в тот год, было важнее и крушения авторитета дедушки Сталина, и выполнения первых самостоятельных заданий. Мама решила, что окончательно выздоровела для того, чтобы возобновить работу. У нее были серьезные резоны для этого: она была совсем молода, не утратила интереса к профессии и очень страстно переживала обстоятельство, которое сейчас покажется ничтожным или непонятным. За время болезни у нее истек срок действия паспорта, и в новый, поскольку она не работала, в графу «социальное положение» всадили обидное – «иждивенка». Еще одной причиной, по которой мама стремилась вернуться к работе, было элементарное безденежье, из-за которого отец не раз уезжал на свои электростанции, оставив нам с мамой почти все командировочные.
Перед тем, как выйти на службу, мама решила со мной съездить в гости к старшему брату Пете, служившему в Балаклее в артиллерийском арсенале. По иронии судьбы после войны полковника Петра Костинского назначили туда, откуда весной 42-го он, раненый, чудом выскользнул из окружения, которое заворачивалось над нашими войсками, наступавшими на Харьков.
Та поездка оказалась для меня полной открытий. Уже на станции Балаклея я впервые обнаружил, что на вокзале может не быть перрона, и надо спускаться прямо на землю (даже на большинстве подмосковных дачных станций уже были высокие платформы). Дядя Петя встречал нас на станции на машине с какой-то странной не виданной мной прежде эмблемой – круг, разделенный на четыре части – накрест белого и голубого цвета. В Москве я таких не встречал – там добегали свой путь последние «эмки», улицы заполоняли «Победы» и откровенно передранные с «Опель-Кадета» «Москвичи»[26 - На морду они были неотличимы, но «Кадет» – трехдверный, а «Москвич» – пятидверный], появились самые первые «Волги», еще много было на улицах «виллисов» и «студебекеров», а вот такой, как у дяди Пети – не было. Только взрослым я установил соответствие между запомненным мной в детстве знаком и мировой маркой BMW… В Москве почему-то эти трофеи быстро вышли в тираж, а на периферии их бережно холили и лелеяли, и вот – кое-что дотянуло до середины 50-х, спустя минимум 11 лет после того, как их взяли с бою… И телефон у полковника Костинского в квартире стоял не такой, как висел у нас на Нарышкинской на лестнице, – цифр на диске не было, а был такой шпенек. За него надо было подергать диск, тогда на узле связи раздавался звоночек, и телефонист на узле связи говорил: – Алло? И надо было назвать ему номер, с которым хочешь соединиться.
Где-то через неделю после нашего приезда в жизни Балаклеи произошло важнейшее событие – матч между командами арсенала и гарнизона. Трибуны довольно большого стадиона заполнились битком и шумели не хуже московских. Игра была упорной, по-моему, закончилась безрезультатно, но в детской памяти осталось: как же так, играют две армейские команды, а цвета какие-то динамовские – одна команда во всем синем, а другая – для отличия в белых трусах. Я оскорбился – по наивности, а на самом деле, играли в том, что можно было достать – советская текстильная промышленность разнообразием цветовой гаммой не баловала.
Работой, которую нашла мама все на той же Ходынке, была вольнонаемная должность оперативника Главной аэрометеослужбы ВВС. Три дня она ходила на работу, как все нормальные люди, а на четвертый уходила на сутки, а потом день отдыхала. Я часто бывал у мамы на работе, смотрел, как они там составляют карты погоды для военной авиации – красными и синими карандашами разрисовывают контурные карты, показывая антициклоны, циклоны и атмосферные фронты. Мне там можно было постучать на пишмашинке и покрутить арифмометр «Феликс».
Все бы ничего, но, когда лето миновало, оставлять меня одного на целый день исключительно под присмотром соседей мама побоялась, а это означало, что мое домашнее детство окончилось. Шести лет отроду я оказался в структуре Советской Армии в лице 495-го детского сада Военно-Воздушных Сил, который дислоцировался на Верхней Масловке.
Идти туда было недалеко – только пересечь Петровский парк. Я детского сада не боялся – все слова, которые положено знать, мне уже были известны. А вот к некоторым особенностям детских коллективов принудительного содержания я готов не был, и это на некоторое время стало проблемой. Попал я в «подготовительную» группу, в которой ребята пробыли вместе года по три, а я – новенький… Раза три возникали драки без соблюдения джентльменских правил – трое на одного…
Приехавший из очередной командировки отец приметил, что я не весел, а, может, и разглядел следы боестолкновений на моей физиономии, и поинтересовался, как у меня дела в детсаду. Ну, я ему и пожаловался на горькую судьбину. Папа на это ответил, что, чем жаловаться, надо дать отпор, а на возражение, что противников много, сказал, что, если как следует съездить одному, то и у остальных охота отпадет.
Тут же был организована тренировка: используя вместо тренерских «лап» подушку, папа ставил мне удар, учил проводить серии. Главное, сказал он, – постараться акцентировать удар. Не могу сказать, что за пару уроков я овладел техникой, но почувствовал себя увереннее и даже с некоторым нетерпением ждал случая применить свои новые навыки.
Ждать долго не пришлось: через день или два заводила нашей группы и мой главный враг Сережка спровоцировал драку, пока в комнате не было воспитательниц. Мы сцепились и сначала махали кулаками бессистемно, а потом я вспомнил папины уроки, сосредоточился и, не обращая внимания на мелкие тычки, провел правый боковой, подхлестнув корпусом. Удар пришелся точно в нос, а результат поразил всех – и Сережку, и ребят, и меня. Из носа страшной струей хлынула кровь, мгновенно превратив его белую рубашку в красную. Дело было, конечно, не в сокрушительной силе моего удара, а в том, что попался «слабый нос», в котором относительно крупные сосуды располагаются близко к поверхности и достаточно хрупки… Сережка зашелся от рева, не знаю от чего больше – от боли или от страха. Ух, а я-то как испугался! Это ж я его, что там ни говори, что он первый полез.
Когда прибежали воспитательницы и после долгих усилий остановили кровь, они отправили меня в угол по-серьезному – минут на двадцать, а, главное, стращали, что все расскажут моим родителям… Я стоял в углу, и было мне очень муторно и от вида мною содеянного, и от мрачных предчувствий, что мне скажет вечером мама…
…А пришел папа. На инвективы воспитательниц он твердо ответил, что не сомневается, что его сын драку не затевал, а если дал кому сдачи, так это он, папа, меня этому учил и несет за это полную ответственность… А им, воспитательницам, хорошо бы получше следить за порядком во вверенном им подразделении. На том и расстались. Забавно, что с этого дня мы с Сережкой стали лучшими друзьями.
Когда на лето детсад вывезли на дачу по соседству с пионерским лагерем все тех же ВВС, наша подготовительная группа на птичьих правах, но все же протырилась на церемонию открытия смены. Там пионеры маршировали, салютовали, и в завершение, на сладкое, состоялся футбольный матч команд первого и второго отрядов в настоящей нарядной футбольной форме. Это было тогда повсеместно хорошим тоном: торжественная церемония, парад, а потом – футбол…
И уверенность в победе…
Олимпиады в Кортина-д’Ампеццо и Мельбурне – первые, о которых я сам помню отчетливо, хотя и не видел ничего, как и все советские люди. А жаль! Ведь количество и качество триумфов на них оказалось беспримерным – победы и хоккеистов, и футболистов в одном цикле случились потом только 32 года спустя – в Сеуле и Калгари, когда мы уже могли наслаждаться этим зрелищем в реальном времени. А тогда это еще и было форменной сказкой про Золушку – в общем-то совершенные новички на международной арене, да еще в таких уважаемых и конкурентных видах победили всех на свете. Так, по крайней мере, у нас говорили, писали и думали – я-то точно был уверен, что мы лучше всех! Это только потом оказалось, что на футбольный турнир Олимпиады главные силы мирового футбола не ездят, а на хоккейных турнирах играют канадские любители, а у них есть еще и профессионалы – с которыми, вроде как, в мире никто не может сравниться…
И все-таки я и сейчас не стану думать о тех победах уничижительно. Хоккей к моменту Олимпиады у нас развивался 9 лет! И пусть канадских профессионалов в Кортине не было, но всех остальных, в том числе тех, кто играл в эту игру еще с окончания Первой Мировой Войны, наши грохнули, а гения хоккея Всеволода Боброва признали специалисты всего мира. И даже канадцы поговаривали, что этот парень не пропал бы и в НХЛ, в которой тогда было всего 6 команд…
Раз уж пришлось к слову – попробую объяснить реалии того и последующего времени. Олимпийское движение, сформировавшееся в конце XIX века, опиралось на очень строгие представления о том, кто может в нем участвовать. Барон де Кубертэн, подозреваю, вследствие своего аристократического происхождения, чрезвычайно жестко и настойчиво проводил идею абсолютного бессеребреничества олимпийского спорта, что резко сокращало возможности участия в этих соревнованиях всяких парвеню и пролетариев, у которых просто не могло взяться денег на экипировку, тренировки и поездки. В историю вошло издевательство над американцем индейского происхождения Джимом Торпом, который на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме выиграл две золотые медали в пятиборье и десятиборье. Его этих наград лишили, когда всплыло, что Джим выступал в США за бейсбольную команду и получал за это небольшие деньги.
Вступление Советского Союза в олимпийскую семью эти аристократические правила моментально пустило псу под хвост. Спорт в СССР еще до Второй Мировой Войны был совершенно профессиональным в том плане, что ничем иным, кроме как своим видом, спортсмены высшего уровня не занимались, получали неплохие по советским меркам зарплаты и стипендии, и потому имели огромное преимущество перед зарубежными коллегами-любителями, которые вправду вынуждены были зарабатывать себе на жизнь, учебу и спорт. Оттого-то еще на Хельсинкской Олимпиаде удалось достичь сенсационных побед и сравняться с американцами по числу золотых медалей, а дальше – пошло-поехало, нагло отхватывая золото мировых спортивных форумов во все возрастающем объеме.…
Попытки вежливо указать советскому руководству на отчетливо профессиональный характер спорта в СССР было издевательски отражены заявлением, что у нас спортсмены – все работяги, студенты, солдаты и офицеры, а проверить это, при тогдашней закрытости советского общества, нечего было и мечтать. Смешно вообразить, как олимпийская комиссия приезжает на место службы капитана футбольной и хоккейной команды майора ВВС Боброва. Еще смешнее, если бы они приехали проверять спортсменов-динамовцев… И, вообще, наши сказали буржуям: – Слабо! И продолжили золотую олимпийскую жатву.
Терпеть такое долго серьезные державы не стали, и идиотские пуристические правила олимпийского движения были сначала ослаблены, а потом пущены побоку, в чем надо признать огромную заслугу советского и прочего социалистического спорта. Когда ограничения отменили, стали сказываться финансовые возможности стран Запада, но и огромную мощь, набранную социалистической системой спорта высших достижений никто устранить не смог… Между прочим, кое-что Европа с успехом у нас переняла, и вот уже сборные Германии и Франции по биатлону, включая женские, сплошь состоят из военнослужащих бундесвера и французской армии.
А пока выученики хоккея русского прекрасно адаптировались к хоккею канадскому и, помимо европейских конкурентов, прихлопнули и родоначальников этого вида спорта – в те буколические времена Родина хоккея брезговала формировать сборную хотя бы из любителей и посылала на мировые первенства и Олимпиады победителя Кубка Аллана – это был такой приз для канадских любительских команд, в тот раз – «Китченер-Ватерлоо Датчмэн». Вот их-то наши и переиграли и лично меня совершенно убедили, что мы – лучшие в мире.
Когда в Москве в 57-м на первенстве мира мы проиграли шведам, – это был шок. Да, в последних играх Бобров и Бабич не играли из-за травм, но не мог я поверить, что кто-то, вообще, может наших победить, я же был нормальный советский ребенок с комплексом превосходства и мессианства, всосанным с молоком матери и В-кефиром. Так этот швед Тумба-Юханссон[27 - Свен Юханссон сделал своей фамилией название родного городка Тумба. Выдающийся хоккеист, игрок и капитан сборной Швеции в 50-х – 60-х гг. ХХ века, победитель первенства мира 1957 года в Москве.]и остался где-то сбоку от внутренней модели мира.
К Олимпиаде в Мельбурне советcкий футбол обрел то, чего так остро не хватало в Хельсинки – международный опыт, оплаченный, в частности, жизнью команды ЦДСА. Выросло и новое поколение игроков, которое за невозможностью играть в красно-синем, почти целиком оказалось в красно-белом «Спартаке».
Пожалуй, такой гармоничной пятерки нападения я больше и не видел, потому что послевоенного расцвета армейцев не застал, а потом само понятие «пятерка нападающих» сгинуло под давлением идей бразильцев и итальянцев. Выделялись думающие яркие игроки в наиболее ценимом мной амплуа диспетчера – Сергей Сальников и Николай Дементьев, рядом с которыми действовали Татушин, Исаев, Симонян и Ильин. Стрельцову не нашлось места в составе на финальный матч! Сами олимпийские матчи мы увидели в кинокусочках много позже, а пока шли Игры слушали радиопередачи и переживали до слез, когда в полуфинале защитник Николай Тищенко сломал ключицу, а замены были запрещены, и он, превозмогая боль, добегал до финального свистка и даже отдал голевой пас на ворота болгар.
Помню чувство отчаянной несправедливости – невозможности заменить тяжело травмированного игрока – и до сих пор не понимаю, в чем был смысл таких садистских правил. И порядок награждения, при котором медали получали только участники финального матча, отдавал изрядным жлобством, и слава богу, что оба этих вывиха постепенно были исправлены, и даже задним числом многим отдали зажиленные в прошлом медали…
В финале наши обыграли югославов, показав, насколько изменились и они сами, и соотношение сил. И, несмотря на невысокий, в целом, уровень олимпийского турнира СССР заявил о себе как о полноценной футбольной державе. Между прочим, в основе той команды одним из немногих неспартаковцев был Башашкин, а в резерве – армейцы Беца, Беляев и Порхунов. Разинский же отыграл и один матч на Олимпиаде – переигровку с Индонезией в четвертьфинале 4:0 – это после удивительной ничьей с ними 0:0 – но травмировался и продолжить турнир не смог.
«Враги» и «друзья»
«Спартак», как уже говорилось, занял место лидера советского футбола, насильственно освобожденное от армейцев. И при всей моральной сомнительности такой «передачи власти» невозможно вменять это в вину именно коллективу, представлявшему московскую промкооперацию. Надо признать, что команда у них в середине 50-х сложилась блистательная, изобилующая яркими личностями во главе с многолетним капитаном клуба и сборной Игорем Нетто.
Я превосходство команды отца, конечно, переживал, но утешался тем, что армейцы в матчах со «Спартаком» играли сплошь и рядом на равных и почти каждый сезон что-то у красно-белых урывали. Вследствие папиных предпочтений на матчи «Спартака» я в детстве я неизбежно попадал чаще, и больше всего мне запомнились два выдающихся матча с кишинёвским «Буревестником». За Кишинёв[28 - Столица Молдавской ССР]тогда играли не столько молдаване, сколько москвичи – списанные из составов старики или молодые, не дотянувшиеся до основы. В первом из этих двух матчей, помнится, «Спартак» творил, что хотел – 9:2 сыграли. Спартаковская защита вообще заснула и за кишеневцами бегать ленилась. Мы с отцом в тот раз сидели на Западной трибуне и видели, как прямо на нас кишеневец убегает к воротам «Спартака», в которых стоял Владас Тучкус, но, притомившись от пробежки, бьет издалека и слабо, мячик кое-как долго-долго прыгает к воротам, а Тучкус медленно-медленно на него рушится – и пропускает под собой. На трибунах хохотали – Тучкус пеночник[29 - Вратарь, пропускающий «пенки» – легкие мячи по тогдашней терминологии]был, но в том матче это никого не волновало.
Когда кишеневцы снова приехали в Москву, отец, конечно, засобирался на стадион – получить гарантированное удовольствие. Началось с треском – за пятнадцать минут спартачи наколотили четыре штуки. Стадион ждал «продолжения банкета», папа потирал руки. А потом – бабах! «Молдоване» закатывают те же 4 штуки, причем творят, что хотят. Под конец они давили и только чудом не забили пятую, стадион, обозлившись на «Спартак», начал хлопать гостям[30 - Чуть ли не единственный в истории советского футбола случай, когда команда отыгралась от 0:4 да еще на чужом поле.]. Отец свистел в два пальца так, что я чуть не оглох. Ужасно я этому умению завидовал, а он делал это виртуозно даже в немалые уже года. Я тогда тихо порадовался – больно уж «спартачи» воображали, какие они непобедимые.
Динамики всегда мне были поскучнее, но командочка у них была неслабая, с очень могучей обороной во главе с великолепным Яшиным и классными беками – Борисом Кузнецовым, Крижевским и Кесаревым, и почему-то было ощущение, что нам с ними тяжелее, чем со «Спартаком». Я не застал периода становления Яшина как первого вратаря «Динамо» и страны, которое, по рассказам, проходило не гладко – с голом, пропущенным от вратаря соперника с другой половины поля. На моей памяти он уже был непререкаемым авторитетом, хотя играл совсем не так красиво, как наш Борис Разинский. Однако ж хватило у меня ума или вкуса понять, что Лев – вратарь от бога. Раз, два и десять в опаснейших ситуациях мяч просто прилетал к нему в руки, и я понял, что случайностью это быть не может – выбор позиции и предвидение у Яшина, действительно, были невероятные. Как раз выходы его из ворот, о которых столько пишут, что это было новаторство, так не запомнились. Наверное, я просто воспринимал это как естественную для вратаря обязанность – потому что видел ее с детства.
Лев Иванович, однако, не был только «аккуратистом» в воротах, который берет все положенное, он был способен вытащить и «неположенное». В Риме он взял пенальти от Маццолы, в «матче столетия» в 63-м на «Уэмбли» первый тайм он отыграл гениально – единственный юбилейный матч, в котором никто ничего не расписывал, а бились насмерть. В шутку так по воротам не бьют, и в шутку так не пластаются, как тогда Яшин. Пару ударов он отразил исключительно по великому своему мастерству, хотя против него играло уже большинство тех, кто через три года взял Нику.[31 - В то время Кубок Жюля Римэ – приз победителю первенства мира по футболу – представлял собой золотую фигуру богини победы Ники]Гривс бил метров с пяти – там могла спасти только сумасшедшая реакция! А ведь Льва Иваныча тогда уже в сборную СССР не брали после скандального ляпа в Чили, когда он запустил метров с 35-ти, и, вообще, прозрачно намекали, что пора на пенсию.
В 50-е вдруг на первые роли стало выходить «Торпедо», которое до того в Москве было безоговорочно четвертым. Конечно, это было связано с появлением Стрельцова, который произвел фурор. Вся игра торпедовцев была сориентирована на него. Это было понятно даже по радиорепортажам Синявского – как только мяч оказывался у кого-нибудь из «Торпедо», буквально через мгновение звучала фамилия Стрельцова. Он тогда был совсем молодым, жадным до мяча, и забивал, забивал. Что-то я не припомню его в то время как мастера паса. Он быстро и в сборной заиграл, конкурируя с Симоняном из «Спартака», стал олимпийским чемпионом Мельбурна, но медали не получил, потому что не участвовал в финальном матче.
А перед первенством мира 58-го разразилась катастрофа. Игроки сборной ударно повеселились на чьей-то даче, да так, что Огонькова и Татушина из «Спартака» дисквалифицировали на год, а Стрельцова арестовали. Что там было на самом деле, хотя уже целые книги про это написаны, доподлинно неизвестно, но предъявили ему очень нехорошую статью – изнасилование. Тогда я не очень представлял себе, что это такое, помню лишь, что все болельщики Эдику сочувствовали, говорили, что он из всей веселившейся компании был самым молодым и наговорил следствию лишнего, когда у старших товарищей хватило ума помалкивать. Ходили разные слухи о причинах сверхжесткой реакции власти на этот случай, и наиболее вероятным кажется, что Стрельцов «попал под кампанию» – периодически властям предержащим приходило в голову, что спортсмены слишком много себе позволяют, и надо дать им острастку.[32 - Нынче очень похожая история разыгралась с Кокориным и Мамаевым, попавшимися на «хулиганке» в отношении чиновника. И вот совершенно очевидное дело, в котором и видеозаписи есть, и масса свидетелей, рассматривалось целой толпой следователей полгода, а подследственные покуда сидели в тюрьме, где условия хуже, чем в колонии. Видно, «кое-кто» решил так наказать футболистов во внесудебном порядке, но админресурс у газпромовских воротил оказался ладе потолще, «кудесники футбольного мяча» получили сроки по минимуму.]
Хотя у тогдашних уголовников статья, которую получил Эдик, пользовалась очень дурной репутацией, но все же Стрельца в колониях не обижали, а друзья и болельщики не оставили и добились серьезного сокращения срока. Когда он вернулся через пять лет, играть за команду мастеров ему не разрешили, зато резко возросла посещаемость второй мужской команды «Торпедо», игравшей на первенство Москвы. Вторые команды – это был полный отстой, лучшие мужики и растущие организмы играли в первых. Но Стрельцова, полысевшего да погрузневшего, отправили именно во вторую…
На мастеров его выпустили только через два года, и вот тут он всем показал. Скорость уже было не вернуть, а какой талант в нем – все увидели. И результативность он восстановил и впоследствии добрался до Клуба Григория Федотова, однако ж какие пасы он стал раздавать! Именно у него я впервые увидел нацеленный и своевременный пас пяткой. И ведь неплохие игроки – Валентин Иванов, потом Гершкович – рядом с ним были и в клубе, и в сборной, да только они и половины того, что Стрелец задумывал не понимали. Эдик, бывало, руками всплеснет и все с начала начинает.
Пятое колесо в московской телеге – паровозы. Сколько раз они вылетали-влетали в класс «А» и не упомню. А ведь игрочки у них бывали и неплохие: Маслаченко, одно время второй номер в стране после Яшина, игрок сборной, перешедший потом к нам Валентин Бубукин по кличке «Патлатый», поскольку смолоду носил ту же прическу, что и в старости – здоровенную лысину, Виктор Ворошилов, Виталий Артемьев. И ведомство железнодорожное всегда было небедным, и тренировал их в конце 50-х Аркадьев, а все чего-то им не хватало.
«Крылья», известные своей системой «волжская защепка», играли после войны в особенный футбол: у всех нормальных команд было пять нападающих, а у куйбышевцев – то два, то один. По правде сказать, про этот по тем временам супероборонительный вариант я знаю только по рассказам отца и других старых болельщиков, но мы с ними всегда с трудом играли. А сам я застал уже куда более агрессивное построение игры волжан, когда там играли Казаковы – А. и Б. И не могу сказать, что уж какой-то толпой они защищались. Просто ярлык пережил ту команду.
Страна была больше, а команд в «высшем обществе» было меньше, и четверть его представляла ныне сопредельные государства, о чем в те времена помыслить было невозможно. Тбилисцы выделялись техникой, играли в остроатакующей манере, их всегда было интересно смотреть. В центре атаки у них был очень результативный Автандил Гогоберидзе, я лет до пяти думал, что «Автандил» – это "автомобиль по-грузински. На левом краю блистал великолепный Михаил Месхи, технарь, настоящий крайний. Конечно, при нынешних схемах именно такой специализации уже нет, а я по ним тоскую – с ними было веселее.
Совсем не слабой у них была и защита – Борис Сичинава, Гиви Чохели и Шота Яманидзе входили в сборную. Вратарь Сергей Котрикадзе играл акробатически, эффектно, но и нестабильно. Очень долго тбилисцы держались близко к призовой тройке, но высших достижений добились значительно позже, обыграв «Торпедо» в первом советском «золотом матче». Благодатный для футбола край исправно рождал интересных игроков – поколение за поколением, а вот в последние десятилетия поток как-то усох – не столько, может быть, количественно, сколько качественно. Похоже, с распадом СССР исчезновение конкуренции сильно ударило по тбилисскому «Динамо» и грузинскому футболу в целом.
Другие динамовцы – из столицы Украины – в те годы не выделялись на общем фоне.
С Киевом, кстати, у меня связано пренеприятное воспоминание. В 56-м году я был в очередной раз сослан к бабке и деду в Киев, где у меня была масса сложностей на почве моей худобы. Бабушка с ее железной волей категорически желала выполнить плановое задание и довести вес внука до такого уровня, чтобы было не стыдно показать родственникам. Она только не учитывала, что по наследству передаются не только цвет глаз и черты лица, но и особенности характера. Мне с бабкой тягаться, конечно, было нелегко, но как-то раз я провел за столом четыре часа, сжав зубы и не желая нипочем есть особенно мерзкую гадость – молочный суп с шелковицей. Нервной энергии на сопротивление ушло явно больше, чем могла бы дать эта пища…
Из того времени я вынес урок, которому следовал в своей жизни неукоснительно: никогда не кормить насильно своих детей – пользы от этого всегда меньше, чем вреда. Коллеги! Берегите нервы – и свои собственные, и ваших потомков. Нормальный здоровый ребенок голодом себя никогда не уморит, а нервной анорексии у маленьких не бывает – эта патология случается в пубертатном периоде, чаще у девочек. Сохраняйте спокойствие и выдержку: придет время – чадо само запросит поесть!
Мои войны с киевской бабкой на почве кормежки несколькими годами спустя получили, как я теперь понимаю, несколько историко-анекдотическое завершение. Продолжая с возрастом все более успешно отражать натиск старшего поколения, я вдруг сказал как-то бабке с дедом, что, пожалуй, съел бы сала с черным хлебом. Где-то я его увидел, и оно мне показалось страшно аппетитным – с кристаллами соли на шкурке. Не знаю доподлинно, какие чувства боролись внутри деда, но он отправился на базар и принес брусок сала, которое я с удовольствием слопал – оно оказалось таким же вкусным, каким казалось на вид. Наша семья совершенно не религиозна, а вот что себе думал дед, который в детстве, как всякий порядочный тогдашний еврейский мальчик, закончил хедер[33 - Хедер – школа для еврейских мальчиков, которая обеспечивала и религиозное образование, и сохранение в богослужебном виде древнееврейского языка, который впоследствии стал основой для современного иврита.], – мне неизвестно, но старый еврей, идущий на базар за салом для внука, – это, конечно, исторический анекдот.
И вот в городе Киеве, который навсегда остался в моей памяти как место первого успешного Резистанса взрослым, один из дядьев, которые в те времена водилось там во множестве, взял меня на тамошний стадион «Динамо» на матч киевлян с ЦДСА. Это одно из самых тошных воспоминаний в моей жизни – полный стадион, и все, как один, – враги. В разговорах вокруг были слышны отчетливые нотки страха перед нами, отголоски прежних времен. Даже когда Киев забил нам первый гол, прошел гомон: «Ну, сейчас начнется квитка!» А наши давили, но никак забить не могли. А потом мы еще и второй пропустили. Трудно вспомнить большую обиду: все – против меня, а я – проиграл. Можно считать, что таким был мой первый «выезд на матч»…
У армейцев к Киеву особый счет издревле. Это там за один матч, за какие-то 10 минут изувечили и Боброва, и Григория Федотова, которые до конца так от этих страшных травм и не оправились. Махиня с Лерманом постарались…
Тогда же, в 56-м, в класс «А» вышла команда свердловского ОДО, которым я стал симпатизировать – армейцы! Они заняли последнее место, но храбро сражались и вернулись в класс «Б» «на щите». Чуть ли не единственный случай в истории советского футбола, когда лучший бомбардир первенства – Василий Бузунов – играл в команде, вылетевшей из лиги. Василий перешел в Свердловск от нас, а на следующий год к нам и вернулся, снова стал лучшим бомбардиром в основном за счет пушечного удара, а потом как-то быстро исчез. Помимо него у свердловчан и защита была совсем неплоха, и мы ее практически всю оприходовали, а ОДО вскоре почил в бозе.
Еще несколькими годами позже в класс «А» пробился ростовский СКВО. Это мне, конечно, тоже очень понравилось, но ростовчане оказались людьми слишком серьезными, и любить их заодно со своими не получалось. Бог знает, какими судьбами в глубинах второго эшелона образовалась команда, которая сразу стала драть всех направо и налево, причем укомплектована была просто блестяще. Виктора Понедельника взяли в сборную еще из класса «Б» – действительно, одного из талантливейших советских центрфорвардов на моей памяти. Мощный, с хорошим ударом, с игрой головой, все при нем, забивал много и красиво. Левый крайний Мосалев составлял хорошую компанию Понедельнику и быстро заслужил прозвище «Вторник». Неплохие вратари, защита прочная, из которой Гетманов и в сборные попадал, и вся команда играла весело и комбинационно. Их правый край – Владимир Стрешний – атлетичный и скоростной – был единственным, кого нам удалось из Ростова выцепить за долгий период. Как-то ростовчане к нам неохотно шли – Понедельника дважды тащили в ЦСКА на аркане, уже и приказ Министра Обороны выходил, и в газете пропечатывали, а он – ни в какую! Так у нас и не играл.
Еще позже, когда сошло первое поколение ростовских армейцев, появилась новая генерация – с отличным нападением – Матвеев, Буров, Еськов, Копаев (тогда уже стали играть 4–2–4). Еськов относился к категории, в отношении к которой мы совершенно расходимся с Валерием Георгиевичем Газзаевым – он был диспетчером, и довольно качественным. Олег Копаев стал в тогдашнем СКА главным забивалой. А ведь пробовали его в ЦСКА, но «не показался»…
Открыт закрытый «порт пяти морей»
Размеренное течение сезона все чаще стало прерываться сверхпрограммными удовольствиями – приездами иностранцев. Иностранцы и сами по себе были редкостью, а уж футбольные команды… Тогда за человеком в импортном плаще, да еще, не дай бог, в шляпе, вполне могла увязаться орава пацанов, вопящих: – Шпион! Шпион! Как раз начиналась эпоха «стиляг», и импортные шмотки приносили им не только кайф.
Весной того же 56-го года в обстановке отчаянного ажиотажа прошли матчи с венграми. На самом деле, тогда это была команда мирового класса, едва не ставшая чемпионом мира и ставшая олимпийским. В воротах у них стоял Грошич, но что-то не впечатлил. А вот Пушкаш, действительно, был великолепен и делал на своем краю, что хотел. При всем том, и наши, и венгры выиграли по матчу, и силы команд выглядели вполне сопоставимыми. Очень вскоре в Венгрии разразилось восстание, подавленное Советским Союзом вооруженной силой[34 - про Пушкаша прополз слух, де погиб в бою, а он через несколько месяцев вынырнул на Западе и стал играть за «Реал» и Испанию.], и потом венгры на долгие годы стали для нас любимой боксерской грушей – в какой бы форме они ни были, нам они сливали исправно. Только раз в 68-м мы им уступили в Будапеште, но разгромили в Москве, и мы с отцом болели на трибуне Лужников.
Наконец, чтобы охарактеризовать силу тогдашнего советского футбола стоит вспомнить то, что нынче кажется невероятным. Еще в 55-м в Москву заявились западные немцы – они тогда приехали в Москву в первый раз. Их еще и не знали, как писать-то правильно, поэтому на афишах было «ГФР»[35 - вместо ФРГ]. Я в свои тогдашние пять лет сначала вообще не понял, как с этими немцами можно играть! Так у меня в голове было: восточные – наши, а западные – фашисты[36 - Это проходило довольно долго и излечилось лишь после опыта личного общения с немцами.]. Кто же знал-то, что они чемпионы мира! Не уверен, что я тогда что-нибудь про это слышал и только лет в десять разобрался в иерархии мировых футбольных турниров. Игра с немцами запомнилась непрерывным занудливым дождем. Мы выиграли 3:2, но, как, собственно, могло быть иначе?!
А все в том же 56-м сборная СССР снова победила ФРГ, но уже на их поле! Больше такого с нами не случалось… Так что у меня были основания для уверенности в том, что мы сильнее всех. Наверное, это и вправду был период наивысшего футбольного могущества СССР, которое, трудно поверить, опиралось на безусловное превосходство в физической подготовке и скорости. Советские команды и потом побеждали посетившую Москву бразильскую «Васко да Гама», и англичан, и довольно долго красовались в звании чемпионов мира по товарищеским играм.
На 56-й год пришлось и еще одно событие – I Спартакиада народов СССР. Мы всей семьей ходили на «Динамо» на шикарный спортивный парад открытия.
Тогда в последний раз самостоятельно выступала только что упраздненная Карело-Финская республика – ее влили в РСФСР под названием Карельской. Шутили, что одну из шестнадцати позолоченных баб, окружающих фонтан «Дружба народов» на ВДНХ, теперь следовало бы посеребрить. Так тогда решали вопросы претензионных названий республик, и вслед за Карело-Финской не стало и Бурят-Монгольской автономной, превратившейся в просто Бурятскую.
Оказывается, за карело-финнов в баскетбол играл поэт Роберт Рождественский. Он сам потом вспоминал, как пытался бороться с игравшим за Казахстан выселенным туда из Чечни Увайсом Ахтаевым, в котором росту было 2 метра 35 сантиметров – на пару голов выше, чем будущий поэт. Ничего не придумав, Рождественский повадился наступать Ахтаеву на ноги в момент прыжка, пока тот не наклонился к нему, согнувшись в три погибели, и сказал: – Не наступай мне на ноги, а то я на тебя наступлю… Поэт писал, что после этого он усовестился, но я бы его понял, и если бы он просто испугался… На баскетбольных кортах «Динамо» у Западной трибуны я сам случайно оказался рядом с Ахтаевым. Мне тогда было шесть лет, так что в памяти осталось колено и что-то широченное, уходящее далеко в облака.
На том параде я впервые увидел флаги спортклубов. С «Динамо», «Спартаком», «Торпедо» и «Урожаем» все было понятно – те, кто придумывали их дизайн, особо не надрывали мозговую мышцу и просто ставили в центр соответствующую литеру. Много лет спустя, заинтересовавшись геральдикой, я узнал, что это считается дурным тоном – литеру в герб или флаг ставят, когда не хватает фантазии придумать яркий графический образ или когда сказать о субъекте герба или флага нечего. У «Локомотива» уж совсем непонятно зачем тоже была всажена литера, хотя из ее пролета выглядывала морда паровоза, и, вроде, все должно было быть ясно и так. Красный флаг с синим треугольником и звездой у древка, конечно, был самым красивым и правильным.
Довольно симпатичная эмблема была у «Буревестника» – галочка, символизирующая одноименную птичку. Кстати, именно гимнастки «Буревестника» были гвоздем программы открытия Спартакиады на стадионе «Динамо». Они построили пирамиду – все в синих купальниках, а потом из середины наверху вдруг вылезает гимнастка – вся в желтом. Потрясно! Стадион стонал.
Из соревнований, виденных мной на Спартакиаде, остался в памяти забег на 10000 метров – я впервые вживую увидел бег олимпийского чемпиона Владимира Куца. Это имя тогда воспринималось мной как синоним понятия «советский легкоатлет – победитель». Он убежал от всех сразу и далеко, никто не смог ни поймать рывок, ни достать его потом, многих он обошел на круг, финишировал, перешел на шаг и оказался совсем рядом с тем местом, где сидели мы, и я увидел его вблизи. Никакого восторга, никаких победных жестов, его лицо показалось мне огорченным, а, может быть, просто усталым. А я радовался – армеец!
Тогда и потом, когда стал бегать Болотников, я был уверен, что длинные дистанции – коронный вид советских бегунов на века. Кто ж из нынешних болельщиков в это теперь поверит?
Однако, самое главное для меня было в том, что после парада открытия Спартакиады, гимнастических упражнений и бега был футбол. Правда, в тот раз это были первые клубные команды «Спартака» и «Динамо», игравшие на первенство Москвы, но я тогда готов был любой смотреть. Помню, что гол забил спартаковец Булочкин. Тогда каждый спортивный праздник завершался футболом!
С той Спартакиадой связан апокриф, который мне рассказали уже лет через десять после нее. Якобы именно тогда в Советском Союзе впервые попробовали допинг – незадолго до этих соревнований втихаря привезли несколько упаковок одного из синтетических амфетаминов, которые, вероятно, продолжили линию разработок стимуляторов для немецкой армии. Допингу сразу нашли применение – в стране рекорд в гладком беге на 1500 метров держался уже 16 лет, вот средневикам и выдали препарат. Беда была в том, что никаких сопроводительных документов не было, и дозировку определяли по принципу «кашу маслом не испортишь»…
Дали старт, и «воодушевленные» спортсмены припустили по дистанции. Взятый ими темп восхитил тренерскую биржу – первый круг был пройден с большим опережением рекордного графика, где-то вблизи от рекорда Европы. Второй круг принес еще более высокий результат, на третьем круге темп, вопреки опасениям, не спал, руководство потирало руки в ожидании феноменального рекорда…
Заканчивался третий круг, как вдруг лидер, добежав до финишной линии, после которой оставалось только четыреста метров дистанции, словно споткнулся о нее… развернулся и припустил в противоположном направлении, увлекая за собой остальных… Шок! Тренеры бросились к своим подопечным, пытаясь их вразумить и «вернуть на пусть истинный», но те их, похоже, были просто не в состоянии услышать и понять. После ожесточенной борьбы удалось бегунов переловить и сдернуть с дорожки, по которой они порывались продолжить свое движение по часовой… Рекорд на 1500 метров простоял еще долго, а результаты эксперимента так впечатлили руководство, что работы по допингу в советском спорте были надолго приостановлены.
А в 79-м перед московской Олимпиадой моя незадолго до того закончившая институт и совершенно равнодушная к спорту жена, работая в инфизкульте, решала важную задачу: выяснить, когда надо прекращать прием препаратов, чтобы они не могли быть обнаружены средствами антидопингового контроля. Характерно, что во всех отношениях ручные власти ГДР[37 - Германская Демократическая Республика – ныне не существующее социалистическое государство, образованное в 1949 году на территории советской зоны оккупации. Сателлит СССР. В 1990 году ГДР объединилась с ФРГ.] тут своими достижениями делиться не пожелали, хотя было доподлинно известно, что допинги всех видов у них в большом ходу.
Тогда поговаривали, что неприезд американцев и ослабление антидопингового контроля сильно развязали нашим руки, и урожай золотых медалей оказался даже неприлично большим.
Лужники
К Спартакиаде в том же 56-м подоспело и открытие Лужников. Мы всей семьей с друзьями оказались там на матче «Спартака» и «Торпедо». Опять «Спартак»! Но я приговорен был в детстве оказываться на его матчах куда чаще, чем на играх армейцев – отец-то хотел смотреть своих, может и меня рассчитывал распропагандировать. Но папа тогда еще не знал, какое могучее чувство противоречия я унаследовал у своих предков: я тогда за «Торпедо» стал болеть, и они выиграли 2:1! По случаю открытия стадион был переполнен, таким я видел его в своей жизни считанное количество раз, а потом часто возникало ощущение, что стадион в Лужниках пуст, хотя народу, может быть, было не меньше, чем на «Динамо». Гол у торпедовцев тогда забил Юрий Фалин, которого «Спартак» на следующий год к себе перетащило. Вообще, и тогда, и потом я примечал, что проигравшие норовят залучить к себе того игрока, который им больше всего насолил.
Сама Лужа тогда произвела на меня даже большее впечатление, чем футбол. Я ведь до того видел только московский да киевский стадионы «Динамо», и Лужа после них подавляла своими размерами. Мы сидели на Севере под самым козырьком (козырек тогда тоже был новинкой!). Поле оказалось очень далеко, я думал, что в этом величественность, и только потом, когда стал взрослым, понял, что стадион дурацкий, нефутбольный и неудобный. А уже вскоре пошли разговоры – да, стадион у нас великий, только газон хреновый – ни в какое сравнение с «Динамо» не идет. Так это проклятье над Лужей и тяготело долгие годы. Надо признать, что обновление к ЧМ-2018 сильно пошло стадиону на пользу с точки зрения удобства для болельщиков, посмотрим, сколько новый газон там продержится…
Лужниковский комплекс при всех его недостатках стал местом, где произошло множество выдающихся событий, о которых речь пойдет дальше, и далеко не только футбольные. Лужа – это и первый бассейн в Москве с большими трибунами, и первый приличный ледовый дворец. Помню, как, попав туда в первый раз зимой с опытом боления на трибуне Динамо в зимнем пальто и валенках, страшно удивился, что там надо раздеваться в гардеробе. Но и разочарование запомнилось – родители достали мне туда билет на новогоднюю елку, я смотрел на это представление, смотрел, а сам внутри себя ждал, когда же они кончат валять дурака со своими бабами-ягами и начнется нормальный хоккей…
Большая спортарена Лужников – это же впоследствии и Спартакиады народов СССР, в одной из которых принимал участие и я, и Олимпиада-80, а еще до того, такие своеобразные соревнования, как ныне давно позабытые легкоатлетические матчи СССР – США, и некоторые из них серьезно врезались в память. Эти матчи – плод, как мне думается, «любви-ненависти» между этими странами, которые терпели друг друга с трудом, но и жить друг без друга не могли, сверяя свои шаги с поведением конкурента. Они проводились по всей олимпийской легкоатлетической программе – только американцы и наши, по два участника от страны в каждом виде, и стали некоторой сублимацией вражды, позволявшей стравить взаимную напряженность без применения оружия массового поражения. Страсти там кипели отчаянные, и в историю вошел кошмарный забег на 10000 метров в первом матче, проходившем в Штатах в 1959-м. Телетрансляций из-за океана еще не было, и то, что там случилось, мы увидели в кинохронике примерно через полгода.
Забег проходил при температуре за 30 градусов и высокой влажности. Говорят, с трибун то и дело оттаскивали зрителей, получивших тепловые удары. На дорожке все обстояло еще хуже – сначала на второй половине дистанции одного из американцев стало мотать из стороны в сторону, он упал, попытался встать и упал снова. Американские судьи поначалу пытались не подпустить к нему врачей, потому что надеялись, что он, может быть, встанет и доберется для финиша – так были нужны очки. Второй американец, выбрал такой темп, чтобы не умереть, и добился своего, финишировав третьим. Наш Хуберт Пярнакиви последние круги бежал практически без сознания какими-то судорожными прыжками, высоко вздергивая колени, мотаясь поперек четырех беговых дорожек – на эти кинокадры невозможно смотреть без слез, за финишной чертой он просто упал на руки своего товарища по команде, а потом долго лежал в госпитале с чудовищным перегревом и обезвоживанием. А победитель забега Десятчиков – единственный, кто бежал, не экономя сил, не упал, выглядел нормально, и понять это невозможно – какой-то фантастический организм. Да, а почему собственно было такое смертоубийство: это был один из последних видов, и тот, кто выигрывал его, – выигрывал матч. Тогда, в 59-м, все было настолько серьезно, что люди были готовы жизнь отдать. Ну, мы, само собой, победили. Посмотрите, у кого нервы крепкие.[38 - http://www.youtube.com/watch?v=VHcBgEiuIrY]
А лужниковские матчи СССР – США остались в моей памяти «вечером Брумеля» в 1963-м. Когда уже заканчивалась программа дня, в секторе для прыжков в высоту остался только он – в то время уже рекордсмен мира, уже победив и своего напарника и обоих американцев – прыгал просто от ощущения собственного всесилия. Он брал играючи одну высоту за другой и добрался до нового рекорда мира – 228 см. Трибуны замерли, а он взлетел – и взял, и было чувство, что и это – не предел. Уже совсем стемнело, и Брумель просто умаялся прыгать, а тогда казалось – он и 230 возьмет… Это был один из последних рекордов мира, добытый «перекидным» стилем. Вскоре вошел в моду фосбюри-флоп, и прыгать стали спиной вперед на высокий мат из поролона, а не как раньше – в яму с песком.
Этот рекорд в Лужниках был пиком карьеры Брумеля, которая вскоре фактически оборвалась аварией на мотоцикле. Многие операции в Институте травматологии и ортопедии ни к чему не привели, пока кто-то не посоветовал Валерию поехать в Курган к неизвестному тогда доктору Илизарову. С помощью изобретенного тем аппарата фиксации костных фрагментов удалось добиться практического выздоровления, во всяком случае, достаточного, чтобы после возобновления тренировок Брумель прыгнул на 209, что для нормального человека немыслимо, а для рекордсмена мира оказалось слишком мало, но все равно было подвигом.
Впоследствии о Гаврииле Абрамовиче Илизарове и, в частности, его операции Брумелю, был снят художественный фильм, но там кучерявого носатого еврея переделали в гладко причесанную Ию Саввину. Говорят, все это произошло не без интриг испытывавшего к Илизарову лютую ненависть ЦИТО[39 - Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова. Говорят, имя Илизарова там нельзя произносить вслух до сих пор.]. Деятели этой конторы даже вошли в историю немыслимым в СССР кощунством: описывая аппарат Илизарова, они фактически отказались от советского приоритета, сославшись на австрийскую работу, которая сама цитировала курганского врача как первоисточник. «Цитошники» постоянно блокировали избрание Илизарова в Академию Медицинских Наук. В пику им в начале перестройки Академия Наук СССР избрала Гавриила Абрамовича в свои члены. Метод Илизарова используется и по сей день во многих странах мира и представляет собой редкий случай советского невоенного открытия, приоритет которого неоспорим всеми, кроме ЦИТО, и которое оказалось полезно всем.
А закончился 1956-й год просто замечательно – на экраны вышла первая кинокартина Эльдара Рязанова – «Карнавальная ночь». После всяких «Подвигов разведчика» и «Джульбарсов» – живая, человеческая и ужасно смешная комедия всех развеселила и оказалась одной из первых ласточек новых веяний в советском искусстве. Да, конечно, начальник, над которым смеялась вся страна, был всего лишь директором дома культуры и играл-то его все тот же Ильинский, который в таких ролях стал известен еще до войны, но все же эпоха смертельной серьезности в послевоенном советском кинематографе подалась немного.
Единственный вред от картины – это повальное голодание женского населения державы в погоне за недостижимым идеалом – затянутой в талии до 42 сантиметров умопомрачительной Людмилой Гурченко, которая на некоторое время стала советской Мэрилин Монро, о которой мы тогда, впрочем, тоже ничего не знали.
События, менявшие жизнь всей страны и отдельных ее граждан, шли косяком. И снова происходившее в стране тесно переплелось с событиями в нашей семье. Громовой сенсацией стала книга Сергея Смирнова о героях Брестской крепости. До того, как бы подразумевалось, что в 41-м войска на границе, несмотря на «внезапность вероломного нападения», героически сражались, с боями отошли вглубь страны, тут любили приводить аналогию с войной 1812-го года, а потом перешли в победоносное контрнаступление. Ну, да, конечно, кто-то погибал, вечная им память…
А тут вдруг открылось, что бойцы и командиры в пограничной Брестской крепости отчаянно сражались, ждали контрудара Красной Армии, не дождались и были убиты или попали в плен. Особенно я сочувствовал герою книги Пете Клыпе – воспитаннику одной из частей крепости. И вот тут оказалось – Смирнов об этом написал первым, – что к тяжкой военной доле и немецкому плену уцелевшим в тех боях добавилось несчастье, уже когда они вернулись на Родину, – все они оказались в советских тюрьмах и лагерях как изменники…
А чуть ли не синхронно у нас появился новый родственник – старшая сестра моего отца вышла замуж за человека с удивительной судьбой. Мой новый дядя Миша во время войны попал в плен. В бою на нем сгорело и обмундирование, и документы, поэтому при первичной сортировке гитлеровцы его как еврея не убили сразу. Вместе с ним в плен попали люди, которые его знали лично, но не выдали, хотя за донесение полагалось поощрение, а за недонесение – расстрел.
Дяде Мише относительно повезло, потому что он попал не в лагерь уничтожения, а в обычный лагерь военнопленных в Северной Франции, где их просто морили голодом и заставляли работать. И его товарищи все время плена загораживали его от немцев, когда их гоняли в баню.
После Победы освободившие лагерь американцы очень зазывали его, способного инженера, к себе, обещали хорошую работу… но дядя Миша хотел вернуться к своей семье, еще не зная, что все убиты. В 46-м он репатриировался и… оказался в колымских лагерях. На десять лет…
Когда мы с ним как-то заговорили об этом, он сказал, что в наших лагерях было страшнее. И объяснил, что любимым развлечением охранников было ночью вломиться в барак и подать команду: – Вылетай без последнего! Зэки должны были «на скорость» выбежать из барака на 50-ти градусный мороз. Последнего вертухаи забивали до смерти.
Несокрушимого здоровья дяди хватило, однако, и на это, и на то, чтобы после освобождения успешно работать, эмигрировать в конце 70-х в Израиль, а спустя несколько лет – перебраться в Америку. Американцы, в конце концов, таки заполучили его к себе!
Не меньшее впечатление произвело на меня и другое случившееся об это время событие. Вдруг в герметизированном государстве, не имевшем представления о внешнем мире за последние десять лет и уже подзабывшем виденное в войну, провели Фестиваль молодежи и студентов. Не знаю, хорошо ли подумали идеологи КПСС над последствиями этой акции, но, с другой стороны, существовать в такой жесткой изоляции, как при Сталине, страна уже не могла. И стали у нас твориться удивительные вещи: сначала понемножку на улицах и скверах стали попадаться иностранцы. Я сам на детской площадке Патриарших прудов столкнулся с мальчиком, хорошо говорившим по-русски, и его папой, который по-русски – ни бум-бум, загодя приехавшими на Фестиваль откуда-то из Латинской Америки. У метро Сокол мы встретили негра – первого в моей жизни и, видимо, не только в моей – за ним перла немаленькая толпа, разглядывая его, как прогуливающегося по улицам Москвы жирафа. Я тоже разинул рот от удивления, но мама велела мне его захлопнуть…
Мы тогда вообще очень много чего не знали и не ведали. Вот в 54-м родители сняли дачу в Малаховке и вывезли меня туда на все лето. Родители мои имели массу друзей, которые и в нашу 8-метровку набивались по всяким поводам, а уж на дачу-то, где было раздолье, заявлялись каждый выходной[40 - тогда воскресенье было единственным выходным днем, в 56-м ввели укороченный на 2 часа рабочий день в субботу. Полностью выходной суббота стала только в 67-м.]. Дополнительной приманкой стало то, что отец купил лист сухой штукатурки и сделал из него стол для входившего в моду завезенного советскими специалистами из Китая пинг-понга. И вот как-то в воскресенье к нам завалилась компания папиных сослуживцев, один из которых привез американские конфеты! Я вообще впервые в жизни видел что-то «американское»! Все расхватали восьмиугольные конфетки, похожие на леденцы, а мне как самому маленькому досталось больше всех.
Как же мне потом худо было, да и остальным тоже… Ну, кто ж знал, что это не конфеты, а жевательная резинка, и ее нельзя глотать!
А летом 57-го Москва активно стала наводить праздничный марафет, обмоталась приветственными плакатами и обвешалась флагами неведомых стран, но в вечер перед открытием Фестиваля как будто дух Вождя свалился на Москву с небес невиданным ураганом, который все городские украшения посрывал. Всю ночь поднятые по тревоге городские службы вертелись, как ужаленные, стараясь восстановить поломанную красоту, и нечеловеческими усилиями привели главные улицы в праздничный вид. Так что мировая молодежь и студенты, которых наутро провезли по улице Горького в грузовиках, увидели все положенные украшения и по-настоящему радостные толпы встречающих их москвичей. А, самое главное – их увидели счастливые от такой необыкновенной возможности москвичи!
Все время фестиваля – это был какой-то грандиозный «загул де рюсс», когда гостей растаскивали по домам, и туда сбегались все соседи. Пили, поили, пытались объясняться на пальцах и неведомых языках и получали прививку от страхов, от настоящей ксенофобии, которую у нас насаждали десятилетиями. Совсем, как нынче… После фестиваля, по крайней мере москвичам, уже невозможно было врать про заграницу, все, что в голову взбредет, – люди повидали иностранцев, пообщались, выпили с ними, и теперь совершенно иначе смотрели на мир, простиравшийся за линией границы, охраняемой сержантами Карацупами с их Индусами[41 - советский пограничник и его пес, имена которых стали в Советском Союзе в этом качестве нарицательными].
Ко всем этим праздничным событиям сгодился и новенький стадион Лужники, потому что одновременно с Фестивалем проводились и III Международные игры молодёжи. Само собой, мы там всех победили, потому что серьезные команды приехали только из социалистических стран. И все же – это были первые большие комплексные международные спортивные соревнования, прошедшие в СССР.