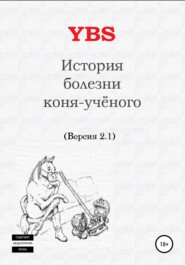скачать книгу бесплатно
С этими концертами связан еще один из когнитивных диссонансов, преследовавших меня всю жизнь. К праздникам в большом зале БПК над сценой вешали праздничный плакат: «Да здравствует такая-то годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции!» На моей памяти самая ранняя такая надпись желала здоровья 36-й годовщине. Я по детской наивности попытался осмыслить этот лозунг и оказался в тупике: ясно же, что независимо от пожеланий годовщине, она все равно назавтра скончается в 0 часов 0 минут. Наверное, хотели сказать, что очень рады, что этот праздник наступил, но написали – бессмыслицу…
Однако сами праздники меня очень радовали, потому что, во-первых, в эти дни почти всегда возвращался из командировок папа, которого я редко видел, а, во-вторых, устраивали салют. Салют сильно отличался от нынешних: еще не было всяких «мерцающих залпов», зато все небо было исполосовано лучами прожекторов, которые оставались на вооружении у войск ПВО. Помню, кто-то из взрослых мне сказал, что попадание вражеского самолета в перекрест двух лучей прожекторов означал почти наверняка, что его собьют. Механизм этого я тогда не понял и просто поверил, а сам додумался, в чем тут дело, много позже. Потом, еще до начала 60-х, прожекторное шоу исчезло.
"Конек". Собственность автора
Очень большое место в БПК занимали всяческие спортивные затеи: проводились первенства по бильярду и пинг-понгу, команда Бюро по волейболу играла в первенстве района. И во всем этом мой папа принимал активнейшее участие и с успехом. Он и болельщиком меня сделал – мы вместе смотрели матчи, и папа объяснял правила и рассказывал про довоенный футбол. Однако такие счастливые мгновения выпадали нечасто – мой папа принадлежал к многочисленному племени «командировочных отцов» – жизнь состояла из его отлучек на месяц на тепловые электростанции от Щекино до Южно-Уральска и Ангарска, перемежающихся неделей, а то и несколькими днями побывки дома.
А остальное время меня воспитывала мама, которая настоящей болельщицей, конечно, не была, но…
Полковник Петр Костинский, подполковник Яков Костинский, инженер-лейтенант Бастиона Костинская. Семейный архив
Такая была эпоха – большая часть страны ходила в погонах, и в семье моих деда и бабки с материнской стороны из четырех детей трое стали офицерами. Вот даже моя мама… Она окончила школу в Киеве в 40-м году, тоже с «золотой рамкой», и поступила в Киевский Политехнический Институт на престижный радиофакультет. Однако в сентябре 41-го его пришлось бросить и с одним из последних эшелонов вырваться из родного города – средний брат Миша добыл для своей мачехи и сестры эвакуационные удостоверения, без которых не пропускали на левый берег Днепра. А все оставшиеся под оккупацией родственники вскоре были убиты. После труднейшей дороги мама оказалась в Восточном Казахстане, отработала год в колхозе и на минометном заводе, а затем была зачислена в Ленинградский Военный Гидрометеорологический Институт, и 9 января 43-года – ровно в день своего 20-летия – принесла воинскую присягу. Неудивительно поэтому, что все ее подруги и друзья тоже были офицерами.
К тому же все то время было буквально пропитано воспоминаниями о тогда еще совсем недавней войне. В Петровском парке, где в войну стояли зенитки, оставались воронки от немецких бомб. Помню, как совсем маленьким спустился в одну из них, и показалось, что она очень глубока, а неба над головой – только голубой клочок… Дом «Военторга» на Ленинградке и здание Глазной больницы на Горького были покрыты противовоздушным камуфляжем – деревьями, их закрасили только в начале 60-х. Кругом было полно военных – и Академия Жуковского, и еще множество всяких подразделений, а на Ходынском поле вообще было их царство. Там и моя мама потом работала, а я, уже будучи школьником, ходил обедать к ней в столовую мимо часового – автоматчика в тулупе.
Понимать понемногу, что к чему в футболе, под влиянием отца я начал довольно рано и вполне отчетливо помню некоторые матчи 54-го года. Старые болельщики, вспоминая «команду лейтенантов», закатывали глаза, вздыхали: – Федотов! Бобров! Гринин! Никаноров! Нырков! А возрожденный ЦДСА только поднимался после трагедии 52-го. Но в других-то видах спорта ЦДСА был безоговорочным фаворитом с самыми лучшими игроками – чемпионами СССР, Европы и мира! Баскетбол Алачачяна, Бочкарева и Семенова, волейбол – Чеснокова, Мондзалевского и Буробина! Мы даже легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу 2-го мая выигрывали чаще всех.
А главное, хоккеи – русский, в котором у нас был лучший вратарь Мельников, лучший хав Панин, лучший форвард – Осинцев, и канадский – где имена армейцев звучали, как молитва, список личного состава небесных сфер. Они были вне сравнения с другими игроками сборной – Бобров, Бабич и Шувалов – это, конечно, были боги – всеведущие и всемогущие. Я во все вот это просто не мог не влюбиться, и это было мое первое в жизни решение, которое я выбрал самостоятельно и вопреки предпочтениям любимого папы.
Шарж из Интернета
Вот он, вернувшись как-то раз из очередной командировки, и обнаружил, что его сын – готовый болельщик ЦДСА. У отца хватило такта уважать мой выбор, как и во всей дальнейшей жизни. Папа утешался только тем, что футбольный «Спартак» – чемпион, а команда сына держится где-то в районе третьего места. Ничего, зимой чаще отводил душу я, и постепенно мы нашли такой modus vivendi, который позволял сосуществовать без обид и конфликтов, но, конечно, особенно с возрастом – не без подначек по поводу «успехов» команд друг друга…
Футбол в моем детстве надолго стал моей любимой игрой. Я рос в окружении настоящих болельщиков, увлеченных футболом, помнящих великих еще довоенной поры, критичных, в том числе и к своим. Футболом интересовались серьезно, это был один из важнейших предметов обсуждения в курилках.
Задний двор БПК на Нарышкинской. Я за любимым делом. Семейный архив
Иногда в БПК в компанию десятка настоящих болельщиков зазывали бывших футболистов на «вечера встреч» в комнатах отдела Пуска и наладки котлов. Лучше всего, помню Портнова – бека «команды лейтенантов», который основным не был, но играл частенько. Его привел кто-то из знакомых с ним сотрудников. Я сидел, не дыша, мне было-то лет шесть – а передо мной настоящий живой футболист ЦДСА, еще того – легендарного. Помню, как он со вздохом сказал, что перед одним из решающих матчей с «Динамо» Кочетков травмировался, и было известно, что играть ему, а его трясло, и он вспоминал об этом вдруг задрожавшим голосом: – Конечно, кто – Кочетков, и кто – Портнов. Не верили в меня…
Но он тогда выиграл. Помнится, ни разу в карьере не набрал матчей на золотую медаль, но в тот раз команду выручил, и она первое место взяла.
Футбол я любил не только смотреть, но и играл в него сам. На заднем дворе, отгороженном от Петровского парка зданием виллы, два дерева назначались штангами ворот, в которые били волейбольным мячом мальчишки – сыновья сотрудников БПК, а я чаще был вратарем и, конечно, говорил, что я – Разинский, как вратарь ЦДСА. После того, как пропускал гол, немедленно получал от товарищей – «вратарь-разиня». Очень переживал и за себя, и за то, что у кумира такая фамилия. Иногда в обед или после работы выходили погонять мячик вместе с нами наши отцы и их коллеги. Правда, чаще взрослые сами затевали свои игры – в основном, в волейбол.
Туда же на задний двор выходила и пристроенная к дому каменная терраса, а под ней был устроен грот. Из грота под дом вел лаз. Ребята говорили, что это подземный ход, который ведет к кладу, спрятанному Рябушинскими, когда те убегали из России[15 - Уже после выхода первого издания этой книжки прочитавшая ее моя бывшая соседка по «Черному Лебедю» рассказала, что клад, действительно, нашли – там были семейные иконы Рябушинских.]. Все мы пробовали туда протиснуться, но уползти дальше, чем метра на два не удавалось – дыра становилась совсем тесной и темной. До сих пор интересно – где же тот лаз заканчивался?
В том, что дом содержит тайну, мы не сомневались, а тут еще году в 56-м вдруг приехали из Америки какие-то внучатые Рябушинские. Тогда это было двойной сенсацией: во-первых, из самой Америки, в которой живут буржуи, а, во-вторых, они прикатили на совсем новенькой, не виденной нами до того «Волге». Американские Рябушинские обошли виллу, а потом попросили показать им барельеф лебедя в вестибюле. Я этот барельеф помнил, но к тому времени его заставили какими-то канцелярскими шкафами. Институтские мужики поднапряглись, растащили их, и визитеры простояли перед барельефом минут десять. Мы, пацаны, были уверены, что этот барельеф как-то связан с легендарным кладом, и пытались подсмотреть, что они будут с ним делать. А они просто постояли у барельефа с серьезными лицами, вздохнули и ушли…
Вторым после футбола главным занятием была игра в войну. Особенно здорово было играть, когда музкоманду Жуковки, что стояла у нас за забором, расформировали, а от них в казарме остались целые ящики погон разных цветов, с разными эмблемами и лычками. Такой экипировки не было ни у кого на много улиц окрест. Играли мы там же, на «заднем дворе», за которым простирались какие-то сараи и казармы, в частности, еще одного военного оркестра, которые тогда были любимой и непременной деталью каждой серьезной воинской части. Оттуда, как и со стороны музкоманды Жуковки, нас регулярно потчевали образцами советского маршевого искусства.
Третьим любимым занятием детства, быстро вышедшим на первое место, стало чтение. Одним из стимулов к скорейшему им овладению были поздние сеансы в кино. С тех пор, как мне исполнилось года четыре, родители повадились на эти сеансы ходить. Папа бывал в Москве мало, и они с мамой стремились побыть вдвоем, они ведь были еще совсем молодыми людьми…
Меня уговаривали, что я уже взрослый, но, поскольку было очевидно, что одному поздним вечером мне оставаться страшновато, они просили кого-нибудь из соседок заглядывать ко мне время от времени. Хотя мне и приказывали спать, но я дотягивал до родительского возвращения, борясь со сном и страхом одновременно. Примерно тогда я стал учиться читать и в четыре с половиной уже знал все буквы. Помню, как я вдруг осознал, что не веду по странице пальцем, а удерживаю строку взглядом и не складываю в уме слоги, а прочитываю слово целиком. Так ждать родителей оказалось намного легче…
Отец очень заботился познакомить меня с книгами обязательной с его точки зрения программы – «Робинзоном Крузо», «Путешествиями Гулливера», Жюлем Верном, а позже – «Спартаком» Джованьоли и ставшими моими любимыми «Уленшпигелем» и «Бравым солдатом Швейком». Совмещение двух удовольствий – чтения и футбола – наступило несколько позже – во втором классе со знакомством с газетой «Советский Спорт». Много лет спустя сочетание «футбол и чтение» превратилось в триаду «Футбол – чтение – писательство» и породило, в конце концов, эту книжку.
Были и развлечения экзотические, о которых я привык думать, как о недостижимом счастье. Например, когда мама отправлялась в ГУМ и брала меня с собой, мы первым делом шли на 2-ю линию и поднимались на 2-й этаж. Там на балконе со стороны улицы 25-го Октября (Никольской) на огромном столе стояла игрушечная железная дорога – там были горы и долины, автодороги, маленький вокзальчик, а между всем этим по кругу носился, то исчезая в тоннелях, то появляясь на поверхности, поезд с паровозиком впереди. Когда он проезжал дорожный переезд, опускался маленький шлагбаум, а когда миновал – поднимался. Мама могла спокойно оставить меня там хоть на час, абсолютно не сомневаясь, что я оттуда никуда не денусь.
Железная дорога – несбыточная мечта любого тогдашнего советского мальчика, как и педальный автомобиль – я даже не мечтал об этом и не пытался просить у родителей, понимая, что и не найти его, и не по карману это нашей семье. Уговаривал себя, что мое умение кататься на двухколесном велосипеде, которому в 5 лет научил меня папа, куда более достойно взрослого парня, чем эта детская забава, но глубоко внутри себя, мечтал, конечно…
Наш Динамо-стадион
За окнами «Черного лебедя» простирался Петровский парк, и до стадиона «Динамо» было всего метров четыреста, там чуть ли не каждый день вместе или по отдельности играли все пять московских команд, и у нас в комнате было не просто слышно стадион – каждый его вздох. Я быстро научился различать по интенсивности и характеру рева трибун, когда забили гол, а когда – мимо. Однажды мы играли с Паровозами, так я счет 5:1 в нашу пользу точно по звуку посчитал, не видя игры.
В первые походы на футбол я отправлялся на плечах отца. Шли по Нарышкинской аллее, на углу которой с Красноармейской улицей была пивная, болельщикам более молодого поколения известная как «Семь дорог». Прожило это заведение долго, я успел туда попасть уже взрослым, но в 90-е ее снесли – теперь там ограда церкви, восстановленной из склада вещевого довольствия Жуковки. Рушатся святые места!
Даже не знаю, что тогда доставляло больше удовольствия – футбол, от которого я приходил в восторг, как от мороженого, или то, что приехал папа. Во всяком случае, ощущение, что футбол – это праздник, осталось на всю жизнь.
Тогда «Динамо» был единственным в Москве полноценным стадионом. Серые казавшиеся мне очень высокими трибуны, переполненные ряды. В дни матчей вокруг стадиона змеей извивались кордоны солдат Железной дивизии имени Дзержинского, они мне ужасно нравились, как все военные в то время, а от полевых радиостанций за спинами у некоторых бойцов я вообще был в полном восхищении (я же не знал тогда, что они – МВД). Конная милиция приезжала на матчи целым эскадроном. В дни важных игр перекрывали Ленинградское шоссе[16 - ныне – это Ленинградский проспект], а метро работало только на выход.
Перед входами рядом с билетными контролерами кучковались стайки пацанов с жалобными рожицами, тихонечко тянувшие: – Дяденька, скажи, что я твой сын… Сердобольные давали везунчикам руку и проводили мимо билетеров, после чего дети обретали свободу и дальше действовали на свой страх и риск. Таких и прочих безбилетных на трибунах всегда набиралось предостаточно, и, хотя у отца и его друзей билеты были всегда, сидели по трое на двух местах, по четверо на трех, но скандалили из-за мест редко – как-то, видимо, сочувствовали зайцам… На Южную трибуну, где не было ступенек, заезжал на своей тележке с колесиками из подшипников и безногий во флотском бушлате – такие были популярны у инвалидов, потому что теплые и не надо было подкорачивать, как шинели. Хоть и говорят, что их всех повыселяли из Москвы, это не так – работавшие в инвалидных артелях уцелели и в 50-е годы оставались в Москве еще во множестве, и вот даже на футбол пробирались, останавливаясь у лестниц, ведущих по трибунам вверх. Сильно позже стали пускать колясочников на беговые дорожки вдоль круглых трибун, а в южных города х – даже на инвалидных трехколесных мотоколясках, а потом и «Запорожцах» с ручным управлением.
Перед началом игры на «Динамо» команды выбирались на поле из тоннеля в углу поля и выстраивались не перед трибунами, а по линии центрального круга и на полном серьезе кричали «Физкульт-привет!». Гостям дарили букеты цветов, которые они, подбежав к трибунам, запускали зрителям. Потом эта традиция угасла, и только однажды, уже в 69-м, вдруг капитан приехавшего в Москву «Пахтакора» появился на поле с огромным букетом желтых цветов и вручил его нашему вратарю Юрию Пшеничникову, который только что из Ташкента перешел к нам, а я случайно уже знал, что желтый – цвет измены. Но мы их вздули, несмотря ни на какие букеты.
Мне ужасно нравилось, как на «Динамо» показывают счет. На башнях Запада и Востока на больших белых кругах значились большие черные цифры, а когда забивали гол, круг переворачивался, и на той стороне оказывалась другая цифра. Никак я взять в толк не мог, как тот, кто в башне, узнает, что пора переворачивать круг. А потом однажды, когда народу было не так много, как обычно, и на круглых трибунах были прорехи в рядах болельщиков, после гола я увидел, как какой-то человек опрометью бросился к башне, открыл дверь сбоку, и тогда круг перевернулся. Секрет был разгадан!
Да, и ворота футбольные тогда были другие – не такие, как сейчас, а полосатые, как пограничные столбы. Белые ворота я в первый раз увидел только на открытии Лужников. За пять минут до конца матча обязательно звучал гонг. Отец мне рассказал, что однажды Бобров после гонга успел две штуки заколотить, и я долго надеялся на магический эффект этого звука – сигнала к последнему штурму. Уходили тоже не вразброд, а строились в центральном круге и кричали на прощание «Физкульт-ура!» А мальчишки, подававшие мячи, выдергивали угловые флажки и убегали под трибуны, и это означало для меня, что матч совсем окончен.
Развлечений в Москве в те годы было намного меньше, чем нынче, и на футболе были сплошные аншлаги. Интеллигентная публика на трибунах была в порядке вещей, может быть, из-за крайней скудности других приложений ума за пределами профессиональной сферы, и большей безопасности футбола для анализа и дискуссий, чем даже театр или литература.
На Севере концентрировался бомонд: генералитет, знаменитые актеры – МХАТовский Яншин был завсегдатаем, писатели – я видел там Константина Симонова. Много позже встречал там и известного теледиктора Кириллова. Болели культурно, однако ж вполне темпераментно, свистели в два пальца, на Севере – не матюкались, туда ходили с дамами, на круглых трибунах – вполне. На Востоке мужички пивко попивали и «белую головку» (так назывались водочные поллитровки) под скамейками разбулькивали, но почти никогда – «в хлам». На стадион все же шли смотреть футбол. Милиционеры, между прочим, вели себя при этом абсолютно спокойно – изредка выводили только совсем «перегревшихся». И вот чего не было на московских трибунах в 50-е и 60-е – так это остервенения, не было смертельной вражды. Болельщики разных команд друг с другом вполне без рук трепались в брехаловке, ну, могли, в крайнем случае, послать… В Киеве все, конечно, было иначе – чужим там надо было вести себя крайне осмотрительно.
Москва всегда болела объективно, когда свои хулиганили, могли и засвистеть, могли и чужому похлопать за красивый финт. Московских команд в классе «А» всегда было не меньше четырех, изобилие дерби приучало к относительно равному количеству болельщиков с обеих сторон, к тому, что даже в матчах с иногородними на трибунах всегда находились болельщики других клубов, и к относительно объективному судейству.
Тогдашний комплекс «Динамо» – это был не только футбол. Жизнь клубилась по всей его территории, и, раз попав на стадион, оттуда можно было не уходить часами… На Малом поле летом играли динамовские дублеры, а зимой его использовали под русский хоккей. На Большой арене заливали ледовые дорожки, и я там видел первенство Европы по конькам, на котором победил Евгений Гончаренко. А для канадского хоккея использовали площадку у Восточной трибуны. Вокруг овала арены располагались открытые корты для разных видов спорта, и еще в 60-е там проводили даже решающие матчи первенства СССР по волейболу. Как-то раз, гуляя по стадиону, на баскетбольном корте, где зрители попросту стояли вокруг сетки, огораживающей площадку, мы обнаружили международный матч женских команд по баскетболу. Советской команде противостояла северокорейская в невиданной форме – блестящей шелковой с номерами и на трусах, чего у нас тогда не водилось. Правда, играть кореянки совершенно не умели – видимо, развитие этого вида в их стране началось и ограничилось приобретением импортной формы.
Там же по соседству располагались и городошные корты, на которых мы с родителями как-то смотрели финал кубка Москвы по этому замечательному, ныне исчезающему виду спорта. В Москве городошников Вооруженных Сил представляла почему-то команда под названием ВМФ. Москва, конечно, порт пяти морей, но… Между прочим, городки еще очень долго были популярны в народе, и когда мы в 60-м году переехали в новый дом на Хорошевке, соседские мужики на пустыре у помойки тут же разбили городошную площадку, и целая компания проводила там время часами.
В Большую арену были встроены офисы общества «Динамо». Туда я попал, когда маму включили в состав избирательной комиссии, которая использовала какую-то важную комнату динамовского руководства. В ней стояли разные трофеи этого нелюбимого мной общества, в том числе – незадолго до того завоеванный Кубок СССР. Мне даже разрешили его потрогать, но я отказался – конечно, надо бы сказать, что из гордости и неприятия динамовцев, но в четыре года я до таких высот сознательности не поднимался и просто застеснялся.
И, да, с этими выборами та же история, что с лозунгом «да здравствует годовщина». Как-то раз мне родители сказали, что в воскресенье мы пойдем на выборы. Само собой, избирательный участок оказался все на том же стадионе «Динамо», и я по дороге гадал, как будет протекать процесс выбора. А когда мы пришли, папа с мамой получили бюллетени и сказали, что я могу их бросить в щель урны. Я пришел в недоумение и, по-моему, огорчил родителей то ли тупостью, то ли бесчувственностью, потому что не выказал особого энтузиазма – я же ждал, что будут выбирать, а оказалось – надо голосовать… И это неправильное словоупотребление меня очень долго раздражало, потом перестало раздражать, а сейчас раздражает снова…
Одним из моих самых любимых мест на том «Динамо» начала 50-х была брехаловка. У Западной трибуны напротив ближнего к Петровскому парку выхода из метро на металлических фермах висела таблица первенства СССР. Она мне очень нравилась, потому что состояла из выпиленных из фанеры фигурок футболистов, раскрашенных в клубные цвета и расставленных в порядке текущих мест в первенстве. Правда, точно были разрисованы только московские и другие серьезные клубы, а прочих размалевывали в фантастические сочетания – лишь бы поярче. Дома я себе такую вырезал из картона.
В брехаловке практически всегда отиралась компания болельщиков – от трех-пяти, до нескольких сотен – после матчей или в выходные. Там судили и рядили, запускали слухи или откровенные параши, но, как правило, было несколько серьезных мужиков, знавших футбол чуть не с Бутусовых и Чесноковых, тех еще, дореволюционных. Они грамотно анализировали игру, критически разбирая, в первую очередь, игру своих. Я у них учился. Тогда даже пацаны знали правила, как следует, и болели, глядя на поле, а не фанатели.
Наш сосед инженер дядя Коля Каюков, живший с женой на первом этаже в четырехметровой комнатухе – бывшей привратницкой – был таким болельщиком и наркоманом брехаловки, что мог проводить в ней часы, и выдергивать его оттуда приходилось либо его жене – тете Шуре, либо – по ее просьбе – кому-то из институтских мужиков. Запрет жены на посещение брехаловки бравый дядя Коля обходил легко. Само собой, никаких ванн у нас в доме не было – меня до пяти лет купали в корыте, а взрослые, естественно, ходили в баню. И вот, дядя Коля брал мыло, белье и полотенце и… направлялся, само собой, в брехаловку трепаться о футболе. Под конец своего делового визита он в водоразборной колонке на Нарышкинской мочил волосы и полотенце и представал перед супругой с подобающими вещдоками…
А под Южной трибуной, вблизи от Западной, располагались кинотеатр и ресторан, названные без особой фантазии тоже «Динамо». Мы с папой и мамой периодически захаживали в оба этих заведения. Как-то, уж не помню по какому поводу, мы всей семьей оказались в динамовском ресторане, а какие-то мужики сильно поношенного вида заносили в него с улицы ящики с вином. Отец остановился вдруг, присмотрелся к ним, а когда сели за стол, сказал: – А знаешь, кто это? Это ведь Сергей Соловьев и Сергей Ильин! Эти фамилии я уже знал – великих в прошлом динамовцев. Потом Сергея Ильина все же клуб поддержал – он у них числился тренером, а Соловьев вскоре умер.
Мой родной Петровский парк и компания друзей,
«Черный лебедь» и пивная в окружении аллей.
Вот Жуковка – башни, стены за цепочкою елей,
А с Нарышкинской налево – там стоит, всего милей,
Серый, войском окруженный
И толпой разгоряченной,
Да, конечно, это он,
Наш «Динамо» стадион.
На футбол скачу на папе,
Ухватив поля на шляпе,
Мы идем на ЦДСА -
Будем вместе два часа!
А я и сам болельщик…
В то время, когда я стал понимать такие вещи, как «турнир в два круга» и «игра навылет», то бишь году в 55-м, все было расписано четко: играли в классе «А» 12 команд с почти непременными пятью московскими командами, питерским Зенитом, динамовцами Киева и Тбилиси, Шахтером из Сталино[17 - Впоследствии – Донецк], часто – куйбышевскими[18 - Ныне – самарские]Крылышками, остальные – как придется.
1-го мая народ в Москве был на параде[19 - отменен с 1969-го года]и демонстрации трудящихся, а на следующий день, с чувством выполненного долга – пожалте на трибуны на «Праздник открытия футбольного сезона». Перед главным матчем часто проводились всякие эстафеты с мячом и игры мальчишек клубных команд, иногда добавляли какие-нибудь забеги легкоатлетов или выступления гиревиков… А однажды вывели с полсотни фехтовальщиков с красными и синими султанчиками над масками. Задача состояла в том, чтобы срубить у противника султанчик, тогда условно убитый боец вставал до конца побоища на колено, а его «убивец» помогал товарищам разобраться со следующими противниками. Самое настоящее гладиаторское сражение в вегетарианском варианте.
Насколько я могу судить, никакого коммерческого смысла в этом «разогреве» не было – трибуны и так ломились. Скорее, это были пережитки еще дореволюционных клубных спортивных праздников, когда показывали себя разные секции. Потом традиция угасла, потому что настали времена, когда всем стало лень, а появление разогрева нынче связано с тем, что развлечений теперь полно, и надо выигрывать конкуренцию за зрителя.
Заканчивали в октябре, вылетал, как правило, тот, кто только что влетел – мелькали всякие «Торпедо» (Горький), ОДО (Свердловск), «Трудовые резервы» (Ленинград), «Спартак» (Минск). Вошел – вышел. Интрига была наверху. Верх держали спартаковцы и динамовцы. Конечно, именно у них тогда, объективно, был собран цвет советского футбола. В середине 50-х у «Спартака» чуть не весь состав в сборную входил, армейцы же в эти годы подразумевались как «вечно третьи», даже когда и не занимали этого места.
В 55-м у меня случился первый повод для настоящей радости – мы и Кубок у «Динамо» отобрали, и бронзовые медали в первенстве добыли. В финале Кубка мы с отцом были по одну сторону баррикад – он болел вместе со мной за армейцев, во всяком случае – против «Динамо». Игра была сделана в первом тайме – мы забили, нам забили, а под самый перерыв правый край ЦДСА Владимир Агапов с пенальти сделал 2:1. И тут же в ответ на его язвительное замечание, вратарь Динамо ударил его ногой. Потом мальчишки передавали страшные рассказы, что у Агапова на груди отпечатались все шипы Яшина! И мне, пятилетнему пацану, было, как обухом, как же это так – вратарь советской сборной Сам Лев Яшин ударил нашего Агапова! И Яшина, как шпану какую, выперли с поля!
Под трибунами из-за этого разразился скандал, и перерыв между таймами затянулся чуть не на полчаса. Тогда в Кубке замены были запрещены, я предвкушал, как сейчас наши наколотят этим противным динамикам десяток банок. И вот их хав Байков, напялив вместо своей майки яшинскую, весь второй тайм стоял в воротах и ничего не пропустил. Динамики, понимая, что у них за голкипер, отодвинули игру подальше от своих ворот, прихватывая армейцев у центральной линии и ложась под мячи у штрафной. Атака ЦДСА была ослаблена тем, что Агапов после яшинского удара почти не мог бегать, и до динамовских ворот долетело немногое, но пару мячей, точно помню, Байков отбил в бросках.
При 60 000 зрителей армейцы победили 2:1. Вот состав тех, кто принес нам первый на моей памяти трофей: Разинский, Порхунов, Гришин, Перевалов, Беца, Петров (к), Агапов, Рыжков, Федоров, Емышев, Беляев.
Скандал продолжился и после окончания матча, да такой, что торжественное вручение Кубка и круг почета были сорваны. Объявили, что Кубок вручат позже. По малолетству тогда подумал, что – не страшно, выиграем еще, а на самом деле, чтобы воочию увидеть вручение Кубка армейской команде пришлось ждать целых 36 лет и сделать это в компании собственного 15-летнего сына…
Между прочим, вполне мог и не дождаться… В то лето 55-го моим киевским деду и бабке удалось то, что больше не удавалось никогда – они меня, пятилетнего, раскормили до 19-ти килограммов, так что врач потом написал в истории болезни «ребенок хорошо упитан». В Киеве это надо заслужить!
А писал это врач уже в больнице, куда меня доставили с токсической дизентерией в крайне тяжелом состоянии. Самой больницы уже не помню – был без сознания, а вот дорогу туда помню очень хорошо: лил какой-то невероятной силы дождь, из водосточных труб хлестали потоки в эти самые трубы толщиной, но, главное, я видел все это со стороны, как бы с улицы – и машину скорой помощи, и себя самого в ней…
Вероятно, это был такой бред, и, спустя годы прочитав, что многие умиравшие и реанимированные рассказывали, будто бы видели себя так – из «вне себя», не очень удивился… Я потом у мамы сверил свои воспоминания об этой дороге в больницу и получил подтверждение, по крайней мере, насчет сумасшедшего ливня и машины «Скорой помощи» – автобусика, смонтированного на шасси МАЗовского грузовичка.
В больнице, действуя по схеме, мне всадили противодизентерийную сыворотку, но, поскольку в течение двух суток улучшения не наступило, всадили ее же повторно в двукратном объеме. Помирать от дизентерии я перестал и на четвертые сутки пришел в сознание, зато, как и полагается при повторном введении сыворотки, получил анафилактический шок и чуть не помер от него. В моем случае это выражалось в невозможности согнуть ни один сустав, потому что это вызывало невыносимую боль. Пожалуй, это был второй серьезный шанс не написать эту книгу.
Вот так, живой, но неподвижный, я провел несколько дней. Периодически пробовал пошевелиться, и получал за это… Потом все-таки стали появляться кое-какие успехи – задвигались пальцы на руках, стали сгибаться локти. Наконец, однажды без всякой боли согнулось правое колено! Это была такая радость! Как самый тяжелый я лежал не в палате, а в ординаторской, и когда дежурная увидела мой успех, она созвала всех врачей отделения, и они меня поздравляли (а про себя, наверное, решили, что теперь отписываться за летальный исход в детском отделении уже не придется).
Только вот все это время я ничего не ел, и от «хорошей упитанности», которой так гордились дедушка и бабушка, остался 12-ти килограммовый доходяга, наполненный, однако, соответствующим возрасту оптимизмом. Врачи его несколько поубавили, заявив, что в ближайшие два года есть можно только протертое и вареное, несоленое и неперченое – в общем, все то, что я терпеть не могу по сию пору. И для начала с большого красивого ярко-красного яблока срезали кожуру, а потом протерли его на терке. И красота на глазах превратилась в кучку быстро ржавеющей мерзости, на которую смотреть-то было противно, не то, что в рот брать…
Ничего, я все равно через полгода начал колбасу есть и ем до сих пор…
…И, раз остался в живых, продолжил болеть за армейцев.
Объявление состава в те времена начиналось так: – Команда ЦДСА, номер первый – Разинский… Разинского не запомнить было невозможно. Он – один из немногих, кто был в составе постоянно из года в год. Начав в молодежке еще до разгрома ЦДСА в 52-м, перекантовался где-то годы безвременья и вернулся в воссоздаваемую команду. Стабильно считался третьим вратарем страны – после динамовских Яшина и Владимира Беляева, ездил на мельбурнскую Олимпиаду. Играл он очень красиво – прыжок у него был замечательный, таскал из углов бесподобно, но, как тогда говорили, был у него дефект – чаще мяч парировал, а не забирал наглухо. Черт его знает, может и так, но на мой мальчишеский вкус был лучшим.
Он не только для меня, видно, был незыблем в армейских воротах – за его спиной в дубле вырос Валентин Ивакин, и оттуда без единой игры за основу, попал во вторую сборную страны – уникальный случай! На следующий год он ушел, потому что считал, что у нас ему ничего не светит, и встал в ворота «Спартака» прочно и надолго. Под самый конец карьеры у нас Разинский повадился пенали бить, забил два гола, по-моему, первым из вратарей в истории чемпионатов СССР. Оказывается, хрустальной детской мечтой нашего вратаря было сыграть в нападении, а место в воротах он занимал только чтобы хоть как-нибудь приблизиться к этой цели. Исторический анекдот об этом мне потом рассказал мой старший товарищ Виктор Иванович Самусенко.[20 - Виктор Иванович Самусенко (1940–2015), известный на сайте red-army.ru как OldFan. В 80-е-90-е сотрудничал в КЛС и готовил тогдашние, ныне уже легендарные программки к матчам. Там он познакомился с многолетним врачом команды Олегом Марковичем Белаковским, который и рассказал ему эту историю.]
Дело было в 59-м году, когда старшим тренером ЦСК МО снова стал Борис Андреевич Аркадьев, с которым связан первый славный период в истории команды. Во второе свое пришествие в команду Аркадьеву таких успехов добиться не удалось – материал у него в руках оказался поплоше, чем в первый раз, да и годы брали свое… И вот случился конфуз – армейцы довольно крупно кому-то проиграли. Руководство команды вызвал к себе заместитель министра обороны маршал Советского Союза Гречко, который потом, в 1967-м, и министром стал. Его адъютант в приемной шепнул пришедшим старшему тренеру Аркадьеву, начальнику команды полковнику Калинину и парторгу команды майору м/с Белаковскому:
– Ну, ребята, я вам не завидую – злой, как черт!
«Тройка» вошла в кабинет, и штатский (хотя ему и предлагали полковничьи погоны) Аркадьев сел за стол поблизости от маршала, а товарищи офицеры, которым «вольно – садись!» не скомандовали, остались в стойке «смирно».
Маршал все не начинал разговора, а вместо этого брал из стакана на своем столе остро отточенные карандаши и ломал один за другим. Сбавив таким образом внутреннее давление до уровня, когда он мог человеческим голосом разговаривать с интеллигентным Аркадьевым, маршал произнес: – И как это такое возможно?!!! Чего не хватает?!!!
Борис Андреевич своим тихим, слегка заикающимся голосом, ответил, что у команды трудности с вратарями – Борис Разинский не хочет стоять в воротах, а желает играть в нападении, а его дублер – совсем зеленый, и ставить его просто невозможно. А рядовой Басюк в команду не прибыл…
Маршал Гречко, обладавший всеми навыками штабиста, мог похвастать и отличной памятью, и не успел Аркадьев договорить, как замминистра обороны уже прорычал адъютанту: – Командующего Прикарпатским округом!
Через мгновения телефон звякнул, и по громкой связи раздался бравый рапорт:
– Товарищ маршал Советского Союза, по Вашему приказанию командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник танковых войск Гетман!
– С каких пор, генерал-полковник, Вы перестали быть военным человеком?!
На том конце провода поперхнулись и просипели, да как же, он всегда…
– Военным человек остается до тех пор, пока беспрекословно выполняет приказы старших по званию! Вам две недели назад было приказано направить рядового Басюка в распоряжение ЦСК МО! В чем дело? Почему не выполнен приказ?!!!!
– Товарищ маршал, все будет немедленно исполнено!
Оказалось, что зам Гетмана по физподготовке, страстный фанат львовского СКВО[21 - так назывались окружные команды – Спортивный Клуб Военного Округа – после переименования их из ОДО (Окружных Домов Офицеров).], просто засунул приказ московского начальства под сукно: всегда есть шанс, что большие чины по прошествии времени забудут, что приказали. Но тут не свезло – с должности зам слетел с громовым треском, потому что из-за какого-то физкультурника и какого-то рядового Басюка генерал-полковник выволочки от замминистра обороны получать не желал. В мгновение ока рядовой оказался в Москве и приступил к тренировкам. Если не ошибаюсь, сыграл он за московских армейцев в трех или четырех матчах, а потом был отчислен – бухал…
В 62-м Разинского в одночасье выперли за компанию с Апухтиным, Линяевым и Орешниковым, тогда говорили – за пьянку на выезде. Сам Борис Давидович как-то объяснялся в прессе, что у него конфликт был с тренером. Так или иначе, его карьера в ЦСКА закончилась, а игра у наших сломалась… Я потом долго спотыкался о фамилию вратаря в составе армейцев, настолько привык к Разинскому. А он «пошел по рукам» – играл за «Спартак», за Киев, за Одессу, там, кстати, пару раз выходил нападающим, но уже никогда не достигал того уровня, на котором держался у нас. Такого стабильного и так долго играющего вратаря в ЦСКА потом не было, пожалуй, аж до самого Астаповского.
За номером «два» (правого защитника) в моей детской памяти осталась вереница имен, начинавшаяся с Алешина, и имя им – легион… А вот стоящий по сию пору перед глазами зрительный образ: во всю широченную спину огромная «тройка», которую носили центральные защитники – это Анатолий Башашкин, столп обороны и ЦДСА, и сборной. Тогда еще доигрывали «дубль-вэ», и номера были довольно строго регламентированы: со второго по четвертый – защитники, «5» и «6» – хавы, «семерка» и «11» – края нападения, «девятка» – центрфорвард, «8» и «10» – инсайды. Даже выход игрока под номером, не соответствующем расстановке, был на полном серьезе тактическим ходом, особенно если это малоизвестный дублер.
Башашкин запомнился несокрушимой скалой, о которую расшибались все вражеские атаки. Странно было потом читать, что вот там Башашкин ошибся, и там. В моей памяти он остался безупречным. Потом, когда он – последний из игроков поколения «команды лейтенантов» – сошел, в центре обороны появились Михаил Ермолаев и Виктор Дородных, позже пробовавшиеся и в сборной. А уже вскоре заиграл совсем молодой Альберт Шестернев, который в моем представлении добился даже большего, чем его великий предшественник.
Тогда через ЦДСА год за годом шла вереница игроков из разных команд, в основном, из окружных и флотских, но даже я со своей отличной детской памятью всех запомнить не мог. Прочно осталась в памяти целая группа из свердловского ОДО, они играли у нас очень долго – Николай Линяев, Дмитрий Багрич, дотянувший аж до 70-го, и Эдуард Дубинский – исключительно злой агрессивный защитник, который первым из армейцев после ухода Башашкина прорвался в сборную. Он стал одним из практически незаменимых игроков, пока на первенстве мира в Чили в 1962-м югослав Муич не сломал ему ногу. Потом Эдуард долго лечился, вернулся, но скоро сошел и умер 35-ти лет от роду от саркомы, возможно спровоцированной тем переломом.
Линяев поначалу играл в полузащите, игрок был скоростной, с неплохим пасом и ударом. При том, что хавы тогда забивали немного, не раз отличался в атаке. Потом его часто стали отодвигать в оборону, и он вместе с Виктором Дородных составил пару центрбеков.
Багрич – тоже редкий случай игрока, который держался у нас при всех тренерах. Сначала – просто крепыш, несколько неотесанный, но с годами – все более прочный, а с середины 60-х – даже безошибочный, с прекрасным отбором. Я его очень любил – и за долголетие службы, и за надежность, и за то, каким он был волевым игроком. И просто мужик был симпатичный – с болельщиками разговаривал дружелюбно, и с нами – пацанами. Он, между прочим, и в атаку по краю хаживал, что тогда было не очень распространено, а чужих нападающих прихватывал плотно и считался одним из самых трудно проходимых. В сборную его приглашали мало – на левом краю все время были сильные конкуренты, а к Багричу прилипла репутация вечно третьего в стране… Последний матч Дмитрий сыграл в чемпионском 70-м году и золотую медаль не получил, а жаль…[22 - Этот фрагмент процитирован в статье Бориса Валиева в Советском Спорте «Неповторимый Дмитрий Багрич» 25 сентября 2004 года https://www.sovsport.ru/football/articles/166447-nepovtorimyj-dmitrij-bagrich]
Как раз на позиции левого бека в сборной фаворитом был поигравший у нас в нападении Анатолий Крутиков, которого нашли в московском «Химике», но упустили в «Спартак». Ничего сверхъестественного он в ЦДСА не показывал и результативностью не блистал, а вот у красно-белых вдруг оказался в линии обороны – и как будто там и родился. Вот тут его скорость пригодилась и в отборе, и в рейдах по краю, которые он стал предпринимать систематически и остро. Достаточно быстро заиграл за сборную, а я все не мог простить предательства – помнил, что начинал-то он у нас.
Были у нас и классные хавбеки – Иосиф Беца и Александр Петров, хотя с этим у нас всегда было напряженно. Играли у нас и яркие нападающие, тогда и вообще забивали побольше, чем нынче, и идеологически считалось, что дело армейских спортсменов – атака. «Красная Армия будет самой нападающей из всех нападающих армий мира», как говорилось в Полевом уставе 39-го года. В передней линии у нас играли Василий Бузунов, отличавшийся сумасшедшим по силе ударом, и качественные форварды Владимир Агапов, Виктор Емышев и Юрий Беляев. В какой-то год армейцы даже забили больше всех и на радостях учредили приз Григория Федотова – самой результативной команде, да так с тех пор до 2002 года ни разу его и не выиграли. И в памяти у меня крепче всего осела именно игра защитников, может быть, потому, что в самых важных играх основная нагрузка падала именно на них. И в сборную, по большей части, попадали и задерживались там именно наши беки. Уж что-что, а защита у нас тогда была сильна…
Год великого перелома
56-й год – последний перед поступлением в школу – оказался переполненным событиями, серьезно повлиявшие на всю мою дальнейшую жизнь. Еще зимой к нам во двор заглянул коклюш, перезаразил всех детей и меня не миновал. Я вспоминаю о нем с теплотой, потому что за время этой долгой, но необременительной болезни ко мне поменьше приставали с разными обязанностями и не мешали читать. Правда, не выпускали на улицу, но это оказалось к лучшему!
Вдруг в феврале всё БПК загудело, как улей в период интенсивного медосбора. К нам в комнатку, отделенную от учреждения только метровым коридорчиком, стаями забегали сотрудники – обменяться мнениями по фантастическому поводу – в парторганизации зачитали письмо ХХ съезда КПСС и речь Хрущева о культе личности Сталина. И теперь партийцы пытались переварить полученную информацию, а беспартийные – выяснить у них как можно больше деталей, потому что в открытой печати ничего не публиковалось. На меня никто не обращал внимания, считая, что я слишком мал. Они были, конечно, правы – деталей большей части их разговоров я не понимал, но ухватил главное: ЧТО-ТО НЕ ТАК, как мне все время говорили по радио. Дедушка Сталин, похоже, не такой уж хороший! Не надо слепо верить всему, что мне говорят! Может быть поэтому, став старше, я с таким энтузиазмом воспринял девиз Маркса: De omnibus dubitandum[23 - (лат.) подвергай все сомнению. Злая ирония истории состоит в том, что формальные исповедники марксизма как раз любые сомнения искореняли огнем и мечом.], а уже студентом, на своей шкуре осознал, что это – главный принцип научного мышления.