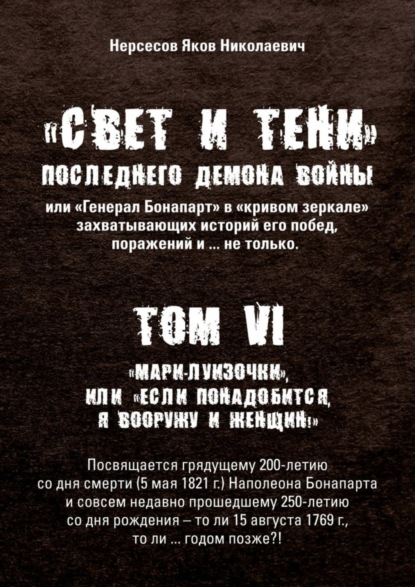
Полная версия:
«Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том VI. «Мари-луизочки», или «Если понадобится, я вооружу и женщин!»
На подготовку квалифицированного всадника уходило гораздо больше времени и средств, чем на пехотинца.
В первую очередь, из—за нехватки лошадей, как тягловой силы, так и не удастся наладить тыловое снабжение.
Прибегая к всевозможным ухищрениям, собирал Наполеон новую армию.
15 тыс. опытных солдат (почти весь сержантский состав!) были срочно переброшена из Испании и Италии. Именно они «пошли» на воссоздание , того что Гвардией! Старой раньше – так звучно и престижно (!) – именовалось
Специальные жандармские команды «мелкоячеистой сетью» отлавливали все «больных», уклонистов и отсрочников предыдущих 1808—1811 гг. призыва; заблаговременно, еще осенью 1812 г. в армию были призваны новобранцы 1813 г.; призывники 1814 г. и вовсе были мобилизованы раньше срока – в феврале 1813 года; призвали жандармов, составивших костяк новой кавалерии; из морского флота отправили на берег всю орудийную прислугу – 12 тыс. канониров (в артиллерию) и 24 батальона матросов; из Национальной и муниципальных гвардий перевели в действующую армию солдат-ветеранов и неполных инвалидов . (не все пальцы рук, ног и прочие «мелкие» физические недостатки)
Дополнительные воинские контингенты были затребованы из союзных германских государств.
В общем, чтобы сохранить свои претензии на власть в Европе, Наполеон «дотянулся» до всех, кого мог – как уже говорилось выше, даже до инвалидов, оставив тихо доживать свой век лишь ампутантов-«чайников». Так или иначе, но за 20 лет почти непрерывных революционных и наполеоновских войн мужской генофонд Франции уже был истощен до «дна»: кости лучших из лучших уже густо усеяли всю Европу – от фанатично-католической Португалии до столь же бого-послушной православной Руси.
Итак, новую армию «маленькому капралу» пришлось «лепить» вокруг ветеранов войны в Испании, выпускников военных школ и отставников, а также выведенных из России унтер—офицеров и младших офицеров, но последних [, все же, не хватало – слишком много этих старых опытных служак сгинуло именно там. А ведь именно от них новобранцы впервые в жизни узнают, как заряжать и стрелять, разбивать бивуак в темноте после сколь многокилометрового, столь и быстрого перехода с тяжелым солдатским ранцем за плечами, строиться в каре и отбивать кавалерийские атаки, что такое штыковая атака или атака под огнем и дождем, марш-броски по колено в грязи! старых испытанных «капралов» – своего рода «центурионов» (!!!) – армий всех времен и народов!] «хребта»
В общем, что такое настоящая несущая ,… Война, Смерть, порой случайную и нелепую и в очень-очень юном возрасте, зачастую , еще даже не успев познать женщину во всей ее плотской красе-естестве!
К весне, в первом эшелоне, т.е. на территории Германии, Бонапарт смог сосредоточить лишь ок. 200 тыс. солдат, которые уже были не те, что когда-то.
Впрочем, все уже было не то…
… иногда, в популярной литературе встречается утверждение, что армия, в основном, состояла из безусых юнцов, почти детей (!), из наборов будущих лет. А 16-ти и 17-ти летних мальчиков, прошедших только двухнедельную военную подготовку, вроде бы и вовсе прозвали «мари-луизочками». Франция обезлюдела: не осталось мужчин и даже юношей; теперь ненасытный молох наполеоновских войн поедал отроков! И Бонапарт уже откровенно играет ва-банк! Рассказывали, что в запале он вроде бы заявил: «Если понадобится, я вооружу и женщин!» На самом деле, это – шутливое прозвище солдатиков а уже действительно состоявшего из 16-17-ти-летних мальчишек, после двух недель азам военного дела и сразу же брошенных на передовую. О начале их призыва объявила тогда в Сенате императрица Мария-Луиза (). В результате удалось набрать 180 тыс. ополченцев Национальной гвардии первого разряда, избежавших зачисления в регулярную армию в основном по причине хрупкости телосложения ()… Кстати, («»), Les Marie-Louises не зимне-весеннего призыва 1813 г, октябрьского набора 1813 г., отсюда и название в этом кроется второй смысл прозвища, указывавший на «женственность» именуемых
Так или иначе, но французский император объявил тотальную войну всей Европе…
Собрав новую армию, Наполеон приготовился остановить русское наступление в Европе на крупных водных преградах – Висле, Одере, Эльбе. В его распоряжении уже не было таких ярких личностей как: Массена по ряду объективно-субъективных причин «вышел-таки из игры», Мюрат предпочитал «зад`ёрживаться» в Италии, Сюше «увяз» в тягучей войне в Испании, Лефевр «присматривал» за «жеманно-галантным» Парижем, Ожеро из-за возраста и ранений уже был не в форме и всячески «косил» от армии, Брюнн уже давно был в опале, Бернадотт и вовсе считался «своим среди чужих», а почетных маршалов-стариков Бонапарт по ряду причин и вовсе не брал в расчет в активной войне! Оставались, правда, еще в строю маршалы Даву, Ней, Бертье, Бессьер, Сульт, Макдональд, Мортье, Удино, Виктор, Мармон и Лоран (Гувьон) Сен-Сир.
Именно последнему – одному из самых оригинальных маршалов в военачальнической обойме амбициозно-агрессивного французского императора, снова облачившегося в походный мундир «генерала Бонапарта» – выпадет совершенно особая участь в грядущей кампании, причем, вовсе «неласковая».
Глава 2. Художник, чертежник, архитектор, актер, музыкант…, маршал Франции и ее военный министр!
Отец, разностороннеодаренного от природы (.) маршала Франции (27 августа 1812 г.), графа империи (1808 г.), генерал-полковника кирасир (с 6 июля 1804 г. по 5 декабря 1812 г.), ставшего 21 августа 1817 г. после Второй Реставрации Бурбонов еще и маркизом, симпатичного, обязательного и совершенно непроницаемого (13.IV.1764, Туль, департ. Мерт, Лотарингия – 17.III.1830, Йер, департ. Вар, Прованс), Жан-Батист Гувьон (1742—1821), выходец из семейства состоятельных потомственных (с XVII в.) мясников и торговцев кожами (дубильщиков?) был женат на девице Анне-Марии Мерсье . он перепробовал много профессий: чертежник, актер, музыкант, архитектор; по крайней мере, так принято считать прозванного » (L, homme de glace) и (Le Hibou) «Человеком из льда «Совой» Сен-Сир (Но не Saint-Sire – «Святой Государь», а просто .) Saint-Сyr Лорана Гувьона Сен-Сира,
Благодаря его сыну эта фамилия вошла в историю Франции, в частности, ее военного пантеона.
После семейной драмы, которая произошла в семействе Гувионов вскоре после рождения Лорана (мать бросила мужа, оставив ему 3 детей, и ушла к другому), все детство мальчику не хватало материнской ласки и заботы. Он получил обычное для молодого буржуа образование в местной школе. В юности увлекался литературой и математикой, изучал греческий язык и латынь. Но больше всего он любил рисовать. Многочисленные родственники его отца, служили офицерами в артиллерии. Вот и юный Лоран не по своей воле пошел по накатанной стезе: его определили в качестве вольнослушателя в Артиллерийское училище города Туля. Однако, несмотря на учебу в военном училище, юноша никак не связывал свое будущее с ремеслом солдата. В конце концов, все пересилила страсть к рисованию. В итоге в возрасте 18 лет Лоран отказался от военной карьеры, решив всецело отдаться служению искусству: свободная жизнь художника гораздо больше его привлекала, чем суровые будни армейской службы.
Рано повзрослевший строптивец Лоран оставил родительский дом и отправился искать счастья в столицу, в Париж. Здесь он поступил учеником в мастерскую художника Брене, и приобрел профессию художника. Затем отправляется в Италию для знакомства с работами знаменитых итальянских мастеров и совершенствования своего профессионального мастерства. Это неблизкое путешествие из-за отсутствия денег он совершил пешком. До нас дошли весьма профессиональные рисунки юного Гувьона, относимые к началу 1780-х гг.
Вернувшись на родину, не имевший никаких средств к существованию, молодой художник поступает в одну из третьеразрядных театральных (комических) трупп, становится актером. Он переиграл массу ролей как классического, так и современного французского репертуара. Особых лавров в сценическом искусстве он не снискал. Скорее всего, высокий, представительный и по натуре серьезный, Лоран лучше смотрелся бы в трагедиях. В общем, этот вид его творчества не остался в памяти людской. Все очень просто: художник по призванию стал актером по необходимости. (естественно, на ту пору!)
Возможно, молодой Лоран продолжил бы поиски своего пути в жизни, но тут, весьма кстати, доведенный до крайности народ взял Бастилию и наш герой с радостью и восторгом ищущей, творческой души «ушел в революцию», как это случалось с очень многими из его сверстников, причем, независимо от их социального и общественного статуса.
… так будет с немалой частью молодежи и в канун, и после октябрьского переворота кумачевой сволочи в России! Впрочем, это всего лишь «оценочное суждение»… Кстати,
Скорее всего, это была именно та среда, та «отдушина», где жадный до жизни во всех ее проявлениях Гувион смог найти выход для своих недюжинных творческих способностей, правильное применение которым он до сих пор никак не мог найти. Правда, в первые годы революции никакого участия в событиях, сотрясавших Францию, он не принимал, оставаясь типичным обывателем, сторонившимся политики.
С началом в сентябре 1792 г. Революционных войн Французской республики против 1-й коалиции европейских монархических государств, поставивших перед собой цель подавить революцию во Франции силой оружия, и первых неудач французской армии в стране начался мощный патриотический подъем. Тысячи парижан вступали тогда в батальоны волонтеров (добровольцев), чтобы с оружием в руках защищать революционные завоевания французского народа. Одним из таких патриотов был и Лоран Гувион, записавшийся в сентябре 1792 г. добровольцем в 1-й батальон парижских волонтеров. Оказавшись в армии, он принимает псевдоним «Сен-Сир» (), под которым и вошел в историю. как утверждают некоторые источники – по фамилии матери?
К немалому удивлению своих революционно настроенных друзей, потребовавших объяснения – что это значит – молодой эстет, поклонник изящных искусств и ценитель прекрасного, ответил, что Гувионов (Гувьонов) в революционных армиях Франции много, из-за возникающей по этой причине постоянной путаницы, вследствие наличия нескольких Гувьонов, он хотел бы таким образом отличаться ото всех остальных.
Поскольку 1-й батальон парижских волонтеров вошел в состав Рейнской армии, которой в то время командовал генерал А. Кюстин, то с 1792 по 1797 гг. Гувьон, ставший Сен-Сиром, воевал на Рейне, в Германии.
Даже на фронте бывший Гувьон, а ныне – – нашел применение своему художественно-графическому дару. Точные военные карты нужны были всегда и как человек знакомый с чертежным делом Сен-Сир был сразу же определен на службу в штаб армии с чином старшего сержанта. Уже через полтора месяца как специалист, хорошо зарекомендовавший себя на штабной работе, он получает чин капитана (ноябрь 1792 г.). За время службы в армейском штабе ему не раз приходилось проводить сложные топографические съемки, в том числе и в горной местности. Во время этих работ Сен-Сир научился хорошо оценивать местность не только в тактическом, но и в оперативном отношении, что в немалой степени способствовало расширению его военного кругозора. Кроме того, он упорно работал над собой, осваивая основы военного дела, буквально штудируя труды по военному искусству и военной истории, и достиг в этом деле значительных успехов. Сен-Сир
Своими познаниями в военных вопросах он со временем превзошел даже офицеров, имеющих военное образование. Усердие и способность молодого штабного офицера были замечены командованием и оценены по достоинству: у него начинается рост в чинах и в конце 1793 г. он уже – подполковник.
После года кропотливой работы в штабе, обогащенный солидными теоретическими знаниями (пониманием тактики и стратегии), Сен-Сир решает попробовать себя на фронте и ходатайствует перед командованием о переводе в действующие войска.
И вот в конце все того же 1793 г. он получает назначение на должность начальника штаба дивизии (у генерала Ферино), а вслед затем (в декабрь 1793 г.) принимает под командование полубригаду в Рейнской армии, которой тогда командовал генерал Пишегрю. Уже в ту пору его отличали строгий расчет и методичность в подготовке и проведении операций. Он всегда стремился уменьшить возможные потери в боях. Слушая раскаты артиллерийской канонады, солдаты весело посмеивались: «Это наш Сен-Сир играет в шахматы с австрийцами».
Он настолько хорош во время знаменитого контрнаступления Гоша в конце 1793 – начале 1794 гг., в результате которого противник был отброшен за Рейн, что в январе 1794 г. его производят в полковники. В кампании этого года (5 июня 1794 г.) Сен-Сир получает чин бригадного генерала, а буквально через 5 (!) дней (10 июня 1794 г.) – и дивизионного (!) генерала, возглавив 2-ю дивизию численностью свыше 11 тыс. чел. (9,5 тыс. пехоты, 1,8 тыс. кавалерии и 150 артиллеристов) из состава Рейнской армии (генерала Мишо). () Таким образом, к 30 годам Сен-Сир достиг высшего во французской революционной армии воинского звания. Вышестоящие начальники характеризуют его с блестящей стороны, особо подчеркивая, что он был безупречен на всех должностях, которые он занимал. Тогда как 1-й дивизией командовал знаменитый уже тогда генерал Дезе, будущий герой Маренго!
…, 26 февраля 1795 г. 30-летний генерал женился по любви на 19-летней кузине Анне (1775—1844). Рано осиротевшая невеста с тринадцатью братьями и сестрами не могла принести мужу ни богатства, ни влиятельных покровителей. Просто Лоран очень полюбил жену – умную, веселую, немного импульсивную в поступках и пылкую в чувствах. Ему очень нравились ее стройная фигура, карие глаза, светлые, с рыжинкой, волосы, правильные, хотя и неяркие черты лица и даже нос, может быть, чуть более длинный, чем того требуют каноны классической красоты. Умение Лорана всегда держать себя в руках и обоюдная любовь сохранили их союз на долгие 35 лет. В отличие от многих маршалов, Сен-Сир не увлекался амурными похождениям ни в Париже, ни на местах боевой службы, благо что всю Европу ему довелось исколесить вдоль и поперек. Он был образцово показательным мужем. Для полноты семейного счастья супругам не хватало только детей. Очень долго «Бог и природа» не давали им этих «плодов любви». Чудо случилось только через двадцать лет! У них наконец родился сын Лоран Франсуа (1815—1904). Ему было суждено прожить 89 лет! Среди современных потомков маршала есть и те, кто пошел по линии их знаменитого предка, став офицерами французской армии… Между прочим Гувьон
В кампанию 1795 г. Сен-Сир снискал известность одного из лучших дивизионных командиров французской республиканской армии – «и в горести и в радости» – стойко воюя в рядах знаменитой Рейнской (Рейнско-Мозельской) армии, служа под командованием замечательных революционных генералов Журдана, Гоша и Моро, причем, два последних считались среди полководцев той поры безусловными звездами первой величины. В 1796 г., находясь в составе армии генерала Моро, Сен-Сир являлся одним из ближайших сподвижников Моро, командуя сильным 25-тысячным корпусом. Отважно сражался под Майндемом, Эттлингеном и Нересгеймом, он отличился в сражениях при Фридберге (24 августа 1796 г.) и Биберахе (2 октября 1796 г.).
Правда, в некоторых неудачах армии принято считать наличие доли вины самого Сен-Сира. Из-за сложного и несговорчивого характера его отношения с Моро, командующим Рейнской армией, испортились. Одной из главных причин стали разные взгляды на тактическое взаимодействие между отдельными армейскими корпусами, куда входили пехота, кавалерия и артиллерия. Сен-Сир, получивший под свое командование столь мощный корпус, полагал, что теперь как командир столь крупного соединения имеет право на большую самостоятельность в своих действиях. В итоге разногласия между двумя генералами не утихали ни на минуту и закончились открытым разрывом. Как результат в сражениях при Энгене и при Мескирхе, в которых Моро пришлось столкнуться с огромными трудностями, Сен-Сир не принял активного участия и появлялся на поле боя лишь в самом конце боев, когда повлиять на результат уже было невозможно. Штабные офицеры Моро открыто обвинили Сен-Сира в предательстве и нежелании действовать сообща. Гувьон, оскорбленный такими речами, прекратил «сотрудничество» с армией Моро и ограничился руководством только своим корпусом.
… принято считать, что уже тогда отчетливо проявилась одна очень серьезная черта характера Сен-Сира – независимость не только в своих суждениях, но и независимость во всем, даже если это касается ведения войны. Очевидно, что его «опоздание» во время сражения при Мескирхе спасло австрийцев от полного разгрома. Оправдываясь, Лоран говорил лишь одно: он не получал никаких приказов, несмотря на твердые уверения Моро в том, что приказы ему направлялись. Никакие доводы ни Моро, ни офицеров штаба не действовали на Сен-Сира. Гувьон был непреклонен в своей позиции и заставить его изменить свою точку зрения было нереально. Если он в чем-то был уверен, то переубедить его не удавалось. В подтверждении собственной правоты Лоран мог приводить все новые и новые доводы. Нужен был вышестоящий человек, чей авторитет был бы непререкаем, чья сила духа и воли, чей магнетизм подавлял бы на столько, чтобы Гувьон согласился бы выполнять все отдаваемые ему приказы беспрекословно. Как показала практика только гений Бонапарта справлялся со строптивцем Сен-Сиром. Так, получив как-то от Массена известие о назначении его на должность командующего Неаполитанской армией, Лоран открыто счел подобное решение неразумным. Более того, Сен-Сир отправился в Париж, чтобы окончательно прояснить ситуацию, получив инструкции непосредственно у самого Наполеона. Однако Бонапарт не стал вникать в детали, и, тем более, выслушивать аргументы своего известного упрямством подчиненного. Рассказывали, что он по-армейски просто сказал генералу, что если через два часа карета последнего не будет на дороге, ведущей из Парижа в Неаполь, то еще до полудня его «расстреляют на Гренельском поле». Бонапарт умел столь беспрекословно и аргументировано отдавать приказы, сопровидив их своим почти немигающим взором серо-стальных глаз из-под нахмуренных бровей, что даже строптивый Сен-Сир счел за благо немедленно последовать его приказу и невероятно быстро покинул столицу Франции в южном направлении. Холодный ум Лорана быстро просчитал, что хуже угрозы военным трибуналом для военных не бывает: после него следует приказ расстрельной команде, которая крепко знает свое незамысловатое дело! В общем, то ли – быль, то ли – все же небыль… Другое дело, что в армии – без армейских баек не бывает… Между прочим, (да и то не всегда!)
Но уже несколько дней спустя после «неувязочки» -«непонятки» под Мескирхом Лоран в блестящем стиле разбил противника у Бибераха. Австрийцы после сражения при Мескирхе отступили так быстро, что генерал Моро не рассчитывал настигнуть их на следующий день. Именно Сен-Сир получил приказ поспешать к Бибераху, небольшому городку, лежащему на путях отхода австрийцев. Однако, прибыв туда, Сен-Сир обнаружил не отступающих в беспорядке австрийцев, а, наоборот, наступающего противника, который перешел обратно Дунай и собирался оборонять городок из-за больших складов, находящихся там. Австрийский командующий расположил часть своих войск на дороге, ведущей к Бибераху, а основные силы позади города – на главенствующих высотах. Гувьон быстро определил все несомненное превосходство позиций австрийцев и остановился, не решаясь атаковать их своими численно уступавшими силами. По началу он собирался дождаться подхода дивизии Нея, но та словно сквозь землю провалилась. Но выход из тупика все же нашелся: оказалось, что на подходе другая французская дивизия – генерала Ришпанса. Лоран мгновенно сориентировался и, задействовав эти войска, предпринял наступление на передовые части австрийцев, оборонявшие дефиле. Атака получилась на загляденье красивой и эффективной: противник был смят и отброшен к высотам.
Теперь предстояло взять сильные позиции врага за городом. Здесь за рекой Рис и болотом, на высотах чуть ли не 60 тыс. солдат противника стояли в боевом порядке. Какое-то время Сен-Сир размышлял, где лучше всего нанести главный удар. Тем более, что у него было всего лишь чуть более 20 тыс. человек, а «окопавшийся» противник превосходил его почти в трое! Во все времена для штурма укрепленных позиций врага такое соотношение сил считалось губительным, а последствия атаки более чем туманными! И все же, взвесив все «за и против» и, найдя-таки слабые места в построении австрийцев, Лоран решился на атаку. Перейдя реку и болото и приблизившись к высотам, он, разделив свои силы на три колонны, быстро пошел на противника. Все было взвешенно и продуманно. Будучи одним из самых способных тактиков во французской армии, Сен-Сир, видел, что на одной чаше весов были численное превосходство и нерешительность, на другой – решимость, храбрость и вера в успех. Несмотря на плотный артиллерийский и ружейный огонь австрийцев, французы упорно шли на штурм высот. Действия Сен-Сира были столь стремительны и точно рассчитаны, что противник оказался опрокинут и пустился в паническое бегство.
После завершения Рейнской кампании 1796 г., закончившейся для французов неудачей и отставкой Моро, между боевыми соратниками произошла размолвка. Считается, что причина могла заключаться категорическом отказе Сен-Сира от участия в некой политической интриге, вроде бы задуманной Моро.
Эстет по натуре, Сен-Сир увлекался военным искусством как таковым и ничему больше не хотел отдавать предпочтения и тем более – ввязываться в непонятные и неприятные ему политические интриги. Суть дела заключалась в том, что в руках Моро случайно оказалась тайная переписка генерала Пишегрю с французскими эмигрантами. Но Моро скрыл захваченные у врага письма, решив использовать полученную информацию в собственных интересах. С этой целью он попытался привлечь на свою сторону Сен-Сира, предложив ему выработать совместный план действий. Но тот ответил, что его дело как солдата сражаться с врагами на поле боя, а не заниматься политическими интригами, и покинул армию.
Прибыв в Париж, Сен-Сир около года оставался не у дел. Лишь осенью 1797 г., после окончания войны и заключения 17 октября того года Кампоформийского мира, он был назначен командующим французскими войсками в Риме. На этом посту он должен был сменить генерала Массена, который своими действиями вызвал сильное недовольство солдат и офицеров, грозящих поднять мятеж. Страсть к накопительству, которую почти единодушно отмечали у Массена современники, не способствовала популярности этого генерала в войсках, которыми ему было поручено командовать. Случалось, что он, порой, буквально вымогал у своих солдат деньги и трофейные ценности, если узнавал, что они у них есть. Лихоимство старого контрабандиста в Риме и его окрестностях, вызвало настоящее возмущение, а войска и вовсе отказались выполнять любые его приказы. Оставлять подобного командующего в войсках, доведенных до отчаяния вороватостью армейских поставщиков, с которыми Массена всегда жил душа в душу, означало играть с огнем. Директория не рискнула усугублять ситуацию и отозвала генерала во Францию, заменив его Сен-Сиром.
Прибыв к своему новому месту службы 26 марта 1798 г., новый командующий всего за четыре дня благоразумными мерами дал всем понять «кто в доме хозяин» и немедленно арестовав всех недовольных офицеров, успокоил войска и восстановил дисциплину.
Правда, вскоре по причине подковерных интриг «сильных мира сего», связанных с армейской коррупцией, Сен-Сира смещают с должности и отзывают в Париж, передав командование назначенному вместо него генералу Ж. Макдональду. С тех пор Сен-Сир затаил глубокую обиду на этого генерала (затем маршала Франции), хотя тот никакого отношения к смещению своего предшественника с должности не имел.
Покидая Рим, Сен-Сир был уверен, что его военная карьера закончилась. Но он ошибся. Когда в конце 1798 г. образовалась Вторая антифранцузская коалиция европейских держав против республиканской Франции Сен-Сир снова понадобился – тем более, что значительная часть французских генералов во главе с Бонапартом увязла на востоке – в Египте.
Директория отправила его командовать дивизией в армию, которая сосредоточивалась на Рейне, в районе Майнца. Но в начале 1799 г. он был переведен в Дунайскую армию (генерал Ж. Журдан), где командовал сначала дивизией, а затем корпусом. Участвовал в сражении при Остерахе (21 марта 1799 г.), а через 4 дня отличился в другом сражении – при Штокахе (25 марта 1799 г.). Однако вскоре чрезмерная осторожность, а порою и нерешительность командующего армией, вызвала резкое недовольство Сен-Сира. Разногласия с Журданом по оперативным вопросам явились причиной, заставившей его покинуть Дунайскую армию. Сославшись на болезнь ( – ), он подал в отставку и уехал в Париж. Сен-Сир никогда не отличался крепким здоровьем и это правда!



