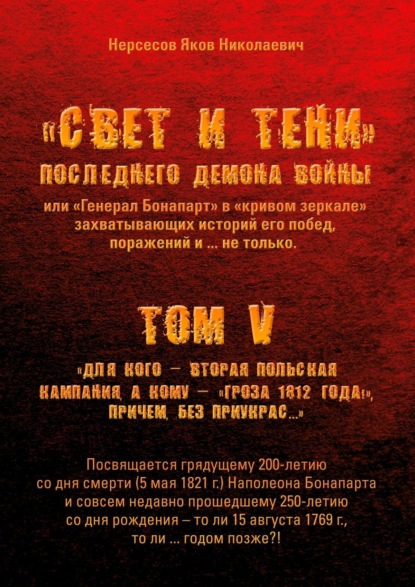
Полная версия:
«Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том V. Для кого – Вторая Польская кампания, а кому – «Гроза 1812 года!», причем без приукрас…
При этом значительная часть вышеперечисленных авторов не знала многих важнейших деталей, необходимых для планирования, в силу отсутствия нужной информации, особенно о состоянии Великой армии Наполеона, а зачастую и русских сил, расположенных на границе.
Так, «победитель непобедимого Буонапартии» под Прейсиш-Эйлау () Л. Л. Беннигсен советовал дать французам генеральное сражение недалеко от Вильно. А суворовский выученик П. И. Багратион , мысля категориями своего великого учителя , и вовсе изначально предлагал своему государю сугубо наступательную войну против Наполеона, т.е. первым нанести превентивный удар. Стотысячную армию предполагалось двинуть на варшавское предместье Прагу, занять ее и Варшаву. Таким образом, театр военных действий был бы сразу перенесен по дальше от границ российской империи. Следующей целью становился бы Данциг. Резервный 50-тысячный корпус двигался бы позади на случай парирования возможных контрударов со стороны Наполеона. Но дальше Польши двигаться не предполагалось, т.е. все зависело от того, как сложится обстановка. План азартно-рискового героя авангардно-арьергардных боев Багратиона был рассчитан сугубо на срыв стратегического развертывания всех сил Великой армии, лишение ее выгодного плацдарма в Польше, оставление без поддержки со стороны поляков и австрийцев, в немалом количестве служивших в рядах наполеоновских войск. И действительно, когда значительная часть сил армии Наполеона, вторгшейся в Россию, начала бы проникать в нее все дальше и дальше, то эффективность такого удара могла показаться весьма большой. Если бы армию Багратиона, начавшую громить гарнизоны, продовольственные магазины и дальние тылы Бонапарта, поддержала бы 3-я Обсервационная (или, 3-я Западная) армия А. П. Тормасова , то Наполеону пришлось бы существенно корректировать свои оперативные планы. Это вполне могло бы ослабить давление на отступавшую под его безусловным численным напором 1-ю Западную армию Барклая. Кое-кто полагал, что такая «диверсия» якобы могла поменять ход событий в Отечественной войне 1812 года. Тем более, что после успехов Тормасова 15 июля 1812 г. под Кобрином, Бонапарту действительно придется спешно передислоцировать союзный ему австрийский корпус Шварценберга и лишь после того как последнему с помощью двух спешно приданных ему ударных польских дивизий удастся-таки отбросить Тормасова, обстановка на правом фланге наступающей Великой армии несколько успокоится. Безусловно, Багратиону, одному из наиболее ярких (вместе с Милорадовичем, Каменским 2-м и др.) учеников непобедимого «русского Марса» был присущ некий авантюризм, но и здравый смысл его, порой, тоже «не обходил стороной». И он сильно рисковал бы, отрываясь от своих тылов!? Но, так или иначе, в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств эта задумка последователя «русского Марса» так и осталась на бумаге: вести наступательную войну против ни русский царь, ни общество, ни народ еще не были готовы. Да и армия была уже не та, что при Аустерлице или под Прейсиш-Эйлау, как качественно, так и психологически: лучшие из лучших уже полегли костьми () на тех и другие полях Европы в предыдущих войнах с «корсиканским выскочкой», последний раз – под Фридляндом. вернее, первым «сыгравший с ним в ничью» (так его наряду с Милорадовичем, и отчасти, Н. М. Каменским-2-ым, было принято величать в советской историографии, с чем, кстати, отнюдь не все согласны) (опять-таки, согласно советской исторической науке) (а может быть и Дунайская армия адмирала Чичагова?) (или, все же, последователей полководческой доктрины?) (что, скорее, ёмче и доходчивее?) Последнего Демона Войны так всегда бывает!
Кроме того, Наполеон – гениальный полководец – конечно, не исключал возможности такого контрманевра русских и предписывал начальнику своего штаба быть готовым к выпадам русских против его правого крыла, ставя задачей непременно уступать им территорию справа. Более того, полагалось максимально выдвинуть свое левое крыло вперед для сильного давления на русских и угрозы на стратегическом направлении – Минск, Смоленск и далее… (Багратиона, чуть и не единственного в генеральской обойме русского царя, он ценил весьма высоко)
Особняком стоит мнение одного из руководителей Особенной канцелярии (или Особого комитета) военного министерства участника, между прочим, легендарного Бородинского сражения, подполковника Петра Андреевича Чуйкевича (1783—1831) – – очень хорошо информированного лица о состоянии дел в Великой армии и знакомого с большинством военных проектов, как правило, попадавших в Особенную канцелярию и хранившихся в ее архиве. Считается, что это был выдающийся руководитель, поставивший на профессиональные рельсы службу внешней разведки российской империи. Он лично неоднократно посещал Пруссию для сбора разведывательной информации. Его глубокий аналитический ум очень импонировал Барклаю, ценившему таких людей и всегда прислушивавшемуся к их мнению. (т.е. военной разведки), фигуры до последнего времени малоизвестной широкой публике
В своей обобщающей записке от 2 апреля 1812 г. для М. Б. Барклая де Толли Петр Андреевич подвел итог анализу секретных данных, накопленных в течение длительного времени, и выработал конкретные рекомендации русскому командованию.
Чуйкевич очень аргументировано обосновал суровую необходимость стратегического отступления как можно дальше назад от границы с порабощенной Наполеоном Европой, что максимально истощало бы его Великую армию и, в конце концов, позволяло бы рассчитывать на благоприятный исход войны с . «… Совершенное разбитие 1-й и 2-й армий может навлечь пагубные последствия для всего Отечества. Потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целостность государства состоит в целостности его армий. Уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении войны: суть меры для Наполеона новые, для французов утомительные и союзникам их нетерпимы. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык, и успехи свои основывать на свойственной ему нетерпеливости от продолжающейся войны, которая вовлечет его в ошибки, коими должно без упущения времени воспользоваться, и тогда оборонительную войну переменить в наступательную…»; «… заманить противника вглубь и дать сражение „со свежими и превосходящими силами“» – писал он своему начальнику и, естественно, государю. Последним Демоном Войны
Это официальное письменное заключение Чуйкевича, построенное на огромном объеме секретной информации, несомненно, убедительно аргументировало идею необходимости стратегического отступления.
… в отечественной литературе принято считать, что в преддверии войны российская разведка переиграла французскую по всем статьям. Еще в начале 1810 г. военный министр Александра I Барклай-де-Толли представил своему императору план секретной операции по сбору развединформации о состоянии дел в Великой армии Наполеона, уже явно собиравшегося воевать с Россией. Немало потрудился над ее созданием князь Петр Михайлович Волконский, который после Тильзита специально побывал в Париже для изучения устройства победоносной французской армии и ее генштаба. Как результат после его возвращения из французской столицы в России был создан специальный отдел для координации деятельности русской военной разведки «Экспедиция секретных дел при Военном министерстве», потом переименованный в «Особенную канцелярию при военном министерстве». Разведкой Барклая поочередно руководили полковник полковник граф и подполковник/полковник . Все трое не только были высокообразованными специалистами, владевшими европейскими языками, но были лично хорошо известны Михаилу Богдановичу: первый с ним воевал со шведами в 1808—1809 гг., а второй и вовсе какое-то время являлся его старшим адъютантом. В крупнейшие европейские города наполеоновской империи – Париж, Мадрид, Берлин, Вену, Дрезден и Мюнхен были посланы шесть особо подготовленных армейских офицеров в качестве военных атташе при русских посольствах и консульствах. Родина должна знать своих героев: в Вене – полковник-квартимейстер в Берлине – еще один полковник-квартирмейстер (его затем сменил поручик ), в Мюнхене – поручик , в Дрездене – майор участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова и в Мадриде – поручик . Все они – лично известные самому императору () – настолько хорошо послужат отчизне, что со временем станут… генералами! Как известно, 2 раза в месяц на стол французского императора клалось «священное досье» – совершенно секретный документ, подготовленный в одном единственном экземпляре и только для императора о детальном состоянии дел в Великой армии, планомерно готовившейся к вторжению на необъятные просторы российской империи. Шесть секретных агентов Барклая кропотливо собирали всю важнейшую информацию о любых «телодвижениях» в Великой армии. Ключевую роль в этой шпионской деятельности играл знаменитый «русский Казанова», светлейший князь Александр Иванович Чернышев (1785—1857) – блестящий русский офицер, полковник, флигель-адъютант российского императора, участник войн с Бонапартом в 1805, 1806, 1807 гг. в рядах привилегированного Кавалергардского полка. Этого весьма «оригинального» человека – невероятно удачливого разведчика, лихого «партизанского» командира и… беспощадного (в будущем) палача декабристов – специально послали к Наполеону в Париж для передачи личной переписки между вершителями судеб (французским и российским императорами), поделенной ими в Тильзите Европы. Неутомимый как павиан «секс-угодник», русский красавец, покорил массу нужных ему высокопоставленных дам в столице Франции, по слухам вплоть до любимой сестры Бонапарта любвеобильной красавицы Полины Боргезе. Ее сердце он завоевал, когда лично вынес из огня на руках во время пожара в австрийском посольстве, случившемся на приеме по поводу женитьбы ее брата на австрийской принцессе. И хотя тогда он спас и ее сестру Каролину, и даже жену маршала Нея (!), но в интимное доверие (проникнуть в ее «райские врата») ему удалось войти лишь к Полине – изысканной коллекционерше легендарных красавцев-«жеребцов». Но это так сказать – секс-присказка! Александр Иванович действительно умел ладить со всеми, кто ему был нужен в тот или иной момент. Считается, что его уважал сам Бонапарт и счел возможным его присутствие в решающем сражении на очередной войне с Австрией в 1809 г. – знаменитом своим кровопролитием Ваграме. Более того, Александр Иванович, после победного окончания той весьма непроста складывавшейся для Наполеона войны, получил от него очень высокую награду – орден Почетного Легиона. Чернышев с профессиональным блеском провел операцию по получению копий со «священного досье» французского императора. В его «обойме» секретных агентов оказался уже давно завербованный русской разведкой Морис Мишель, ведавший секретным делопроизводством генерального штаба Бертье, который за 30 тыс. франков почти два года «сливал» всю секретную информацию о состоянии дел в Великой армии. Рассказывали, что «в сетях» русского «нелегала» оказались и такие крупные «рыбы», как генерал Антуан-Анри Жомини из штаба маршала Нея и даже «дерьмо в шелковых чулках» экс-министр иностранных дел Талейран. Последний и вовсе предупредил русского царя, что нападение на Россию состоится в апреле 1812 г. Дотошный министр полиции Наполеона Рене Савари не раз докладывал своему хозяину о разведывательной деятельности спецпредставителя Александра I полковника Чернышева в Париже. Но Наполеон, ослепленный своим могуществом и крайней обходительностью Александра Ивановича пропускал всю информацию своего ушлого «цепного пса» мимо ушей. Он лишь ухмылялся: «Вы плохо разбираетесь в людях Савари! Чернышев слишком большой повеса, „облагодетельствующий“ дам, чтобы быть… шпионом!» Только в феврале 1812 г. стало ясно, что всезнающая «ищейка» Савари был прав, а его всемогущий император глубоко заблуждался, но уже было поздно: легендарный «русский Казанова» очень во время покинул Париж и оказался недоступен разъяренному французскому императору – властелину континентальной Европы. Французская секретная полиция обнаружила в его парижской квартире под ковром письмо, подписанное буквой «М», по которой и был вычислен «крот» во французском военном ведомстве. Мориса Мишеля арестовали и гильотинировали, но было уже поздно: секретная информация успела уйти к русским. Нельзя исключать, что «утечка» этой информации могла быть искусно «разыграна» самим Чернышевым? Возможно, наш герой-любовник «просчитал», что его время секретного спецагента «с двойным дном» уже вышло: прямо перед отъездом одна из его высокопоставленных пассий сообщила своему «жеребцу-мустангу», что «грозовые тучи над ним сгущаются». Дабы не быть снова посланным в Париж – «логово врага», где его уже ждет провал – наш лихой разведчик, исчезая со всей своей секретной информацией на родину, предпочел сдать врагу своего «джокера» и тем самым закрыть тему своей секретной службы на благо родины, когда война уже вот-вот грозила начаться. Впрочем, это всего лишь предположение, но «нет дыма – без огня»!? Именно доклад непревзойденного дамского угодника Александра Ивановича Чернышева императору Александру I и военному министру Барклаю о строгой необходимости избегать в предстоящей войне в Бонапартом генерального сражения в приграничье России и максимальном затягивании оборонительной войны, как путем, единственно ведущим к благоприятному исходу для российского императора, сподвигли Александра I и его военного министра склониться к мысли о неизбежности планомерного отступления вглубь необъятной «матушки» -России. Окончательно убедили их в этом уникальные по своей стратегической глубине вышеупомянутые докладные записки главного аналитика в Особом комитете военного министерства Барклая подполковника П. А. Чуйкевича. Дальнейшие события показали, что русские все правильно рассчитали, а генерал-«математик» Бонапарт… роковым образом просчитался. Более того, помимо стратегической разведки по указу Барклая активно велась тактическая контрразведка. Так большой удачей русского командования стал двойной агент отставной ротмистр Давид Саван из прусских дворян, проживавший в Варшаве. Именно с его помощью удалось организовать одно из крупнейших мероприятий по дезинформации Наполеона: через Савана куратору разведслужбы герцогства Варшавского генералу Станиславу Фишеру был передан подложный приказ Барклая-де-Толли о дислокации русских войск в преддверии их будущей войны с Францией и о том, как планируется ее вести. Главное в нем было то, что русские сами не пойдут через Неман, но обязательно дадут генеральное сражение агрессору в приграничной полосе. Кроме того, в начале 1812 г. российский император вместе с исполняющим обязанности начальника Генерального штаба генералом Беннигсеном демонстративно произвел рекогносцировку местности в районе г. Вильно. Во многом опираясь на эту лже-информацию Савана Наполеон нацелился на разгром русской армии именно в приграничной битве, тогда как у русских был свой совершенно иной план ведения войны со столь опасным в открытом бою Бонапартом и его численно превосходящими силами. Ответные ходы французского императора не были столь же эффективны! Так агенты русской контрразведки сумели не единожды вскрыть секретную шкатулку французского посла в Петербурге А. Нарбонна с инструкцией с секретными заданиями по подготовке сбора разведданных перед походом в Россию вплоть до вербовки ближайшего окружения российского императора, в том числе, особ женского пола особо приближенных к его… августейшей особе. Кроме того, там оказались досье на 60 видных российских генералов с полной характеристикой их деловых качеств… Кстати, он утверждал их кандидатуры [Александр Иванович «рожден был хватом» и со временем стал не только генералом от кавалерии (1826), но и военным министром России (1832—1852) и даже председателем Государственного совета (1848—1856)!]. (летучего армейского конного отряда в тылу врага) (спецпредставителя в ту пору еще очень нужного ему венценосного союзника Александра I) (по выражению Бонапарта) [Как раз такие «дамские гладиаторы» (от глагола – …), чаще всего и бывают шпионами экстра класса!] гладить (по долгу службы!) (судя, по посту?) (не единожды передаваемую им французам в разных инстанциях) Алексей Васильевич Воейков, Арсентий Андреевич Закревский Петр Андреевич Чуйкевич Федор Васильевич Тейль фон Сераскиркен, Роберт Егорович Ренни Григорий Федорович Орлов Павел Христианович Граббе Виктор Антонович Прендель — Павел Иванович Брозин
Глава 3. Что было на самом деле?
Исследователи, адекватно воспринимающие извилисто-туманный ход отечественной истории полагают, что в канун «Грозы 1812 года», генерал от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли был лицом наиболее компетентным и облеченным доверием российского императора – человека, в силу ряда не единожды вышеупомянутых объективных и субъективных причин, очень непростого («непрозрачного»). (т.е. не сквозь призму конъюнктурного «ура-патриотизма», типа «кони – быстры, сабли – востры» или, как писали в ХХ веке: «броня крепка и танки наши быстры»! )
Еще за два года до изложенных выше докладных записок Чуйкевича – 2 марта 1810 г. – военный министр М. Б. Барклай де Толли положил на стол российского императора свою записку «О защите западных пределов России», где детально рассматривались против армии Наполеона. По сути дела это был план подготовки войны с французским императором. Правда, потом еще будет несколько барклаевских уточняющих вариантов ведения военных действий как превентивного, так и оборонительного характера, но основная идея уже была ясна. все возможные будущие действия
Можно сказать, что очень во время вспомнили как удачно действовал почти 100 лет назад в ходе Северной войны со шведами государь Петр I : со своим многочисленным воинством он методично уходил от решающего столкновения с образцовой на тот момент, но компактной, европейской армией выдающегося полководца-короля Карла XII. Истощив ее арьергардными боями и всякого рода диверсиями, Петр Алексеевич принял сражение только тогда, когда это было выгодно его сильно численно превосходящим войскам под Полтавой и, безоговорочно выиграл его. (кстати, предпоследний царь – действительно Романов по крови!) (а это самый сложный вид военных действий)
План военного министра Барклая-де-Толли выглядел так: помня горькие уроки Аустерлица и Фридланда на территории «нейтральных» стран (Австрии и Пруссии), как можно дольше уклоняться от генерального сражения, где военный гений Наполеона проявляется в полной мере и где равняться с ним невозможно. Это позволит заманить неприятельскую армию вглубь необъятной российской территории, а значит, приведет к распылению сил вражеских полчищ на большой враждебной им территории и удалению основной массы войск от продуктовых баз. (Прейсиш-Элау стоит в этой череде крупных сражений особняком: Бонапарт, все же, недооценил русских – Беннигсен, отчасти, «переосторожничал» в критические для противника моменты)
…, рассказывали, что якобы идею заманивания Наполеона вглубь необъятных просторов России, которая с таким блеском потом была осуществлена Барклаем в 1812 г., он сам впервые предложил еще в далеком в 1807 г. в «легендарном» разговоре с немецким историком Б. Г. Нибуром. Но поскольку свидетельство об том разговоре полученно из третьих рук, а до Александра I якобы дошло и вовсе через «пятые уши» (Нибур – Г. Ф. К. Штейн – К. Ф. Кнезебек – Вольцоген – Фуль), то оно вызывает большое сомнение и весьма похоже на так называемый испорченный телефон… Между прочим
Считается, что секретность этого «скифского» плана медленного отхода вглубь страны, которую по мере отступления надлежало превратить в выжженную, бесплодную пустыню, была столь высока, что военный министр Барклай-де-Толли, на котором замыкались все планы ведения войны, не мог их обнародовать. Обещая в начале войны своим военачальникам скорый переход в наступление либо генеральное сражение с супостатом, но при этом планомерно отступая глубь страны, он порождал у них нервозность и соответствующие разговоры, а затем и «телодвижения», которые, в конце концов, приведут к его отставке в самый критический момент войны. (Впрочем, естественно, не все с этим «тезисом» согласны.)
Как военный министр, Барклай отвечал в целом за подготовку к войне, как генералу, ему вверялась самая большая по численности 1-я Западная армия. Скорее всего, он был единственным, кто из царского окружения мог в ту непростую пору претендовать на эту ответственнейшую роль, по крайней мере, к этому склоняется большинство отечественных авторитетных историков.
Скорее всего, уже в 1811 г. план Фуля должен был маскировать настоящий ход подготовки к войне. Не исключено, что под его прикрытием Барклай с согласия императора Александра I дотошно разрабатывал и модифицировал совершенно секретный истинный план (планы) военных действий Разработанный к весне 1812 г., он (они) держался (лись) в такой строжайшей тайне, что в него (них), судя по всему, не были посвящены даже крупнейшие военачальники, т.е. о нем (них) знал Во всех них (планах) обязательно подчеркивалось, что . Фраза Барклая «действовать по обстоятельствам» звучала как лейтмотив, и она очень часто встречалась в проектах, приказах, деловой переписке военного министра. Он понимал, что командующему необходимо предоставить широкую самостоятельность в выборе тактических решений, а не сковывать жесткими рамками столь присущих прусским военным-схоластам разных времен и калибров. Не случайно в его проектах сразу закладывались несколько возможных ситуаций, лишь контурно определялись действия русских частей и не ставились точные ограничения в географических пределах, что создавало предпосылки для проявления инициативы младшим военачальникам. Это были не регламенты, а не просто очень узкий круг лиц, а – ? единицы реальности войны могут оказаться богаче довоенных представлений и предвидений набор возможных «вариантов» к действиям . согласно быстро меняющейся оперативно-стартегической боевой обстановке
… благодаря блестяще действовавшей разведке Александр I и Барклай получили возможность разработать трехлетний стратегический план войны с Наполеоном. Первый период (1812 г.) – затягивание войны по времени и вглубь русской территории, а затем (1813 – 1814 гг.) – перенос боевых действий в Европу. Пожертвовав тактическими преимуществами, русский царь (и его военный министр) поставил во главу угла стратегическую задачу и выиграет войну 1812 г. и это станет началом агонии наполеоновской империи… Между прочим,
Остается лишь удивляться, что основная идея этого плана (планов) не была разгадана многоопытным Наполеоном и он дал заманить себя в ловушку – на необъятные просторы России. Не пройдет и года как русские пространства и климат поглотят его Великую армию, а его звезда стремительно покатится вниз с небосклона. Но все это будет потом… (или, так сложилось?)
В тоже время, хотя стратегическая линия ведения войны была русскими выработана уже тогда, но не менее важный оперативный план военных действий, все еще, не был окончательно оформлен.
Глава 4. К вопросу о «наполеоновских» планах Бонапарта
В свое время было принято сомневаться по поводу наличия у Бонапарта четко разработанного плана боевых действий против России, тем более, на случай – если война затянется? В том числе, собирался ли он сразу идти на Петербург или на Москву?
Судя по последним данным, план войны с Россией французский император разрабатывал единолично, особо не раскрывая «своих карт» даже среди своего ближайшего окружения. По началу, Наполеон явно не собирался вторгаться далеко вглубь российской территории, поскольку не стремился завоевать всю Россию Скорее всего, он надеялся с помощью молниеносного стратегического окружения загнать русских в «котел» например, Гродненско-Слонимский и расправиться с ними в генеральном сражении, подобном Аустерлицкому. После чего следовало немедленно заключить мир, превратив Россию в «послушного вассала», идущего в фарватере определенного, устраивающего Наполеона внешнеполитического курс. («Что знают двое – то известно „подушке/подстилке“ одного из них!?») (с учетом ее грандиозных размеров и природно-климатической специфики – это было просто не реально). (не более 20 дней?) (что-то типа Ульмского окружения?),
Следовательно, для него было бы предпочтительно, чтобы первыми войну начали русские, причем, вторжением в герцогство Варшавское и Пруссию. Тогда бы у него была отличная возможность, используя свое громадное численное преимущество, не вторгаясь в необъятные русские просторы, стремительно «закруглить» войну в свою пользу на землях «компактных» Пруссии и Польши. Более того, с политической точки зрения в глазах просвященных европейцев цивилизованный французский император предстал бы в самом лучшем свете: как-никак, жертва варварской агрессии «коварного и ужасного русского медведя»!



