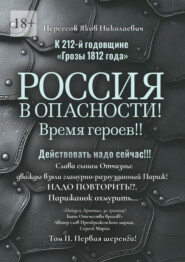
Полная версия:
К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том II. Первая шеренга!
…Между прочим, только русским солдатам, офицерам и генералам за победу под Кульмом предназначался в награду Кульмский крест. Первоначально это должен был быть известный прусский ор. Железного креста. До этого им награждались лишь единицы среди прусских военных, но поскольку король решил наградить им ок. 12 тыс. русских гвардейцев, то ор. Железного креста был переименован в Кульмский крест. Разница во внешнем виде наград различалась в отсутствии на Кульмском кресте даты «1813» и вензеля прусского короля Фридриха-Вильгельма III. Всего было выдано 11.563 креста: 443 офицерских и 11.120 солдатских. Любопытно, что от царя солдаты за Кульм получили по… два рубля! Такова воля монарха…
Правда, победа над одним из лучших наполеоновских генералов (недаром он реально претендовал на маршальский жезл!) Ван Даммом досталась Александру Николаевичу дорогой ценой – ему ядром раздробило левую руку! Теряя сознание во время ампутации ее остатков, он успел только прошептать: «Вот как я заплатил за честь командовать гвардией. Я доволен…» Генерал от инфантерии, граф Остерман-Толстой сполна выполнил свой воинский долг, геройски завершив свой боевой путь под Кульмом…
…Кстати, именно это страшное ранение еще больше прославило имя графа Остермана-Толстого. Русский художник Василий Кондратьевич Сазонов написал картину, изображающую бесстрашного генерала во время хирургической операции над ним прямо на поле битвы под Кульмом. А ведь ещё ранее, 9 мая 1813 года, в сражении под Бауценом он был ранен пулей в то самое плечо. Видно суждено ему было лишиться именно этой руки…
За эту победу народ Чехии преподнёс герою сражения подарок. В Государственном Историческом музее хранится кубок, поднесенный «храброму Остерману от чешских женщин в память о Кульме 17 августа 1813 года», и мундир, в котором был Остерман-Толстой в том бою.
…Между прочим, за отличие (и тяжелое увечье) в той важнейшей битве Остермана-Толстого награждают еще одним орденом Св. Георгия – теперь II-го кл. Cкажем сразу, что наградной список за без малого 30 лет (с 1788 по 1817 гг.) безупречной службы Отечеству российского генерала от инфантерии Александра Николаевича Остермана-Толстого впечатляет особо. Вспомним все его регалии: орден Св. Андрея Первозванного (17.09.1835), орден Св. Георгия IV-го кл. (25.03.1791, №827 (440)) – «За отличную храбрость, оказанную при штурме крепости Измаила, с истреблением бывшей там армии»; орден Св. Георгия III-го кл. (08.01.1807, №137) – «В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении 14 декабря при Пултуске против французских войск, где, командуя левым флангом корпуса, благоразумными распоряжениями подкрепил отряд генерал-майора Багговута, на который неприятель имел сильное нападение»; орден Св. Георгия II-го кл. (19.08.1813, №52) – «За поражение французов в сражении при Кульме 17 и 18 августа 1813 года»; орден Святого Владимира 1-й ст.; 2-й ст. (07.03.1807); орден Святого Александра Невского (26.08.1812 – за Бородино), с алмазами (1813); орден Святой Анны 1-й ст. (1807); золотая шпага «за храбрость» с алмазами (1807); Прусский орден Черного Орла (1807); орден Святого апостола Андрея Первозванного (1835); Прусский орден Красного Орла 1-й ст.; Австрийский Военный орден Марии Терезии 2-й ст. (1813, за Кульм) и Прусский Большой Железный крест (1813, за Кульм)…
Уже в начале 1814 года Остерман-Толстой вернулся в Петербург и сразу же 05.03.1814 был назначен генерал-адъютантом Александра I. В этом качестве находился до самой смерти императора.
С 16.12.1815 он – шеф лейб-гвардии Павловского гренадерского полка.
С 16.4.1816 – командир гренадерского корпуса.
17.08.1817 года Остерман-Толстой получает чин генерала от инфантерии, но его здоровье после тяжёлых ран было настолько подорвано, что он в этом же году освобождается от командования корпусом и увольняется в бессрочный отпуск, хотя продолжает числиться на военной службе.
В начале 1820-х годах Остерман-Толстой жил в Петербурге в своем доме на Английской набережной (сегодня это – дом 10).
…Между прочим, в 1822 году Остерман-Толстой поселил у себя на Английской набережной своего дальнего родственника, известного русского поэта Фёдора Тютчева, семья которого давно дружила с Остерманами. Не исключено, что именно Тютчев спустя годы познакомил за границей Остермана-Толстого с некой итальянкой из Пизы, от которой граф имел детей. Правда, по воспоминаниям адъютанта И. И. Лажечникова, произошло это уже после смерти его законной благоверной Елизаветы Алексеевны. Остерман выдал потом «свою итальянку» с богатым приданым за её соотечественника, детям дал хорошее воспитание и обеспечил их будущее…
Во время подавления восстания декабристов в 1825 году некоторые восставшие офицеры (Д. Завалишин, Н. Бестужев и В. Кюхельбекер) укрылись в доме Остермана-Толстого, расположенном на Английской набережной. В числе декабристов оказались родственники Остермана, за которых он безуспешно хлопотал.
В 1828 году граф Остерман ездил представиться новому императору Николаю I, чтобы предложить свои услуги на время Турецкой кампании; его предложение не было принято.
Остермана окончательно уволили от службы с разрешением ехать за границу.
В 1834 один из самых ярких русских генералов-героев Отечественной войны 1812 г. навсегда покинул Россию, поселившись в Женеве. Там, в своем кабинете, он повесил портрет Ермолова, служивший ему живым напоминанием славного прошлого. В частности, его «звездного часа» в кампании 1806—1807 гг., когда они оба прославили русское оружие в кровавых битвах с лучшими наполеоновскими маршалами и им самим.
…Кстати сказать, когда праздновался 20-летний юбилей славной Кульмской победы над Вандаммом и открывался памятник ее героям, царь Николай I вспомнил о ее творце и выслал личное приглашение Александру Ивановичу в Женеву вместе со знаками ордена Св. Андрея Первозванного. Граф, генерал от инфантерии Остерман-Толстой проигнорировал приглашение, а пакет от русского императора так остался нераспечатанным до самой его смерти. Александр Иванович уже давно жил в сугубо ему приятном мире воспоминаний о славном прошлом, очевидцем, участником и отчасти, вершителем которого ему посчастливилось быть…
30 января (11 февраля) 1857 года Остерман-Толстой умер в Женеве в очень преклонном для людей, прошедших через все ужасы наполеоновских войн, возрасте – в 86 лет! Позже ушел лишь его близкий «собрат по оружию» из первой шеренги героев Отечественной войны 1812 г. – Алексей Петрович Ермолов. В мае того же года его прах был отправлен в родовое село Красное в Рязанской губернии.
…Кстати, со смертью А. И. Остермана-Толстого в отсутствии его законных детей вновь мог прерваться род Остерманов. Знаменитую фамилию должен был принять племянник графа, осуждённый декабрист Валериан Михайлович Голицын, но он и его дети были восстановлены в правах только в 1856 году. И только в 1863 году право наследования фамилии, титула и майората Остерманов «по высочайшему утверждению» получил сын В. М. Голицына – Мстислав, который стал именоваться «князь Голицын граф Остерман»…
P.S. Почти все, кто знали Остермана-Толстого считали его… Баловнем Судьбы! Возможно, такая оценка Александра Ивановича происходила из-за того, что он был чертовски красив, невероятно богат (служил Родине не за деньги, а по призванию), а древностью происхождения с ним мало кто из современников-соратников мог потягаться. Спору нет – все так! Будучи от природы человеком впечатлительным, он порой проявлял в быту (но не на поле боя!) нервозность: мог быть надменен и презрителен с одними (теми, кто в нем в первую очередь видел богатейшего графа Остермана) и доступным и доброжелательным с другими (кому он был просто «братом по оружию»). Свое огромное состояние он тратил на нужды своих нижних чинов, в частности, его любимого Павловского гренадерского полка. Так, ставший со временем известным писателем И. И. Лажечников («Последний Новик», «Ледяной дом» и др.), несколько лет был его адъютантом и многим был обязан своему командиру. Именно литературный дар Лажечникова оставил потомкам очень емкую и доходчивую характеристику Александра Ивановича: «Этот мужественный человек сочетал в себе рыцарство военного с оттенком рыцарства средневекового, что придавало его облику особую утонченность и благородство». Граф Остерман-Толстой – один из немногих подлинных героев войн России с Наполеоном, кто ушел из жизни много позже своей героической эпохи, причем, за рубежом. Рассказывали, что в последние годы генерал «… Стоять и Умирать!» или как его весьма точно окрестил, познакомившийся с ним уже на склоне лет, А. И. Герцен «непреклонный старец» очень часто, будучи философски настроенным, повторял одну и ту же риторическую фразу: «Да… как человек и как солдат, видел я… красные дни»…
Так сложилось, что этот исторический персонаж с его бурной на события биографией никакого отображения в отечественном кинематографе не получил, даже в кино-эпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука 1965—67.
Русский «однокашник» Наполеона, или Дмитрий Михайлович Голицын
…В жарком деле под Голыминым французам так и не удалось выйти в тыл русской армии и отрезать ее от переправ через реку Нарев!
В который раз всех поразила стойкость русских солдат. Они дрались молча, их нельзя было ни сломить, ни устрашить. Русские шли в штыки без стрельбы, чтобы не терять времени при сближении. Штыками орудовали мастерски, падали и умирали без стонов. Улицы Голымина были завалены умирающими и ранеными…
Когда опустилась ранняя декабрьская ночь, под покровом темноты русские ушли, потеряв около 3 тысяч убитыми. Французы не захватили ни одного пленного, ни одного знамени. Их собственные потери были еще больше!
И снова «решительного боя» не получилось – снова обескуражившая привыкших всех (австрийцев, русских, пруссаков…) побеждать французов «ничья»…
Любопытно, но командовал русскими… выпускник престижнейшей Парижской военной школы, причем, учившийся в ней почти в тоже самое время, когда в ней повышал свое военное образование сам Наполеон Бонапарт!
Парадоксально, но им оказался потомственный русский князь, из старинной аристократической фамилии Голицыных…
Потомственный князь (c 16.04.1841 – светлейший князь) Дмитрий Владимирович Голицын (29.10.1771, село Ярополец Волоколамского уезда Московской губернии —27.03.1844, Париж) – генерал от кавалерии (1814) и Московский градоначальник – происходил из московской ветви знаменитых князей Голицыных.
Его род шел от великого князя Литовского Гедимина, скончавшегося в 1341 г. Один из его предков Михаил Булгаков носил прозвище Голица. Считается, что оно шло от его привычки носить боевую металлическую рукавицу только на одной руке. Именно от этого Голицы и пошли князья Голицыны из Гедеминовичей. Они были крепко связаны родственными связями с правящей династией Рюриковичей, но и Романовы (не говоря уже, о заменивших тех на российском престоле «Гольштейн-Готторпоф», начиная, очевидно, с Павла I) были им родственниками.
По всему выходит, что среди российского генералитета той поры более древнего высшего аристократа, чем Дмитрий Владимирович Голицын и его брат Борис Владимирович не было.
Его отец, Владимир Борисович Голицын, отставной бригадир был женат на графине Наталье Петровне Чернышевой. Той самой, что послужила на склоне лет Александру Сергеевичу Пушкину прототипом для его знаменитой «пиковой дамы», которая умерла в 97 лет и имела обыкновение всех приветствовать сидя, кроме государя-императора.
Дмитрий был пятым ребенком и третьим (помимо Петра и Бориса) сыном.
Дедом Дмитрия Голицына был известный екатерининский вельможа адмирал князь Б. В. Голицын, человек очень авторитетный. К своим внукам он относился очень трепетно и всячески им помогал. Домашнее образование, полученное всеми детьми Голицыных, базировалось на французском языке, который они знали лучше своего родного.
Уже в три года Дмитрия зачислили в лейб-гвардии Преображенский полк.
В 10/11-летнем возрасте – уже сержантом – он был отправлен со старшим братом Борисом на учебу за границу в Страсбургский протестантский университет, один из лучших в Европе той поры.
После четырех лет учебы в 1785 Голицын был заочно произведён в вахмистры и зачислен в лейб-гвардии Конный полк.
Но учеба голицынского отрока на этом не закончилась: «гранит науки военной» ему (вместе с братом Борисом) пришлось познавать в престижнейшей Парижской военной школе. Той самой – в стенах которой почти в это же время (в 1784/1785 гг.) изучал «науку побеждать» будущий Последний Демон Войны – Наполеон Бонапарт, тогда еще всего лишь малоприметный маленький корсиканец Наполеоне ди Буонапарти.
…Между прочим, Парижская военная школа – одно из лучших военных училищ Европы той поры. После фиаско в Семилетней войне (1756 – 1763) французский король Людовик XV, стремясь восстановить реноме французской армии, провел два важных мероприятия. В первую очередь он распорядился отправить своих офицеров, не раз битых прусским королем-полководцем Фридрихом II Великим, к… нему на учебу! Во-вторых, были созданы двадцать офицерских военных школ! Парижская военная школа по своему духу и царящим в ней порядкам была элитной – настоящий бастион роялизма и аристократии. Когда спустя годы разразится буржуазная революция, большинство ее выпускников покинут страну и даже будут сражаться против своей революционной родины под флагами разных стран чуть ли не четверть века! Но внесут свой вклад в историю военного искусства лишь два ее выпускника: всем известный Наполеон Бонапарт и один из его лучших маршалов Луи-Николя Даву…
За годы учебы за границей братья не только блестяще овладели французским и немецким, но получили очень серьезное военное образование, а Дмитрий еще и проявил недюжинные способности к математике. Чины нашему юному князю тем временем шли исправно.
Причем, как полагалось – в первый день Нового года:
01.01.1786 – корнет;
01.01.1788 – подпоручик;
01.01.1789 – поручик;
01.01.1791 – секунд-ротмистр;
01.01.1794 – ротмистр.
Только в 1789 г. возмужавший юнец знаменитого княжеского рода и вернулся в Россию.
…Между прочим, не все было гладко во время «зарубежной командировки» братьев в Париж. Так Дмитрий Борисович «отличился» со знаком «минус»! Уже будучи гвардейским поручиком, он принял деятельное участие в кровавых событиях Французской революции 1789 г.! С оружием в руках наш юный князь молодецки штурмовал… главную королевскую тюрьму Бастилию вместе с парижской чернью. Но матушка-«императрица», крайне отрицательно относившаяся к революционным событиям в Париже, памятуя о аристократическом происхождении бузотера Голицына снисходительно отнеслась к его (поручика-конногвардейца!)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



