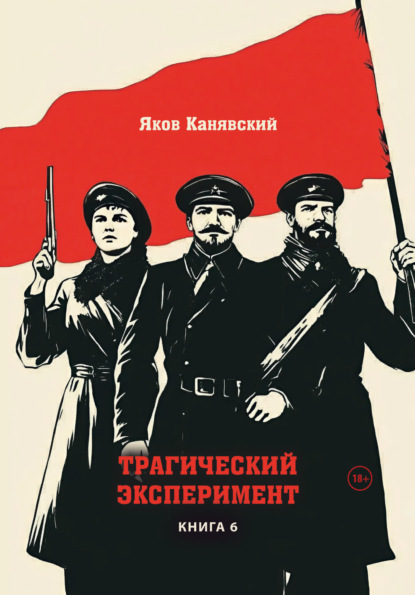
Полная версия:
Трагический эксперимент. Книга 6.
В то время он перенёс малярию и брюшной тиф. Указано, что больше он не болел, за исключением повторных приступов малярии. Крамер говорит, что его тяготили головные боли. Так вот, если человек уезжает из заражённого региона, то болезнь сходит на нет, и никаких повторных приступов не бывает (но это стало известно врачам только в 40‐х годах, из монографии Тареева). <…> Скорее всего, именно болезнь объясняет появление таких качеств, как бескомпромиссность, жёсткость, способность взять в руки палку (с А. А. Богдановым он хотел даже на Капри драться на палках). У пациентов с нейросифилисом наблюдается озлокачествление поведения: совершенно нормальный отец семьи становится деспотом…
Профессор Минор писал в своём учебнике по неврологии: «Такие больные должны быть удалены от дела, служащий должен взять отпуск и уехать в деревню для полного умственного и физического покоя или должен быть помещён в санаторий там же». Великий невролог настаивал, что психика больного сифилисом должна быть тщательно оберегаема во всей его жизни. А у нас такой пациент руководил страной в острый период – Гражданскую войну…»
По поводу медицинского заключения 1924 года Валерий Новосёлов имеет возражения:
«Во-первых, использован термин Abnutzunsgsclerose в заключительной части, что в переводе на русский язык с немецкого обозначает «склероз от изнашивания». Такого термина не существует, не существовало, никто никогда ни до, ни после смерти Ульянова его не использует. Это единичный случай в мире. Почему в акте, который написан на русском языке, а он объёмный, использован один термин на немецком языке, причём, даже назвать его термином нельзя? Теории атеросклероза как следствия износа сосудов уже в начале ХХ века были несостоятельными. Есть расхождения в заключительной части, результативной, и в описательной части.
Если вдаваться в описательную часть, атеросклероз у пациента был по возрасту, то есть он действительно был, но он не являлся причиной его смерти. Сосуды описаны не как атеросклеротические. Для атеросклероза характерны поздние пятна и бляшки, то есть вещи, ограниченные по длине сосуда. Сосуды описаны совершенно по-другому. И Семашко (там было два наркома на вскрытии – Семашко и Обух; оба занимались здравоохранением, Обух – московским, а Семашко был наркомздравом РСФСР) написал статью, тема которой «Что же дало вскрытие тела Ульянова?» И он описывает, как свидетель, эти изменения сосудов как шнуровые: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения, речи, в левом полушарии, оказались настолько изменёнными, что представляли собою не трубочки, а шнурки». Обычная логика говорит о том, что шнур – это не бляшка. <…> Поэтому встаёт вопрос: что же это было? Почему никто никогда не поднимал такие вопросы? А кто должен был поднимать? До разрушения Союза в 1991 году такие вопросы поднимать было невозможно, это опасно было и административным преследованием, и уголовным наказанием. До 1999 года доступ к документам был ограничен. Сегодня ограничения сохраняются. Документы нельзя получить. У нас есть документ – акт патологоанатомического исследования, сделанный Абрикосовым, к которому мы все, врачи, испытываем очень большое уважение. Любого врача спроси, кто такой академик Абрикосов, все скажут, что это основатель отечественной патологической анатомии. Его знают врачи всех специальностей. <…> Я считаю, что в этой ситуации коллеги заслужили право на историческую правду. Потому что кроме пациента у нас ещё есть врачи, которые сегодня находятся в неудобной позиции: их до сих пор обвиняют в том, что якобы лечили «не от того» и «неправильно». Это первый миф, который должен уйти из исторической повестки. На самом деле лечение было правильным, соответствующим самым высоким стандартам. Лечившие Ленина врачи не могут уже сказать ничего в силу того, что прошло 100 лет. Но коллеги из будущего, то есть мы, должны сказать слово за этих врачей. <…> Сейчас для нас есть три источника знания о причинах смерти Ленина – тело Ленина; остатки его мозга, которые находятся в музее медицины, который сейчас в здании бывшего московского Института мозга; патологоанатомическое заключение, которое у меня есть в доступе, поскольку оно в свободном обращении находится с момента опубликования в газетах в январе 1924 года, и медицинская документация пациента. Документации было много, я знаю, что были ещё дневники психологов, логопедов, которые работали с Ульяновым. Есть ли история болезни – я не знаю. Возможно, дневники лечащих врачей являются единственным надёжным документом. В них нет ни одного диагноза, часто записи сокращённые, нет точных дозировок. Но клиническое мышление было сто лет назад таким же творческим, как и сейчас. И я прекрасно понял этих врачей – что они делали, как они делали. Там есть мнение врачей, которые были консультантами, те же Бехтерев, Авербах, Россолимо. Этот документ очень интересный, насыщенный информацией. 410 страниц – сами понимаете, есть что прочитать. <…>
Что касается патологоанатомического акта, я специально попросил в архиве оригинал акта вскрытия тела Феликса Эдмундовича Дзержинского, умершего в возрасте 48 лет в 1926 году. Его вскрывал тот же самый специалист, что и Ленина, – Абрикосов, как я уже сказал, специалист высочайшего уровня. Красивым языком описан атеросклероз у Феликса Эдмундовича! У Ленина этого нет. Описано другое заболевание. Это не вызывает сомнений. В конце есть какое-то странное заключение. Вскрытие Ленина продолжалось довольно долго – 3 часа 10 минут, как написано в самом акте. В воспоминаниях, которые написал Алексей Иванович Абрикосов в 1939 году, к 40‐летию своей профессиональной деятельности, с которыми меня знакомила его внучка Наталья Юрьевна Абрикосова, указано время – 3 часа 50 минут.
Это время очень большое для такого профессионала. Тем более там было 11 человек! Мы не знаем, был ли прозектор, но в комиссии были врачи. Мне кажется, время избыточное. У меня такое впечатление, что вот это дополнительное время ушло на согласование с Политбюро конечного диагноза. Усадьба в Горках была телефонизирована, для тех лет это была редкость. Ульянов выбрал усадьбу Морозовых, потому что там был телефон. И я думаю, что время ушло на то, что Семашко связывался с членами Политбюро, чтобы согласовать диагноз. Диагноз этот как бы исходит из рациональных соображений и наводит на мысль о том, что всё логично. Но с точки зрения рационального мышления здесь подходить нельзя. <…>
Очень странным был и отбор самих врачей для лечения. Ленин – историческое лицо, которое оставило след в истории такой, что никто его не забудет, а врача ему назначают какого-то неизвестного Алексея Михайловича Кожевникова. Это странно. А три выдающихся невролога московских – Лазарь Минор, Григорий Россолимо и Ливерий Даркшевич – почему-то не участвуют в лечении и консультациях Ленина. Даркшевич до первого инсульта даёт какие-то редкие консультации, Россолимо – одну консультацию 29 мая. И больше мы их не видим. Минор посылает Василия Васильевича Крамера, помощника. Удивительно. В моей книге делаются предположения, почему так произошло. Почему у нас пациент – выдающееся лицо историческое, первое лицо государства, нового государства, а ему назначают такого вот неизвестного врача. Почему меняли врачей? Почему врач Алексей Михайлович Кожевников не вёл Ленина с начала и до конца? Почему на какой-то стадии его поменяли на Василия Васильевича Крамера? Почему Крамера поменяли на Виктора Петровича Осипова, помощника Бехтерева?
Судьба почти всех известна. Были и расстрелянные врачи, и погибшие. Известна история с отравлением Владимира Михайловича Бехтерева, который был консультантом Ленина и мнение которого чётко записано в этих дневниках. Он, судя по всему, был человеком очень упрямым и настойчивым. Выдающийся учёный – его именем названо, по моим подсчётам, 47 симптомов, синдромов и болезней. Я не знаю, кто-нибудь ещё больше что-нибудь сделал, чем Бехтерев в медицине?! Моё мнение такое – была негласная договорённость между врачами, которые лечили Ленина, и Политбюро: «Вы молчите – мы вас не трогаем». И действительно долго не трогали.
Но в 1938 году расстрелян терапевт Лев Левин, расстрелян сын Гетье, Александр Фёдорович Гетье. Фёдор Гетье, личный врач семьи Ульяновых, умирает сразу после этого, потому что сын у него был единственный. Гетье тогда было уже за 70, и он не перенёс этого горя. Расстрелян Попов Николай Семёнович – молодой врач, который с весны 1923 года выполнял функции помощника санитара и молодого врача при Ленине. Он стал замдиректора Института мозга. Расстрелян тоже в 1938 году. Расстрелян начальник охраны, кто-то в 1920‐х годах сослан в ссылку».
Новосёлов обратился в архив за разрешением на копирование «Дневника…», но получил отказ. И более того, доступ к документу вообще закрыли, хотя по закону 75‐летний срок секретности истёк в 1999 году. Оказалось, что «секретность» продлили ещё на 25 лет – по просьбе племянницы Ленина Ольги Ульяновой (умерла в 2011 году).
Врач Новосёлов подал иск в суд с требованием признать незаконным продление срока ограничения допуска к дневникам врачей Ленина и рассекретить документы. В марте 2018 года Замоскворецкий районный суд столицы в удовлетворении иска отказал.
Доктор философских наук Игорь Чубайс считает очень важным, что Валерий Новосёлов, профессиональный врач, впервые изучивший полтысячи страниц закрытых документов, касающихся болезни Ленина и, кроме того, проанализировавший исторические свидетельства о жизни и деятельности Ивана Грозного, поставил обоим пациентам квалифицированный медицинский диагноз. Результаты исследования врача стали стимулом и дополнительным аргументом в пользу интересных выводов.
Новосёлов показал, что после 1555 года царь Иван IV, а В. Ленин – после 1892 года (обострение – с 1922) страдали от сифилитического расстройства. В обоих случаях болезнь дошла до третьей стадии – нейросифилиса. Для страдающих таким недугом характерны психическая неуравновешенность, периодические приступы агрессии и не спровоцированной жестокости, тяжёлые головные боли, а также отсутствие жизнеспособного потомства в силу врождённого сифилиса либо рождение больных детей.
Медицинское заключение о болезни Ивана Грозного хорошо коррелирует с историческим описанием периода его правления. Конечно, поведение человека невозможно изобразить одной краской. Верно, что Иван Грозный был в числе самых образованных людей своего времени. При нём были вдвое расширены русские владения, был разработан единый Судебник. Царь начал созыв Земских соборов, правда, затем сам же их и прекратил… Характерно, что многие его достижения оказались временными. В правлении Грозного досоветские историки выделяли два периода – ранний и поздний. Среди личных «поздних» качеств особо отмечались подозрительность и мстительность. Непомерная жестокость царя сделала его правление непохожим на всё происходившее до и после него. Историки считают, что Грозный – единственный русский царь, получивший такое устрашающее прозвище – лично обрёк на смерть от 3 до 5 тысяч ни в чём не повинных людей.
Анализируя конкретные политические процессы, необходимо напомнить, что Иван IV вошёл в историю как организатор ряда военных походов. С третьей попытки, в 1562 году, ему удалось взять Казань, но сделано это было с особой жестокостью. Осада города связана с огромными людскими потерями (впрочем, жестокость здесь была отчасти взаимной и стала ответом на 240‐летнее ордынское иго. Также кровавым стал поход Ивана на Великий Новгород (1569–1570), заподозренный в измене Москве. Террор против горожан была массовым, как и массовыми стали грабежи новгородцев.
Систематическая жестокость царя привела к фундаментальным изменениям всей концепции управления государством. Выражаясь современным языком, можно сказать, что при Грозном произошло разрушение основных госинститутов, на которых базировалась средневековая Русь. Прежде всего, ударам подверглась церковь и армия. Из-за кровавого насилия и беззакония, из-за бесконечных женитьб, несовместимых с традиционной русской культурой, Иван потерял поддержку православных верхов. Конфликт привёл к тому, что опричник Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, отказавшего царю в благословении.
Отвергнув русские традиции, царь был вынужден опираться не на стрелецкое войско, а на созданное им и подчинённое ему лично особое силовое формирование – опричнину. Последняя просуществовала всего 7 лет, но разрушенные ею правила и нормы удалось восстановить спустя десятилетия. Характерно, что безнаказанность и вседозволенность опричников привела их к скорому моральному разложению. Царь был вынужден распустить собственное войско, поскольку в критический момент оно разбежалось и не смогло противостоять шедшим на Москву крымским захватчикам.
Как анализирует Игорь Чубайс, большевицкий режим открыто отказался от права – и международного, и от всего корпуса российских законов. Была распущена Русская армия, создана Красная армия и особая силовая структура – ВЧК. Произошла национализация всей собственности… Репрессиям была подвергнута православная церковь, а ленинский «план монументальной пропаганды» уничтожал национальную память, русское культурное пространство и время… Ленин обещал «сломать старую госмашину полностью, до основания» и, увы, слово сдержал! В результате Россия перестала быть Россией и превратилась в СССР.
Практически ничто не связывало тысячелетнюю Русь и послеоктябрьский режим. Ничто, кроме… правление разрушавшего русскую государственность царя-абсолютиста Ивана Грозного сильно напоминало абсолютизм советских вождей. Большевики пытались провести свою квазилегитимацию не через Бога (с церковью они жестоко расправлялись), не по праву наследования (историю они вообще отрицают), не через свободные выборы. Большевицкая власть утверждала себя через миф о строительстве рая на земле – коммунизма и, как Грозный, через постоянные репрессии…
В этом контексте не удивляет медицинское заключение, о котором вспомним ещё раз. Причём если диагноз, поставленный Грозному, «высоко вероятностен», то диагноз, поставленный В. Ульянову, совершенно бесспорен. Его давно пора официально признать и прекратить утаивать от общества. Продолжающееся засекречивание, выгодное узкому кругу лиц, крайне невыгодно всей нашей стране, ибо препятствует правильной оценке и правильному пониманию российского исторического процесса.
Официальная версия гласит: после смерти вождя в Кремль хлынул поток писем и телеграмм с просьбами оставить тело великого человека нетленным, сохранив его на века. Однако никаких подобных посланий в архивах не обнаружено. Простой народ предлагал лишь увековечить память Ленина в грандиозных сооружениях.
Уже ко дню похорон Ильича – 27 января 1924 года – на Красной площади появилось странное здание. Мавзолей сразу был задуман в классической форме пирамидального зиккурата – оккультного сооружения древней Вавилонии. Зиккурáт (от аккадского слова sigguratu – «вершина», в том числе «вершина горы») – многоступенчатое культовое сооружение в Древней Месопотамии и Эламе. Здание трижды перестраивалось, пока в 1930 году не получило окончательный вид.
Рядом с мавзолеем в кремлёвской стене было устроено кладбище выдающихся деятелей коммунистического движения. Около мавзолея был учреждён пост № 1, и торжественная смена караула стала важнейшей частью атрибутики государства. Мавзолей посетили не менее 110 миллионов человек.
Начиная с момента своего сооружения, мавзолей использовался как трибуна, на которой появлялись деятели Политбюро и советского правительства, а также почётные гости во время торжеств на Красной площади. С трибуны мавзолея к участникам парадов обычно обращался с речью генеральный секретарь компартии.
26 марта начались процедуры мумификации красного фараона. Во временный мавзолей прибыли: патологоанатом В. П. Воробьёв, биохимик Б. И. Збарский и прозектор Шабадаш.
Все эти факты позволяют предположить, что мавзолей и тело Ленина являлись важнейшими символами большевистского государства. И даже когда Советский Союз исчез, а вместе с ним и многие его атрибуты, здание на Красной площади всё ещё стоит. Лежит там и мумия «вождя мирового пролетариата».
Более того, мимо продолжают проходить парады и демонстрации. Это здание и сегодня продолжает оставаться режимным объектом: его охраняет Федеральная служба охраны – та, что отвечает за безопасность высших лиц государства.
Очевидно, что это сооружение остаётся незыблемой частью какой-то невидимой системы. У образованных людей с самого начала большевизма возникал вопрос: откуда в атеистическом государстве такая тяга к оккультному? Большевики не поощряли религии, закрывали храмы, но вместо них построили зиккурат – ярчайшее напоминание о религии и мистических таинствах правящих классов Вавилона.
30 июля 1920 года Совет народных комиссаров принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». «Ликвидация мощей» началась в 1919‐м (реально – даже раньше, в 1917–1918 гг.). Ход её контролировал В. Ленин, а непосредственно вопросом занимался Наркомат юстиции РСФСР во главе с Д. Курским – «борьба с культом мёртвых тел» шла в рамках процесса отделения церкви от государства. «Мотором» кампании стал замнаркома П. Красиков. Кстати, внук протоиерея. К этой истории вообще активно приложили руку красные деятели вполне православного происхождения: те же Курский и Красиков, Н. Бухарин, Е. Преображенский (сын священника, отец ещё вёл службы).
Ключевую же роль играл ныне забытый экс-настоятель петроградской Спасо-Преображенской Колтовской церкви Михаил Галкин (1885–1948). После Октября он сам пришёл в Смольный, сказал, что готов служить новой власти в любой должности. Летом 1918 года публично отрёкся от сана, поступил к Красикову, разрабатывал первые советские антицерковные документы, стал консультантом ВЧК (ОГПУ) по религиозным структурам. «Перемётчик хуже врага» – Галкин знал церковь изнутри, знал её болевые точки. В те дни он подсказывал цели, лично выезжал на вскрытия мощей, писал хлёсткие репортажи.
Заметим, мощи – тема, скажем так, проблемная. Да, для верующих это святыни, само посягательство на которые – кощунство. Но когда при вскрытии раки того или иного святого выявлялись явные следы фальсификации нетленности, когда вместо праха усопшего обнаруживались, например, непонятный мусор и банка из-под фиксатуры «Брокар» (случай с мощами преподобного Павла Обнорского), – понятно, как использовали подобные факты большевики. Причём не будем говорить, что, мол, это «красные сами подбрасывали». «Борьба с мощами» была аморальна по сути – однако порядок вскрытия регламентировался чётко (и на соблюдение должных условий ещё раз обращало внимание постановление от 30.07.1920). Пусть под угрозой насилия, но раки вскрывали сами хранители-монахи в присутствии официальных лиц, под фото- или киносъёмку, с составлением акта и при свидетелях. Хотя последнее условие часто нарушалось: «понятыми», как правило, были местные жители, прихожане, посягательство на реликвии не раз вызывало взрывы возмущения, эксцессы. Отметим: постановление определяло и судьбу мощей – они передавались в музеи.
Патриарх Тихон не уставал повторять большевикам: не подменяйте понятия! Мощи для церкви – просто любые останки святых. Нетленность – условие желательное, но необязательное. Впрочем, он мог бы говорить что угодно, слышать его не собирались.
Кампания длилась до 1922 года (хотя рецидивы случались ещё долго). Стихла в общем-то сама по себе: большевики просто перебрали все основные «объекты».
Это вообще отвратительно – глумливо тревожить прах усопших. А тут чужие недобрые руки лазали в раки (ковчеги с мощами) Александра Невского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, других великих фигур, чтимых и Русской православной церковью, и просто всеми, кому дорога наша история…
Для примера можно привести описанный «Аргументами недели» сюжет с менее известными святыми – так называемыми «виленскими мучениками». Очень уж он показателен – особенно с высоты нашего нынешнего знания того, что было в стране потом.
«Виленские мученики» (или «Виленские угодники») – святые Антоний, Иоанн и Евстафий. Придворные литовского князя Ольгерда, они в час испытаний не отреклись от христианства – и, пройдя через пытки, были в 1347 году казнены (а в 1374‐м канонизированы). У этой земли непростая история – Великое Княжество Литовское без конца воевало, в том числе с Москвой, приняло унию с Польшей, образовав Речь Посполитую, в XVIII веке Речь Посполитую разделили соседи, и, в частности, Вильно при этом отошло Российской империи… Но для местных православных «виленские мученики» всегда были символом, знаменем и особо чтимыми святыми.
В 1915‐м, во время Первой мировой, ввиду угрозы захвата Вильно немцами архиепископ Виленский и Литовский Тихон распорядился отправить мощи угодников в Москву – там безопаснее. Хранились они в Донском монастыре. Считалось – временно.
Дальше Февраль 1917‐го. С падением монархии в России возобновилось патриаршество. Патриархом был избран именно Тихон. Тут – Октябрь. Глава церкви для большевиков стал главой «церковной контрреволюции».
Возможно, дело «о мощах виленских мучеников» оттого и раздули, что патриарх имел к ним непосредственное отношение. Хороший повод напомнить высшему духовному лицу, что вообще-то он ещё и просто гражданин Василий Иванович Беллавин. Можно таскать по судам, мотать нервы…
Когда в феврале 1919‐го стало ясно, что новая власть впадает в раж антицерковного разоблачительства, Тихон выпустил указ «Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей». Поручалось по возможности удостовериться – нет ли в раках-мощевиках чего-то, что может стать предметом осмеяния, использоваться в пропаганде. В Донском монастыре осмотрели (результаты осмотра были письменно зафиксированы) и останки «виленских мучеников». Отмечалась их нетленность, в том числе сохранность кожи. А тут как раз в 1918–1919 гг. стало известно и о двух случаях исцеления у мощей. Некая женщина, у которой давно были скрючены руки, молилась возле раки – и руки распрямились. Вслед за этим по просьбам верующих икона с вложенными частицами мощей «виленских мучеников» была отправлена в Гжатск в тамошний женский монастырь. Там к ней поднесли мальчика, у которого два года назад отнялись ноги. Мальчик икону поцеловал и… встал. О чём настоятельница монастыря игуменья Серафима Тихону сообщила.
Человек неверующий скажет, что для объяснения данных фактов надо разбираться с историями болезней, с диагнозами, что, возможно, имел место некий психологический эффект… Пусть так. Но помогло же!
Сообщения об исцелениях были обнаружены чекистами во время обыска в канцелярии патриарха. И 23 мая 1920 года в Донской монастырь заявилась комиссия от Наркомюста: следователь по важнейшим делам Шпицберг, чекисты Фортунатов и Шибов, доктор Грунганд и несколько понятых.
Видимо, здесь тот случай, когда одно и то же явление оценивалось в разных системах понятий. Церковь говорила о нетленности мощей. Доктор – о частичной мумификации трупов. И выдвигал версии, почему останки вполне сохранились. Возможно, были естественные причины. Возможно – следствие какой-то специальной обработки («омыления»). Ещё высказывалось предположение, что представленные тела относятся не к XIV веку, они, так сказать, «моложе» (но отмечалось, что тут требуется отдельное исследование).
При этом абстрактно-медицинский спор был частью спора политического. Началось следствие. Было заявлено, что факты исцеления – «религиозный шантаж», от монахов потребовали отказа от акта предыдущего осмотра останков (об их нетленности). Кроме того, заявлялось, что вообще не доказано – мучеников ли это тела? Что ж, паспортов при князе Ольгерде действительно не было.
Процесс по делу о «виленских мучениках» начался 3 июля 1920 года. На скамье подсудимых сидели немолодой монах Досифей («при мощах» он состоял ещё с Вильно) и гжатская игуменья Серафима. Несмотря на давление, они от прежних утверждений не отступились. Тихона взяли под домашний арест. Проходил свидетелем и «косвенным обвиняемым». На самом деле – главным. Собственно, ради этого всё и затевалось. Поскольку даже нельзя сказать, что подсудимым дали очень уж суровое наказание (по крайней мере, тут же амнистировали). Но как приятно самого Святейшего заставлять объясняться, осыпать издёвками, грозить ему…
Впрочем, это был не первый и не последний наезд советской власти на Тихона. Его мучительное и мужественное противостояние большевикам, постоянный выбор – где уступить, а где стоять насмерть – тема отдельная. Мы же о мощах. Об этих конкретных и вообще.
В 1924 г. умер Владимир Ленин. Теперь уже его соратники озаботились – как сделать тело своего кумира нетленным объектом поклонения? И сделали! И лежит оно до сих пор в Мавзолее. И сегодня уже другие люди говорят о фальсификации, подлоге, необходимости останки просто предать земле (совсем как «борцы с мощами» 100 лет назад).
Мощи «виленских мучеников» («три мумифицированных трупа», использовавшиеся «в целях религиозного обмана и противореволюционной агитации»), демонстрировались на «гигиенической выставке» Наркомздрава. Потом их отправили в музей.



