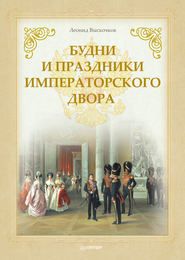
Полная версия:
Будни и праздники императорского двора
В конце 30-х и в 40-е гг. В. А. Соллогуб выступил с произведениями в жанре светской повести («Лев», «Медведь», «Большой свет» и др.)/ в которых с легкой насмешкой изображал пустоту и нравственную испорченность великосветского общества. В повести «Тарантас», написанной в форме путевых заметок (отдельное издание с иллюстрациями художника А. Агина в 1845 г.) реалистическое изображение нравов сочеталось со славянофильскими настроениями. Повесть вызывала недовольство консервативного общества. Рассказывая об одном обеде у некоего генерала, В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях язвительно заметил: «Итак, я присутствовал на этом обеде; хозяин, настоящий генерал, служака николаевских времен, сидел, разумеется, во главе стола на первом месте; я вовсе не потому, что имел дурную привычку пачкать бумагу, а потому, что носил камер-юнкерский мундир, сидел по правую руку хозяина; надо сказать, что в те отдаленные времена я имел честь быть не только модным писателем, но даже считался писателем вредного направления, и потому хозяин с самого начала отечески, но строго заметил мне, что "Тарантас" (Боже мой! Тогда еще говорили о "Тарантасе"), разумеется, остроумное произведение, но тем не менее в нем есть вещи очень… того… неуместные…»[86]
Были камер-юнкеры из числа местных чиновников. Чиновником особых поручений при Санкт-Петербургском гражданском губернаторе находился коллежский советник Николай Дмитриевич Бантыш-Каменский, сын тобольского и виленского губернатора Д. Н. Бантыш-Каменского, историка и внука историка-археографа. Перечислять можно было бы долго. Но самым известным камер-юнкером был, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин.
В конце декабря 1833 г. он был пожалован в камер-юнкеры, о чем писали через несколько дней фрейлина А. С. Шереметева и сам А. С. Пушкин. Поэт неожиданно узнал об этом на балу у графа Алексея Федоровича Орлова, будущего шефа жандармов после А. X. Бенкендорфа (с 1844 г.) и брата декабриста Михаила Орлова. В дневнике 1 января 1834 г. поэт лаконично и язвительно записал: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)… Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? Доволен, потому что Государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, – а по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставляли меня учиться французским вокабулам и арифметике»[87].
Благодарить за пожалование Пушкин демонстративно не стал. 17 января 1834 г. Пушкин сделал в дневнике помету о встрече с царем на балу у Бобринских: «Гос. [ударь] мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его»[88]. При дворе такое поведение сочли верхом неприличия. Придворный этикет был нарушен. 8 апреля 1834 г. А. С. Пушкин представлялся императрице Александре Федоровне. По свидетельству камер-фурьерского журнала отмечен прием в Золотой гостиной (после пожара в Малахитовом зале), где среди представлявшихся лиц через обер-камерге-ра графа Литту по случаю производства в чины, звания и другим случаям девятнадцатым чиновником по списку значится: «Камер-юнкер Пушкин благод[арит] за пож[алование] в сие звание»[89].
Однако на деле это представление прошло далеко не гладко. 8 апреля 1834 г. А. С. Пушкин записал в дневнике: «Представлялся. Ждали царицу часа три. Нас было человек 20. Брат Паскевича, Шереметев (В. А. Шереметев, орловский предводитель дворянства. – Л. В.), Волховский, два Корфа, Вольховский – и другие. Царица подошла ко мне, смеясь: "Нет, это беспримерно! Я себе голову ломала, думая, какой Пушкин будет мне представлен. Оказывается, что это вы… Как поживает ваша жена? Ее тетка (Е. И. Загряжская. – А. В.) в нетерпении увидеть ее в добром здравии, – дитя ее сердца, ее приемную дочь"… и перевернулась. Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже 35 лет и даже 36 (в подлиннике – на франц. яз. – А. В.)»[90]. Судя по всему, императрица стремительно отошла от А. С. Пушкина, не дождавшись слов благодарности, а реплика поэта в отношении Александры Федоровны – явный эвфемизм, который можно понимать двояко, в том числе и как издевку. Впрочем, по ряду свидетельств, в том числе и П. В. Нащокина, Александра Федоровна действительно нравилась Пушкину. На поздравление великого князя Михаила по случаю пожалования в камер-юнкеры Пушкин отвечал, что «.. до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили». Вероятно, осведомленный о реакции Пушкина, Николай I счел нужным обратиться к княгине Вере Вяземской со словами, которые предназначались для передачи поэту: «Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение»[91].
Но, по словам Льва Сергеевича Пушкина, поэт был взбешен. Отставной штаб-ротмистр А. Н. Вульф, сосед Пушкина по Михайловскому, записал в дневнике 19 февраля 1834 г.: «.. Поэта я нашел… сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева… Он говорит, что он возвращается к оппозиции»[92]. Тем не менее 28 февраля Пушкин с супругой присутствовал на придворном балу в Зимнем в связи с Масленицей. 4 марта А. С. Пушкин снова возил Наталью Николаевну в Зимний.
В принципе, пожалование камер-юнкером не могло быть слишком большой неожиданностью для Пушкина. Этот вопрос давно обсуждался в кругу его близких друзей. Еще в мае 1830 г. дочь М. И. Кутузова Элиза Хитрово, пользовавшаяся влиянием при дворе, хлопотала о придворном чине для Пушкина, что обеспечило бы его более прочное положение в обществе. Тогда А. С. Пушкин вежливо поблагодарил Элизу за заботу. «С вашей стороны, – писал он Хитрово, – очень любезно, сударыня, принимать участие в моем положении по отношению к хозяину. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Не вижу ни одного подходящего… Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что я бы стал делать при дворе?»[93] В марте 1834 г. Александр Сергеевич объяснил П. В. Нащокину: «…Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах – и верно не думал уж меня кольнуть»[94]. Но дело явно было не в возрасте. Среди камер-юнкеров Николая I шестьдесят девять лиц были моложе, зато двадцать три – старше Пушкина[95]. Вряд ли справедливо предположение, что поэт не пожелал воспользоваться покровительством А. X. Бенкендорфа, чтобы получить звание камергера, Николай I без видимых причин не пошел бы на нарушение субординации.
Но Пушкин был прав, понимая, что это пожалование вызовет насмешки в большом свете. В столице ходили слухи, что Пушкину дали звание камер-юнкера, чтобы «иметь повод приглашать ко двору его жену»[96]. Ни для кого не было секретом, что ухаживания императора за его женой стали приобретать все более откровенный характер. Впрочем, они никогда не выходили за рамки обыкновенного в то время флирта, характерного для Николая Павловича. Кроме того, это автоматически ограждало ее от преувеличенного внимания придворных дон-жуанов. Ведь все было на виду. Сам Николай I вспоминал, что часто встречался с ней в свете и искренно ее любил «как очень добрую женщину»[97].
Кроме того, в тот год Пушкин намеревался уединиться в деревне, чтобы сэкономить и поправить финансовые дела семьи. Теперь это стало затруднительно, так как перед Натальей Николаевной в возрасте 22 лет открылись двери Аничкова дворца, куда приглашался только избранный круг великосветского Петербурга. Ее мать, Надежда Осиповна, сообщила приятельнице в письме от 4 января 1834 г.: «…Александр назначен камер-юнкером, Натали в восторге, потому что это дает ей доступ ко двору. Пока она всякий день где-нибудь пляшет»[98]. Необходимо было соблюдать и правила придворного этикета. Проблема заключалась в том, что Пушкин пренебрегал не только служебными обязанностями (рассматривая их как синекуру), но и придворными обязанностями. Его раздражали придворные церемонии, в которых он должен был участвовать, и в его дневнике с этого времени чувствуется неприкрытая неприязнь ко двору.
В 1834 г. Пушкин чаще бывает на царских приемах и балах, но еще чаще манкирует их и нарушает этикет. В апреле 1834 г. он проигнорировал праздничные дни. Император поручил В. А. Жуковскому передать Пушкину свое неудовольствие по этому поводу. Одновременно обер-камергер граф Ю. П. Литта вызвал его к себе, чтобы «мыть голову». «Я догадался, – записал в дневнике А. С. Пушкин, – что дело идет о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни обедне в вербное воскресенье»[99].
В дневнике А. С. Пушкина от 16 апреля 1834 г. сохранилось свидетельство, что (по сведениям от В. А. Жуковского) Николай I был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров на обедне в вербное воскресенье. Граф Ю. П. Литта сокрушался тогда К. А. Нарышкину по поводу отсутствия многих камер-юнкеров, на что обратил внимание император: «Mais enfin il у a des regies fixes pour les chambellans et les gentilshommes de la chambre» («Но есть же определенные правила для камергеров и камер-юнкеров» – франц.). На это К. А. Нарышкин возразил: «Pardonnez moi, се n'est que pour les demoiselles d'honneurs» («Извините, это только для фрейлин» – франц.). (Эвфемизм на французском: «правила» и «регулы» (месячные) у фрейлин[100].) Об этом же А. С. Пушкин писал и жене в письме от 17 апреля 1834 г.
Неприличным нарушением придворного этикета была неявка Пушкина на празднование совершеннолетия наследника цесаревича Александра Николаевича, состоявшееся в Святую Пасху 22 апреля 1834 г. в Георгиевском зале и в Большей церкви, тем более что поэт был в тот день в Зимнем дворце у фрейлины Е. И. Загряжской, тетки Н. Н. Пушкиной. О своем отсутствии Пушкин написал жене в письме, начатом в пятницу 20 апреля и завершенном в воскресенье 22 апреля. Это наиболее резкое и откровенное письмо А. С. Пушкина, не предназначавшееся для посторонних глаз. В эпиграфе, процитированном в начале данной книги, приводится это высказывание. В воскресенье Пушкин дописал: «Нынче великий князь присягал, я не был на церемонии, потому что рапортуюсь больным, да и в самом деле не очень здоров»[101].
Это письмо было распечатано московским почт-директором. Оно было затем скопировано и отправлено А. X. Бенкендорфу и стало известно царю. На перлюстрацию письма Пушкин отреагировал болезненно. 10 мая 1834 г. он гневно записал в дневнике: «Г.[осударю] неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, – но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит читать их царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – и дать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным»[102].
Николай I не дал хода письму, а гнев Пушкина постепенно утих. В письме к А. X. Бенкендорфу от 6 июля 1834 г. он попросил вернуть свое прошение об отставке. Между прочим, он писал об императоре (вероятно, искренне): «Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, сколько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему»[103].
В последующие месяцы А. С. Пушкин остался верен себе. В июне камер-юнкер известил обер-камергера, что не сможет быть на праздновании дня рождения императрицы 1 июля в Петергофе, приглашение на которое почиталось за высокую честь. Судя по всему, отказаться ему не удалось; B. А. Соллогуб видел его в придворной карете, заметив, что «из-под треугольной шляпы» лицо поэта «казалось скорбным, суровым, бледным». Другой очевидец, В. В. Ленц, заметил Пушкина, «смотревшего угрюмо» из окна «дивана на колесах», то есть придворной линейки[104].
Камер-юнкер Пушкин пренебрег приглашением на главный праздник и не вызвал жену из деревни, лишив возможности императора танцевать с ней. Конфликт углублялся. 25 июня 1834 г., в день рождения Николая I, Пушкин вручил А. X. Бенкендорфу прошение об отставке. Автограф письма имеет дату 15 июня: «Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение»[105].
Многие современники воспринимали придворную службу А. С. Пушкина как трагикомедию, не понимая подлинной причины призвания А. С. Пушкина ко двору. Граф В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях писал: «Жена его была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того, чтоб приглашать ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставало средств. Эти средства он хотел пополнять игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше»[106].
Последнее обстоятельство было еще одной причиной, препятствовавшей в июне 1834 г. встрече поэта с императором. Пушкин должен был бы поблагодарить Николая Павловича за крупный заем из казны, но все толковали о его огромном проигрыше в карты.
У поэта были и другие основания ждать очередных нареканий. В письме Наталье Николаевне в письме от 28 июня, объясняя игру в карты желанием развлечься, так как «был желчен», но заметил: «все Тот виноват»[107]. Пушкин не знал, уведомили ли жандармы об этом Николая I[108]. Он справедливо опасался, что после праздника его ждет «мытье головы», и желал избежать унижения. Ответ последовал быстро. 30 июня 1834 г., накануне празднования дня рождения императрицы Александры Федоровны, А. X. Бенкендорф сообщил Пушкину: «…Его Императорское Величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы…»[109]. Наталье Николаевне поэт сообщил о своей отставке задним числом, когда все было позади: «На днях хандра меня взяла; подал я в отставку»[110]. Впрочем, в письме к Наталье Николаевне от около 28 июня А. С. Пушкин намекнул о предстоящем событии: «Мой Ангел, сейчас послал я к графу Литта извинение в том, что не могу быть на Петергофском празднике по причине болезни. Жалею, что ты его не увидишь; оно того стоит. Не знаю даже, удастся ли тебе когда-нибудь его видеть. Я крепко думаю об отставке»[111]. А в конце следующего письма от 30 июня дописал: «Погоди, в отставку выду, тогда переписка нужна не будет»[112]. Больше всего А. С. Пушкина огорчало, что увольнение со службы в Министерстве иностранных дел автоматически закрыло для него архивы – об этом он получил официальное извещение.
В августе 1834 г. А. С. Пушкин намеренно уехал из Петербурга за пять дней до открытия Александровской колонны, чтобы только не присутствовать на торжественной церемонии. Накануне 6 декабря 1834 г. («Никола Зимний»), дня именин Николая I, Пушкин записал в дневнике (5 декабря): «Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, – молокососами. Царь рассердится, – да что мне делать?»[113] И вскоре добавил: «Я все-таки не был 6-го во дворце – и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельдъегеря или Арнта» (лейб-медика Н. Ф. Арендта. – А. В.)[114]». Раздражение царя было понятным. Николай I, как человек военный, любил порядок и следил за дисциплиной придворных чинов и кавалеров. Буквально через десять дней Пушкину с супругой пришлось прийти на бал в Аничков дворец…
На этом история с камер-юнкерством Пушкина не закончилась. После кончины поэта Николай I решил, что А. С. Пушкина как камер-юнкера надо отпевать не в Исаакиевском соборе, как планировалось, а в придворной Конюшенной церкви. Более того, Николай I хотел, чтобы поэта обрядили в камер-юнкерский мундир[115]. Когда же на покойном оказался фрак, император был недоволен[116]. На панихиде, по свидетельству А. И. Тургенева, были многие генерал-адъютанты: начальник Военно-походной канцелярии генерал от инфантерии А. В. Адлерберг (будущий министр двора), командующий Отдельным оренбургским корпусом, генерал от кавалерии В. А. Перовский, член Государственного совета и сенатор князь Василий Сергеевич Трубецкой, исполнявший тогда обязанности черниговского, полтавского и харьковского генерал-губернатора, генерал-майор граф А. Г. Строганов, генерал от артиллерии И. О. Сухозанет. Присутствовали министр внутренних дел Д. Н. Блудов, гофмейстер Высочайшего двора камергер М. Ю. Виельгорский, многие другие придворные, лицейские товарищи, Элиза Хитрово с дочерьми, члены семей П. А. Вяземского, покойного Н. М. Карамзина, литераторы. Император осыпал милостями семью Пушкина…
С портретом и кокардой: кавалерственные статс-дамы
Статс-дамам (женщинам замужним или вдовам) жалованье не полагалось, они, как заметил историк Константин Писаренко, выполняли свои обязанности «на общественных началах (не зря же замуж выходили)»[117]. При императрице Елизавете Петровне, отмечает историк, появился отличительный знак статс-дам – прикрепленные на правой стороне груди броши с миниатюрными портретами императрицы, окаймленные бриллиантами[118]. Эти портреты-миниатюры были выполнены в технике эмали (финифти). Кроме статс-дам ее портреты носили также гофмейстерины и камер-фрейлины, по статусу приравненные к статс-дамам. О ношении «портретными дамами», как они назывались в общении, портретов на правой стороне груди пишет также историк Л. Е. Шепелев[119].
В противоречии с этими утверждениями некоторые современники пишут о ношении портретов на левой стороне груди. Так, адъютант шведского кронпринца Венцель Гаффнер, посетивший Петергоф в июле 1846 г., пишет: «Принц Оскар танцевал со многими из великих княгинь и графинь… Наиболее почетные из придворных дам называются "дамами с портретом", носят на левой стороне осыпанный бриллиантами портрет императрицы. Многие из них носят также звезды и ордена»[120].
Кроме того, все статс-дамы (и некоторые фрейлины) имели знаки ордена Св. Екатерины 2-й степени, то есть Малого креста (так называемая кокарда), или намного реже – 1-й степени. Главой ордена Св. Екатерины, по утвержденному Павлом I при его коронации 5 апреля 1797 г. «Установлению о Российских императорских орденах», оставалась, как и прежде, императрица[121]. Великие княжны при крещении получали знак ордена Большого креста; княжны императорской крови получали его по достижении совершеннолетия. Дочь А. О. Россет-Смирновой приводит не очень достоверный рассказ «из доброго старого времени» некой «старушки X» о появлении шифров и портретов. Появление портретов, на основании рассказов свидетельницы, она связывает с царствованием не Елизаветы Петровны, а Екатерины II: «Императрица Екатерина создала портретных дам, и первою из них была кн. Дашкова»[122]. Есть и другое мнение, в соответствии с которым первой на правой стороне груди (фрейлины вензель, наоборот, носили на левой стороне корсажа) стала носить портрет императрицы графиня А. А. Матюшкина (статс-дама с 22 сентября 1762 г.).
При Павле I было 14 пожалований статс-дамами. Их перечисление поможет понять, кого назначали статс-дамами. В ноябре 1796 г. статс-дамами стали: дочь генерал-аншефа князя В. М. Долгорукого-Крымского и супруга фельдмаршала графа В. П. Мусина-Пушкина графиня Прасковья Васильевна Мусина-Пушкина (1754–1826); супруга генерал-поручика К. И. Ренне Мария Андреевна фон Ренне (1752–1810) и вдова действительного статского советника Вильгельма де ла Фона София Ивановна де ла Фон.
Еще 7 статс-дам получили это звание в связи с коронацией 5 апреля 1797 года: супруга действительного тайного советника графа Михаила Мнишека графиня Урсула Мнишек (1760–1806), супруга генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского графиня Анна Павловна Каменская (1749–1826), супруга обер-шталмейстера Л. А. Нарышкина Мария Осиповна Нарышкина (умерла 28 июня 1800 г.), дочь генерал-аншефа М. И. Леонтьева и супруга генерал-аншефа П. Д. Еропкина Елизавета Михайловна Еропкина (1727–1800), дочь генерал-фельдмаршала графа А. Б. Бутурлина и супруга генерал-аншефа князя Ю. В. Долгорукова княгиня Екатерина Александровна Долгорукова (умерла в декабре 1811 г.), супруга малороссийского генерального судьи А. Я. Безбородко Евдокия Михайловна Безбородко, супруга виленского воеводы князя Михаила Радзивилла княгиня Елена Радзивилл (скончалась в 1821 г.). В том же году, но 20 июня статс-дамой стала принцесса Луиза Эммануиловна де Тарант, герцогиня де ля Тремуль, которая была ранее статс-дамой казненной королевы Марии-Антуанетты.
6 сентября 1798 г. кавалерственной дамой ордена Св. Катерины 2-й и 1-й степени была пожалована супруга светлейшего князя П. В. Лопухина Екатерина Николаевна Лопухина (1763–1839), мать фаворитки Павла I Анны Лопухиной. 7 ноября того же 1798 г. статс-дамой стала супруга генерала от кавалерии графа П. А. фон-дер-Пален графиня Иулиана Ивановна фон-дер-Пален (1745–1814)[123]. Последней статс-дамой в это непродолжительное царствование в феврале 1800 г. стала кавалерственная дама Св. Екатерины 1-й степени и Св. Иоанна Иерусалимского Большого креста дочь светлейшего князя П. В. Лопухина, супруга генерал-адъютанта князя Павла Григорьевича Гагарина Анна Петровна Гагарина (1777–1805). Это была последняя фаворитка Павла I, с которой он познакомился в Москве в 1797 г. Император перевел ее отца на службу в Санкт-Петербург. 6 сентября 1798 г. Анна Лопухина стала камер-фрейлиной и была по ее желанию выдана замуж за друга юности князя П. В. Гагарина, вызванного в связи с этим из Итальянского похода А. В. Суворова.
На протяжении трети столетия ключевую роль при дворе играла статс-дама (1794) и ордена Св. Екатерины большого креста кавалерственная дама Шарлотта Карловна Ливен (урожденная баронесса фон Поссе[124]; 1743–1828), вдова генерал-майора барона Отто Генриха Ливена. Овдовев, она приехала из Херсонской губернии в Петербург, где была назначена воспитательницей великих княжон (с 1783 г.), а впоследствии младших сыновей великого князя и императора Павла I, в том числе Николая Павловича[125].
Императрица Александра Федоровна вспоминала о своей первой встрече со статс-дамой Ливен в 1817 г.: «Только что я уселась перед зеркалом, чтобы заняться туалетом, как вошла ко мне без церемоний какая-то пожилая женщина и промолвила по-немецки: "Вы очень загорели, я пришлю вам огуречной воды умыться вечером". Эта дама была пожилая, почтенная княгиня Ливен, которую я впоследствии искренне полюбила…»[126] Собственно, тогда она была еще графиней (1799), княжеский титул со всем семейством ей был пожалован при коронации Николая I 22 августа 1826 г., четыре месяца спустя, в декабре того же года, она стала светлейшей княгиней. Ее возвышению не помешало и то, что она была известна как большая придворная сплетница. В донесении директора канцелярии III Отделения М. М. Фока от 5 августа 1826 г. говорилось: «Слухи, распускаемые придворной челядью и лицами, окружающими графиню Ливен, один смешнее и нелепее другого»[127]. Светлейшая графиня активно способствовала выдвижению своих родственников. Ее старший сын Карл Андреевич Ливен стал министром народного просвещения; средний – Христофор Андреевич – долгие годы провел послом в Лондоне (1812–1834), причем до семейного «разъезда» «им управляла жена его Дарья Христофоровна, урожденная Бенкендорф» (сестра Александра Христофоровича). Первая запись в камер-фурьерском журнале начала царствования Николая I от 1 января 1826 г. гласит: «В 15 минут 4-го часа Их Величества имели выход к императрице Марии Федоровне, где за обеденным столом изволили кушать в гостиной комнате как-то: Государь Император, Императрица Александра Федоровна, Императрица Мария Федоровна, великий князь Михаил Павлович, великая княгиня Елена Павловна, герцог Александр, принцесса Мария, принц Александр, принц Эрнест, принц Евгений Виртемберские (Вюртембергские. – А. В.), статс-дама графиня Ливен»[128]. Подобные записи повторялись стабильно.
Гувернанткой великого князя Николая Павловича была Юлия (Ульяна) Федоровна Адлерберг (урожденная Анна Шарлота Юлиана Багговут; 1760–1839), статс-дама, мать графа В. Ф. Адлерберга, с 1802 г. – начальница Смольного института. В письмах к Александру Николаевичу в 1838–1839 гг. Николай I дважды упоминает о своих визитах вежливости к «старушке Ульяне Федоровне»[129].
Камер-фурьерский журнал упоминает о присутствии на коронации Николая I пять статс-дам[130]. Среди них:
• Глебова Елизавета Петровна (урожденная Стрешнева; 1751–1837), вдова генерал-адъютанта Ф. И. Глебова.
• Голицына Татьяна Васильевна (урожденная княжна Васильчикова; 1782–1841) – княгиня, супруга московского военного генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына (1771–1844), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 2-й степени Это ее, назвав в письме к отцу «доброй княгиней», видел в Эмсе на водах великий князь Александр Николаевич 26 июля (7 августа) 1838 г.[131]



