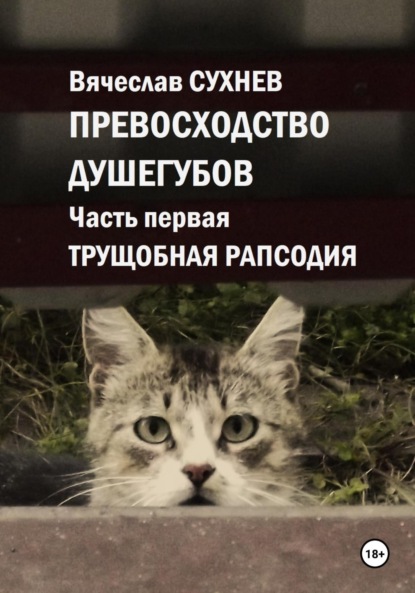
Полная версия:
Превосходство душегубов. Часть первая. Трущобная рапсодия
Главный редактор, тощий и сутулый, похожий седой эспаньолкой на Дон-Кихота, несколько секунд разглядывал Рыбникова, полную свою противоположность. Полную. Рыбников давно привык к редакторским приступам непонятного ступора и поэтому терпеливо ждал, пока главный очнется. Редактор вздохнул и проскрипел:
– Ты, Николай Павлович, сперва сам попробуй буфетный кофий… А они – иностранцы. Но в одном прав: надо все сделать по-домашнему, скромно. У меня есть скотч-виски. Попроси Машу подняться в буфет – пусть настрогают бутербродов. Ну, там, джюс какой-нибудь, грейпфрутовый, что ли… Икорки баночку, рыбки, омарчиков. Распорядись, батюшка!
Рыбников покатился распоряжаться. Секретаршу Машу он на месте, конечно же, не нашел – курит где-нибудь в отделе. Пока все отделы обойдет – и день, глядишь, закончился…
– Ё-моё! – вспомнил родное чалдонское присловье первый заместитель.
Передоверить ответственное поручение главного редактора Рыбников никому не мог. Поэтому решил отправиться в буфет самолично. Поскольку спецбуфет, где обедала издательская головка, был еще закрыт, пришлось подниматься на шестой этаж в общий зал. Тут змеилась длинная очередь. Рыбников почувствовал себя неуютно под удивленными взглядами редакционной и типографской мелкоты – еще бы, Зевс снизошел с Олимпа на грешную землю… Дожидаться своей очереди в толпе этих усталых и хмурых людей Рыбников не хотел. Как обойтись без стояния в очереди – не знал. Поэтому он независимо подошел к стойке, за которой неспешно ползала тучная баба в драном и несвежем белом халате, и спросил:
– Сигареты есть?
Баба покосилась, вздохнула и ничего не ответила.
– Ага, – сказал Рыбников. – Ну, ладно…
Так же независимо он собирался и улизнуть из буфета, но все испортил проклятый подхалим Чикин, заведующий отделом биржевой жизни, который оказался в голове очереди:
– Николай Павлович! Вам, может, еще что-нибудь надо?
Очередь заворчала, но Чикин самоотверженно огрызнулся:
– Имею право раз в жизни любезность начальству оказать?
– О, Боже, – пробормотал про себя Рыбников.
А Чикин уже пробивался сквозь толпу с дополнительным подносом – сальным и изгрызенным. Делать было нечего: и очередь, и баба ждали заказа Рыбникова.
– Два десятка бутербродов, – попросил он униженно, непонятно отчего. – С креветками там или с икрой… Пять бутылок сока – любого, на ваше усмотрение. Вот и все.
Баба неспешно вытерла руки о свой халат, поправила колпак и завопила неожиданно тонким голосом – на всю столовую.
– Вы из какой комиссии, а?
– Он не из комиссии, – влез Чикин. – Он наш замредактора, первый!
– То-то, гляжу, чужой человек, – сказала баба. – Ну, раз вы первый заместитель, так и идите в свой буфет. Он тоже первой категории. А у нас – второй. Деликатесов не положено.
Рыбников выбрался из очереди, провожаемый хмурыми холодными взглядами. Уши у него горели. Да… Отвык он, оказывается, от демократических щей за годы заместительства! Или щи стали жиже? Господи, а какой запах тут, в столовой второй категории…
По лестнице он спускался бегом, словно ему надавали пощечин и еще обещали. Влетел, как толстая сердитая торпеда, в первый попавшийся кабинет и заорал:
– Найдите мне эту чертову куклу! Кого, кого… Машеньку!
Пока Рыбников вояжировал в столовую второй категории и подвергался унижениям, главный редактор «Вестника» вызвал к себе спецкора отдела биржевой жизни Гришу Шестова:
– Правда, что у вас в отделе балуются китайским вареньем?
– Правда, – повинился Шестов. – Из командировки привезли.
– Ну, побаловались – и хватит, будешь переводить, Григорий, – сделал неожиданный вывод главный.
– С китайского? – удивился Гриша.
– С английского…
– Хорошо, Виталий Витальевич, – уныло сказал Гриша.
Шестов, субтильный холостяк около сорока лет, вернулся недавно с туманного Альбиона, где он по обмену работал в «Кроникл». Вместо обычных контактных линз Гриша носил старинные круглые очки в тонкой металлической оправе и оттого смахивал на меланхоличного, чуть облысевшего филина. Гришу в редакции и звали Совой. По складу мышления он был философом, скорее киником, нежели эпикурейцем, ибо считал, что любой бардак в обитаемой Вселенной образуется, когда люди начинают заниматься не своим делом. Вот почему он не любил служить главному редактору переводчиком. Тем более что в редакционном штате был переводчик со всех европейских языков. Правда, в последнее время от неуемной жажды познания он злоупотреблял гипнопедией и транквилизаторами, отчего косил, дергал головой и путал языки. Однако благодаря неистребимой любви главного к услугам Шестова, штатный толмач мог беспрепятственно спускать свое не такое уж маленькое жалованье в пивнушке на углу Цветного и Садового, с утра до ночи потягивая не такое уж слабое черное чешское пиво.
– Может, лучше Сапрыкина вызвать? – предложил Гриша. – Только что видел – вполне в кондиции.
– То есть еще не на ушах? – уточнил диагноз Виталий Витальевич. – Все равно, Григорий, не надо Сапрыкина… Дело, Григорий, в том, что ты умеешь держать язык за зубами, а Сапрыкин нет. Поэтому проникнись чувством ответственности…
– И законной гордости, – вздохнул Гриша. – Осмелюсь напомнить свое предложение, Виталий Витальевич! Покорнейше прошу подумать о гипнопеде. Через неделю будете лялякать по-английски, как Шекспир. У меня приятель – гипнопед, и дорого не возьмет.
Шестов слыл в редакции золотым пером, поэтому мог позволить себе несколько вольный тон в разговоре с начальством.
– Я, Григорий, номенклатурный чиновник – первый табельный разряд, – усмехнулся редактор. – Ежели потребуется, гипнопеда бесплатно дадут. Только я не хочу лялякать, как Шекспир, потому что, Григорий, я еще и пожилой чиновник, если не сказать, старый… Мозги высохли. Виски хочешь?
Шестов оглянулся на дверь, непроизвольно облизнулся и сказал, чуть повеселев:
– Натощак… Вредно, Виталий Витальевич. Но раз руководство настаивает…
Редактор, старчески покряхтывая, достал из старинного сейфа бутылку с желтой этикеткой, рюмки и яркую баночку исландской селедки. Гриша начал привычно свинчивать ключ на банке, а редактор прицелился бутылкой в рюмку. Тут ворвался красный и злой первый заместитель:
– Виталий Витальевич! Пора народ на ковер приглашать… Ни с кем сладу нет. Какую-то секретаршу, какую-то фитюльку вся редакция ищет!
– Ну… фитюльку, – усмехнулся редактор. – Присядь.
– Так надо же стол накрывать!
– Где стол был яств, там гроб стоит, – вдруг сказал главный. – Виски налить, Николай Павлович?
И, не дожидаясь ответа, поставил на стол заседаний третью рюмку. Рыбников посмотрел на свет янтарный напиток, понюхал и буркнул, остывая:
– За что пьем?
– За нашу смерть, – сказал главный и подергал свою эспаньолку. – А что – нормальный тост… Пей, Николай Павлович!
Шестов с Рыбниковым летуче переглянулись. Главный это заметил и засмеялся, как палку об колено сломил:
– Небось, судари мои, думаете: аут, выскочил из ума Виталий Витальевич… Мол, сам одной ногой в могиле стоит и нас туда же приглашает заглянуть. Как бы не так. Если кто сбежал с катушек, так это не я, а наши дорогие работодатели. Вы даже не представляете, господа-товарищи, о чем у нас с англичанами речь пойдет… Не представляете! Посему сразу прошу: никаких бесед в коллективе. Народ и так узнает. Но пусть он сначала все осмыслит на уровне слухов и сплетен. Потом плохие новости легче воспринимаются.
– Что же все-таки случилось? – прищурился Рыбников.
Главный редактор долго смотрел в мутное окно, положив руку на ребристый бок кондиционера. Он казался жалким и очень старым. Потом сказал, не оборачиваясь:
– Англичане откупают половину пая нашего «Вестника». Так-то, судари мои. Обещают дать хорошую бумагу, новую технику. Ну и надсмотрщика, какого-нибудь мистера Твистера… И будет он меня учить, как делать современную газету в условиях поголовной компьютеризации, коммерциализации и телевизофрении…
Главный отошел от окна, шаркая, пробрался за свой стол и уселся, сцепив перед собой жилистые руки, покрытые светлым пушком и пигментными пятнами.
– Я, ребятки, уже при Лёне, при Брежневе, редактором был… Слышали о таком? Еще бы! Славная история славного периода, в результате которого мы теперь сидим в дерьме по нижнюю губу. Ехали, бежали… А куда? Куда прибежали? И теперь каждая сука, каждый Шекспир…
Рыбников поднялся и сказал, оглядываясь на безмолвные стены, оклеенные фотообоями с березовым лесом:
– Пойду я, Виталий Витальевич… Прослежу. И вообще…
– А я уже отбоялся, – сказал редактор стенам. – Отбоялся! Вот прошение об отставке!
Он выхватил из стола какой-то листок и потряс перед застывшими березами, словно стены могли не только слышать, но и видеть.
И Гриша попятился из кабинета:
– Перекурю пока…
Едва он закурил в редакторском «предбаннике», явился первый заместитель главного и сунул Шестову крохотную плоскую коробочку:
– Микрофон – зверь, за двадцать метров шепот пишет. Проволочная катушка, на два часа. Вот тут нажми…
Шестов не стал ни о чем спрашивать. Раз надо Рыбникову… Знали они друг друга давно – почти в одно время заканчивали факультет журналистики Московского университета и нередко занимались общими комсомольскими делами.
После университета Рыбникова взяли в министерство информации. Он там поскучал какое-то время, не сошелся со старперами в руководстве, начал показывать зубы. Сбежал в «Вестник», где его знали хорошо, поскольку два последних года перед защитой диплома Рыбников проходил в еженедельнике практику.
А Гриша поехал в областную газету в город Термез, еще полный легенд об «афгане», вызубрил от скуки английский, потом – узбекский. А тут – отделение Узбекистана, создание Исламской федерации и почти немедленная война с Индией. Гриша оказался интернированным, так как Россия выступила на стороне Индии, и российские «миги» с голубыми андреевскими крестами на фюзеляжах держали воздух от Пешавара до Джибути. Через три года война кончилась ничем, Гришу выпустили из лагеря, и он очутился в Москве – без работы и денег. Рыбников, тогда заведующий отделом экономики, взял Шестова к себе, устроил командировку по обмену в «Кроникл», где Гриша чуть-чуть отошел от лагерных ужасов, прибарахлился и окончательно отшлифовал знание английского.
Свое покровительство Рыбников не афишировал, но Гриша и без того понимал: взяли в лодку – греби. А поэтому и не отказывался выполнять разные деликатные поручения первого заместителя главного редактора.
Покурив, Гриша отправился в кабинет главного. Едва они с Виталием Витальевичем приготовились скрасить скуку ожидания очередной дегустацией шотландского самогона, как дверь распахнулась и в проеме показалась холеная морда с лошадиной челюстью, украшенной морковной бородой. А за этой мордой виднелись другие, не менее холеные. Сразу видно, джентльмены.
– Мошноу? – спросил предводитель.
– Плиз, – ответил Виталий Витальевич, кам ин, френдз…
И сделал улыбку – так мог бы улыбнуться череп в лунную ночь. Среди гостей оказался старый знакомый, Наум Малкин, краснорожий и чернобородый автор эротических поэм, представитель писательского профсоюза в совете учредителей «Вестника». Он сразу же полез целоваться с Виталием Витальевичем, и тот, содрогаясь, стойко перенес сей ритуал. Отцеловавшись, Наум плюхнулся на ближайший стул. И теперь стал заметен еще один гость – невысокий, черноватенький, с узкими глазками и плоским бесстрастным лицом.
– С вами мы виделись, – сказал главный редактор черноватенькому. – Не вспомню…
– Естественно, Василий Васильевич, виделись.
– Это меня домашние так кличут, Василием Васильевичем, – продолжал скалиться главный. – А на работе я – исключительно Виталий Витальевич. Позвольте полюбопытствовать, а вас как на работе зовут, и где она, работа, находится, если это не секрет?
– Иван Пилютович Вануйта, – представился гость. – Юрисконсульт наблюдательного совета министерства информации.
– Во такой мужик! – поднял большой палец Наум Малкин.
– Позвольте, запишу. – Редактор придвинул бювар. – А по национальности вы кто? Простите старика за любопытство…
– Ненец, – сказал Вануйта. – Из Тиманской тундры.
– Во такой, говорю, мужик! – опять подал голос Наум.
– Да-а, – протянул главный. – Очень у нас все-таки еще большая страна. Что ж, будем считать, что на территории «Вестника» высадился британо-ненецкий десант, а? Шутка…
– А про меня забыл? – закричал Малкин.
– Ты меня, батюшка, давно оккупировал, – вздохнул Виталий Витальевич.
Гриша вспомнил о своих обязанностях и перевел для англичан шутку редактора. Те натянуто улыбнулись.
Тут лебедушкой вплыла белотелая могутная Машенька – в сарафане ля рус, с приплетенной пшеничной косой. Любой мог бы убедиться, что первый заместитель главного редактора совершенно не прав, назвав Машеньку фитюлькой. Перед собой секретарша легко несла огромный, как щит воина, расписной жостовский поднос, принакрытый рушником от любопытных глаз. Когда Машенька сдернула рушник – Гриша едва стон сдержал. Поднос отягощали бутерброды с салями и сыром, белужьи пузечки, икра в хрустальной ладье, ветчина и перченое сало.
В то время как Рыбников суетился и унижался в общей очереди, Машенька проникла со служебного входа в спецбуфет и обо всем, умница, договорилась. Оставалось только удивляться, как она вообще узнала о распоряжении главного редактора. Но если взять во внимание, что Машенька работала с Виталием Витальевичем лет двадцать, еще до «Вестника», то и удивляться не придется.
Главный редактор при виде натюрморта с подносом потер руки характерным национальным жестом и потащил из сейфа вторую бутылку. Вероятно, он решил принять погибель достойно, по русскому обычаю – в белой рубахе и нос в табаке.
Обозрев бутерброды, Наум Малкин повернулся к крохотному Вануйте и с большим пиететом доложил:
– Виталий Витальевич – во такой мужик!
Пока главный ручкался с гостями, пока умница Машенька сервировала стол, пока англичане с веселым изумлением разглядывали хозяйский кабинет, полный диковинных вещей, вроде рыкающего кондиционера, лязгающего сейфа и карты России с мигающими лампочками – так обозначены были пункты фотопечати «Вестника», – пока Гриша Шестов лихорадочно припоминал самые крутые портовые глаголы, дабы достойно перевести гостям замечания Малкина… Да, пока все это происходило в березовой роще редакторского кабинета, Николай Павлович Рыбников скрывался в собственных скромных апартаментах с видом на тощую трубу утилизатора. Он играл на пульте видеофона, словно вдохновенный пианист.
Экранчик вспыхнул голубеньким, и на нем мелькнул фрагмент сначала голой и очень волосатой ноги, потом тоже голой, но не волосатой. Больше Рыбников ничего не успел разглядеть, ибо весь экран заняла крепкая ладонь с мясистыми подушечками, и хриплый голос сказал досадливо:
– Иванцов на связи… А-а, Николай Павлович… Погоди, видяк отверну.
– Я не любопытен, – сказал Рыбников. – А на тебя могу насмотреться в Сандунах. Надевай штаны, поезжай в «Кис-кис». Займи кабинетик и дожидайся.
– О, грехи наши, – вздохнул невидимый Иванцов. – Только что подписал номер, спать хочу…
Но Рыбников уже вызывал другого абонента. На экранчике возник плотный, с короткой стрижкой, человек в легком мешковатом костюме, под которым так удобно носить хоть противотанковое ружье. За хорошим столом он пил чай из большой фарфоровой кружки и закусывал баранками. Заметив на экране вызова Рыбникова, плотный человек поспешно встал и вытер рот.
– Жарко? – сочувственно спросил Рыбников.
– Ага, – ответил плотный человек, потея и осторожно промокая низкий звероватый лоб большим платком.
– Варенья из лотоса у тебя нет?
– Не-а.
– Тогда поезжай в «Кис-кис». Походи за Иванцовым. Чтобы все было чисто…
– Лады.
После этих содержательных переговоров Рыбников позвонил еще скучному и невыразительному человеку – в захламленный, заставленный книгами и папками кабинет.
– Паня! Есть жареное дело. Жди у входа в «Кис-кис».
Наконец Рыбников связался с секретаршей главного редактора:
– Если Виталий Витальевич спросит… Скажи, зубы заболели. Поехал, мол, к врачу. Как освободится Шестов, пусть позвонит мне в машину. Я, вероятно, буду ехать в клинику или, что так же вероятно, возвращаться из оной.
– Откуда? – переспросила Машенька.
– Из оной, – упрямо повторил первый заместитель. – Шестов знает. Между прочим, где тебя носило?
– Закуску шарашила, – ответила Машенька.
Бросив кнопку вызова, Рыбников пробормотал:
– Тьфу, бестолочь… И если бы одна! Потому вас, дураков, англичане покупают. А не наоборот!
Он открыл современный стенной сейф с лазерным замком, прицепил к подтяжке полукобуру с макаром, прихватил контейнер с кассетами и ринулся к двери. В коридоре торчал парламентский корреспондент Гужуев – в черном смокинге и бабочке, несмотря на жару.
– Некогда, некогда, – обошел его Рыбников.
– Так визит же начался, – недовольно сказал Гужуев. – Он станет акцией большого звучания.
– Верю, верю! – усмехнулся Рыбников. – Очень большого звучания.
– Дайте две колонки! – потребовал Гужуев. – Выпускающий, извольте видеть, орет, что оставил мне только одну колонку. Но ведь и фото надо дать? Надо? Ага! Председатель Европарламента с нашим президентом, под сенью, так сказать, знамен.
– Хорошо, – бросил Рыбников. – Скажи, что я разрешил занять две колонки.
– И фото! Возьму с собой нашего фотокора, у него есть аккредитация. Вы же знаете… эти ловкачи из РОСТа вечно тянут, а потом дают плохие картинки. Так? Ага! Конкурс красоты снимем из номера к черту, осмелюсь предложить – и так жарко.
Сам ты иди к черту, подумал Рыбников, закипая. Гужуев был неплохим человеком, когда в своем дурацком смокинге молчал или делал дамам комплименты… Пройдя длинный редакционный коридор со множеством глухих дверей, с унылой дорожкой-пылесборником, Рыбников несколько секунд медлил у лифта. Чудовищная новость, объявленная главным редактором, означала конец мирной жизни. Начиналась мобилизация. Еще не поздно было отвалить в сторонку, тем более хороший знакомый, издатель, совсем недавно предлагал Рыбникову возглавить новый журнал. Но при одной мысли, что газета, которой отдано почти десять лет относительно молодой жизни и пуд нервов, при этой мысли…
– Каждый Шекспир… – пробормотал Рыбников, вызывая лифт.
«Вестник» издавался на солидной базе концерна «Литературная газета», потому что субсидировался писательским профсоюзом с участием кадетов и демохристиан. Объемчик у него был средний – двадцать четыре полосы. И бумага не лучшая, и цветных иллюстраций немного – концерном руководили скряги. И скабрезными картинками, и порнушкой «Вестник» читателя не заманивал. Однако положение еженедельника на газетном рынке было прочным, а читатель – постоянным.
В отличие от многих изданий, «Вестник» не бравировал критикой правительственных программ, хотя со многими и не соглашался. Не тряс грязное белье политиканов, к чему, видит Бог, редакцию не однажды подталкивали учредители, преследуя собственные сиюминутные выгоды. Если уж работодатели сильно поджимали и настаивали, мудрый Виталий Витальевич принимался лицедействовать: разрывались телефоны, мчались курьеры, дотошно, до запятой, согласовывались не только идеи статей, но и синтаксис. В бешеном темпе готовился ударный, разоблачительный и зубодробительный материал, так основательно готовился, что не успевал выходить. Зато бывший недруг учредителей успевал стать их союзником. И Виталий Витальевич по команде свыше давал отбой для своих цепных псов демократии.
Занимаясь всю жизнь политикой, главный редактор на склоне лет сформулировал важное правило: «Держись, сынок, подальше от трех вещей на свете – начальства, сортира и политики!» Собственных знаний приемов политической борьбы Виталию Витальевичу вполне хватало для того, чтобы превратить издание двух крупных политических партий в аполитичный еженедельник, да еще при этом исхитриться не вылететь из редакторского кресла.
«Вестник» печатал серьезные обзоры деловой и культурной жизни, предоставлял страницы историкам и отцам церкви, экономистам и законодателям. В каждом номере обязательно шла беседа «со звездой», где педалировались все стороны личной жизни, что всегда было любо сердцу обывателя. Иногда «звезда» позволяла себе высказаться по вопросам морали, воспитания, традиций. Но никогда – политики.
Еженедельник был последним пристанищем разной литературной мелюзги и шелупони. Широкая река графомании втекала в редакционные столы, оставляя в ящиках, как в промывочных лотках, золотинки настоящей прозы и поэзии. Поэтому литературные материалы «Вестника», при всей их неровности, почти всегда открывали что-нибудь новое – имя, тему, направление.
Издания радикальных партий и фронтов честили «Вестник» консервативным, патриархальным, недалеким. Еженедельник до полемики по мелким поводам не опускался, но иногда Виталий Витальевич сам брал в руки перо и выдавал короткий изящный фельетон, объясняя, кто, кому и сколько платит за нападки на «Вестник». Вероятно, у главного редактора была хорошо налажена собственная сыскная служба, потому что сведения в его фельетонах, при всей убийственной наготе, никогда не оспаривались оппонентами через суд. Время шло, и передовые и глубокомысленные издания вдруг вылетали при очередной экономической конвульсии в трубу, а «Вестник» по-прежнему выходил каждую субботу – серьезный, скромный, серенький, и с утра за ним у провинциальных киосков выстраивались терпеливые очереди верных почитателей.
Редакция «Вестника» и не скрывала, что ориентируется на русскую глубинку, что самые желанные письма под рубрикой «Из нашей почты» – от жителя уездного городка, еще сохранившего романтическую восторженность перед словами «Отечество», «Нация», «Бог», «История», «Правда».
Худо-бедно, в самые тяжкие времена у еженедельника прибавлялось три-четыре тысячи подписчиков в месяц. Скорей всего, люди уставали от разоблачительных воплей, поливания повидлом, обещаний и ошибок, уставали и обращались к аполитичному «Вестнику» с его байками из жизни правоохранительных органов, с его сказками из жизни «звезд», с его советами арендаторам, домохозяйкам и школьникам, с его пылкими стихами о красотах родной земли и нравоучительными рассказами на темы житейские. Люди уставали от созерцания голых задниц в газетах и на экране, а в «Вестнике» печатались снимки нормальных человеческих лиц – нормальных в ненормальное время…
Значит, подумал Рыбников в лифте, произошло что-то чрезвычайное, если совет учредителей пошел на продажу половины пая. И кому! Англичане не потерпят, чтобы в «Вестнике» продолжали появляться проповеди на святой день, материалы по русской истории, размышления читателя из какого-нибудь Урюпинска о насущных заботах, те же стихи… «Вестник» неминуемо повторит судьбу «Правды». Некогда официозное издание, на котором воспитывалось не одно поколение, было куплено издательством «Интерпрес» с базой в Цюрихе. Теперь «Правда» печаталась в Гамбурге, Париже, Глазго и Атланте, штат Джорджия. Шестидесятистраничная, с цветными иллюстрациями, на лучшей офсетной бумаге, «Правда» публиковала развлекательные и рекламные материалы российской тематики, комиксы с переложением русской литературной классики и биржевые бюллетени. Много лет назад Рыбников прочитал где-то, что шпрингеровский концерн скупил издания Венгерской социалистической рабочей партии, едва партия потеряла власть. Тогда Рыбников самоуверенно подумал: у нас такое не пройдет… Прошло!
Относительно независимых изданий вроде «Вестника» в России почти не осталось. Несколько газет издавали на Украине и в Белоруссии националистические движения, кое-какая печать была у мусульман в Казани и Алма-Ате, да еще нерегулярно выходили «Сибирская звезда» красноярских сепаратистов и «Казачий круг» на Кубани.
Обкорнанная, лишенная Закавказья и Средней Азии, Молдавии и Прибалтики, еще недавно шестая часть суши, а теперь Российская Конфедерация, входила в начало третьего тысячелетия от Рождества Христова как легендарный ковчег в волны всемирного потопа; только нес этот ковчег не по семь пар чистых и нечистых, а по семьдесят семь – партий, движений, ассоциаций, обществ, фондов, союзов и фронтов. Каждая крохотная политическая группа считала делом чести издавать собственную газету, а то и журнал. Естественно, международные издательские синдикаты не покушались на дохленький листок Демократического союза самарских любителей старины… Они планомерно захватывали крупнейшие правительственные и частные издания, телевизионные каналы и радиостанции. Теперь настала очередь второго эшелона – еженедельников типа «Вестника» и отраслевых коммерческих газет.
«Сначала надо заскочить к Старику», – подумал Рыбников, забираясь в машину. Чтобы выехать на дорогу, ему пришлось посигналить: на пути торчал патрульный мерседес…



