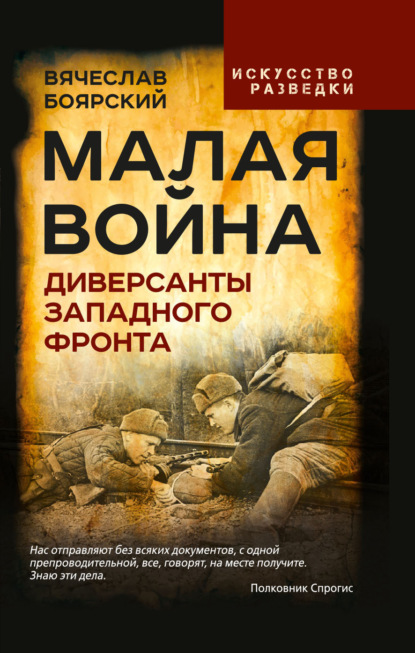
Полная версия:
Малая война. Диверсанты Западного фронта
Пока маскировались от самолета, про танки забыли, а теперь услышали их гул. Приподнялся изо ржи и вижу, что в нашу сторону двигаются три тяжелых немецких танка, а за ними, подпрыгивая по неровному полю, десятка четыре мотоциклистов. Обстановка тяжелая.
Быстро перебежали на середину ржаного поля, на наше счастье, оно довольно большое – 1000 на 500 метров. Закопал свой бумажник с документами, чтобы, если убьют, не попал к немцам, замаскировал, пусть сгниет. Руками быстро начал делать маленький окопчик для себя. Нас уничтожить во ржи немцу будет очень трудно. Кто только сунется в рожь, я с первого выстрела уложу. Только вот танки…
Пока мы готовились к круговой обороне, подошли танки, но в рожь не пошли, предпочли двигаться рядом. Стало как-то легче. С мотоциклистами я как-то надеялся разделаться.
Солнце уже начало заходить. Часа через 2 будет уже темно, и если только удастся удержаться до темноты, тогда мне не страшны не то что 40–50, а и целый их батальон. К нашему удивлению, мотоциклисты проехали мимо, никто не остановился даже. Оказалось, что мотоциклисты ушли за танками. Немцы прошли. Но теперь другое положение, мы уже в тылу у немцев. Нужно выходить поскорее. Быстро вышли изо ржи, перебежали через открытый луг и в кусты. Здесь я уже почувствовал себя совершенно в безопасности. Направление решил держать вслед за мотоциклистами, только по кустам.
Через полкилометра натолкнулись на нашу разведку, человек 20 под командой капитана. Рассказал ему обстановку, и он мне в свою очередь тоже. У него задание – пойти еще глубже в тыл немцам. Но сейчас выходить из кустов нельзя, еще светло, собирался пойти в том направлении, откуда шел только что я. Попросил, чтобы он попутно сжег мою машину, она хотя разбитая, но все-таки лучше сжечь. Это я должен был сам сделать.
От разведчиков узнал, что две впереди находящиеся деревни уже заняты немцами. Но эти кусты проходят между этими деревнями, и я решил, не теряя времени, пройти здесь. Прошел. Через два часа ходьбы, мы прошли километров десять, встретил отходящие красноармейские части. Наутро вышел на шоссе, где встретил Коваленко и грузовики с людьми.
5 июляВчера гонялся за немецкими парашютистами в районе Толочино. Двух убили, а третий скрылся в лесу. Его остался разыскивать прибывший истребительный отряд.
При выброске парашютных десантов немцы применяют хитрость. Так, например, выбрасывают трех парашютистов, а парашютов пятнадцать без людей. Из деревни смотрят и доносят, что выбросили пятнадцать человек, а фактически только три…
Веду организаторскую работу с большим энтузиазмом. Даже продолжающееся наше отступление на мое настроение особенно не влияет. Я уверен, что немного раньше или позже остановимся, подтянемся и стукнем противника. Это мое настроение, но среди отступающих настроение очень плохое, в том числе и среди командного состава.
Командующего фронтом Павлова обвиняют в измене, но это, конечно, неправильно. Другое дело, что не умеем воевать. Сами ударяемся в панику. В общем, картина безотрадная.
10 июляКомандующим Западным направлением назначен Маршал С. К. Тимошенко…
13 июля…Кричевским райкомом партии Могилевской области с моей помощью создан партизанский отряд № 27 под командованием директора средней школы И. С. Изохи…
14 июляПервый залп «Катюшек» капитана И. А. Флерова…
15 июля…Противник захватил южную часть Смоленска.
16 июляВведено положение о комиссарах… На сегодняшнее число в Смоленской области (секретарь Д. М. Попов) организовано 19 партизанских отрядов.
…июля (число неразборчиво. – Прим. авт.)Вчера ехал в район Бабиновичи. Получилась, как говорят, оказия. Ехать пришлось окружным путем, так как около шоссе Орша – Витебск уже противник. Приблизительно километров 8–10 от Бабиновичей проезжал по дороге мимо каких-то хуторов, находящихся от дороги метров 250–300. Вдруг мою машину кто-то обстрелял из хутора. Одна пуля пробила стекло машины, остальные 2–3 просвистели где-то близко. Со мной в машине, кроме шофера, был еще старший лейтенант Коваленко. Выскочили из машины и залегли в канаве. Начал уточнять, кто стрелял. Еще два раза выстрелили. Тогда уже точно установил, что из хутора. Увидел там двух человек, которые на мотоциклах заскочили за постройки. Дали несколько выстрелов по ним, но напрасно. Побежал на хутор совместно с Коваленко. Оказалось, что на хуторе были два немецких мотоциклиста. Прибыли на хутор минут пять назад, начали ловить кур, но в это время показалась наша машина, они произвели по нам несколько выстрелов, вскочили на мотоциклы и удрали.
Когда я вышел за хуторские постройки, которые находились на горе, чтобы посмотреть, куда уехали мотоциклисты, вдруг увидел, что в нашем направлении на расстоянии 500–600 метров движется колонна (около 30–40) немецких машин с пехотой. От такой неожиданной встречи прямо растерялся, но пока все-таки решил обстрелять ее. Выпустил выстрелов десять из своей полуавтоматической винтовки. К моему удивлению, колонна остановилась, пехота начала выскакивать из машин, а я в свою очередь побежал к своей машине и на предельной скорости начал удирать.
Выскочил на опушку леса около Бабиновичей, где находился штаб корпуса. Начальник корпуса генерал-майор. Сообщил ему, что у него немцы в тылу и на фланге. Первое решение, которое я услышал от командующего корпусом, – это найти дорогу для отхода штаба. Прождав еще 10–15 минут около генерала, я решил посоветовать ему выбросить в направлении этой колонны одну роту. К моему удивлению, он даже долго не размышлял, сразу согласился и от себя прибавил, что еще нужны роты две.
Штаб начал собираться и уходить, а я поехал к передовым частям, чтобы перебросить группу. Проехав Бабиновичи, встретил наши части, которые уже отступали. Была уже ночь. После переброски моей группы через линию фронта, когда возвращался назад, штаба корпуса на его месте не нашел.
Кругом пусто. Еду через лес и приказываю всем держать оружие наготове. На рассвете догнал штаб корпуса, который двигался очень медленно. Машины застревали. Поинтересовался – где рота корпуса. Послали прикрывать. Оказывается, она еще там. Сделал маленький круг и убедился, что рота действительно заняла оборону, а немцы находятся на том же месте, где я вчера после обстрела их оставил. Вот какой трус немец: не зная обстановки, боится двигаться вперед и топчется на месте. Это, конечно, очень приятно. Посмотрел и поехал домой, т.е. в штаб фронта…».
Здесь записи в дневнике А. К. Спрогиса прерываются. Он вернется к ним лишь в декабре 1941 года.
Итак, после начала Великой Отечественной войны директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. партийным и советским органам, различным структурам НКВД, ГРУ, Политуправлениям фронтов и армий было предписано активно заняться созданием диверсионно-разведывательных подразделений и партизанских формирований. В частности, в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 года в пункте 5 говорилось: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д.».
27 июля 1941 года в штабы всех фронтов была направлена шифротелеграмма за подписью начальника Генерального штаба РККА генерала армии Г. К. Жукова и его заместителя – начальника Разведывательного управления ГШ РККА генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова с категорическим требованием – «немедленно приступить к формированию и заброске на территорию, занятую противником, большого количества мелких диверсионно-разведывательных групп из преданных людей личного состава войск и гражданского населения»[12].
Выполняя эту директиву, разведотделы фронтов и армий начали работу по формированию и заброске в тыл немецко-фашистских войск разведывательно-диверсионных групп раньше указания Жукова – Голикова, но, похоже, не очень активно начали. Понадобился грозный окрик.

Первый командир диверсионно-разведывательного пункта разведотдела штаба Западного фронта, впоследствии в/ч 9903 А. Е. Свирин
Из дневника А. К. Спрогиса уже известно, что при штабе Западного фронта занималось этим специальное подразделение, которым командовал полковник А. Е. Свирин. В первую группу входили слушатели Военной академии им. М. В. Фрунзе майор А. К. Спрогис, капитан А. Я. Азаров, старшие лейтенанты И. Н. Банов, Ф. И. Коваленко, И. И. Матусевич и А. К. Мегера. В июле-августе прибыло пополнение: капитаны А. А. Алешин, Ф. П. Батурин, А. В. Щербинин, старшие лейтенанты С. М. Грабарь, Ф. А. Старовойтов, Д. А. Селиванов, М. А. Клейменов, ГД. Веселов, а также военврач 3-го ранга И. З. Галикеев.
Для того чтобы полнее представить происходящее, следует иметь в виду, что в данном случае речь идет об одном из подразделений военной разведки, в частности оперативной спецгруппе полковника А. Е. Свирина, которой суждено стать войсковой частью 9903. Путь этот был не прост. И вот почему.
В преддверии войны руководство Разведуправления безусловно принимало ряд мер по повышению боевой и мобилизационной готовности разведки, накапливались материально-технические средства и вооружение, отрабатывались отделами Разведуправления и штабами военных округов планы разведывательной работы на случай войны. Об этом свидетельствуют и документы.
Так, например, еще 15 января 1941 г. начальник Разведуправления Ф. И. Голиков издал приказ о составлении мобилизационного плана Разведуправления к 15 апреля 1941 г., а 24 февраля 1941 г. направил директиву всем начальникам разведотделов приграничных военных округов и отдельных армий о приведении их и оперативных пунктов в мобилизационную готовность к 10 мая 1941 г. С 23 января по 22 февраля 1941 г. Разведуправление провело сборы начальников разведотделов штабов военных округов и армий с целью отработки организации деятельности при переходе с мирного на военное время[13].
В мае 1941 г. начальник Генерального штаба Г. К. Жуков по предложению Разведуправления утвердил план мероприятий по созданию в приграничных округах запасов оружия, боеприпасов и военного имущества иностранного образца, подрывных средств для спеццелей по организации запасной агентурной сети на основных объектах или вблизи них с соответствующей системой связи на нашей территории глубиной 100–115 км от границы…
Эти и другие запланированные мероприятия были крайне необходимы. Но разведорганы по разным причинам выполнить их в полном объеме и своевременно не смогли. Ход и характер боевых действий начального периода Великой Отечественной войны для военной разведки оказался неожиданным. Сказывалась и невысокая подготовка, и отсутствие опыта практической разведывательной работы у значительной части оперативного состава после репрессий и чисток 1937–1939 гг.
Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. была более чем своевременной. В соответствии с ее требованиями военная разведка приступила к подготовке и заброске в тыл противника разведывательно-диверсионных групп и отрядов. Тем более что все это было в русле решаемых ею задач. Если же говорить о диверсионной работе, то на момент начала войны структурной единицы в военной разведке фронтового звена, которая бы занималась диверсиями во вражеском тылу, попросту не было. Вот и получилось, что полковник А. Е. Свирин был направлен на фронт как представитель Разведуправления Генштаба КА, квалифицированный специалист (последняя должность на июнь 1941 года – старший преподаватель кафедры разведки Высшей разведывательной школы Генштаба КА) для организации разведывательной работы. Ради справедливости нельзя не сказать, что действия по нарушению управления войсками противника и срыву их снабжения путем диверсионных акций накануне войны планировались.
Характерно, например, что прибывший в группу А. Е. Свирина старший лейтенант Ф. А. Старовойтов несколько лет, начиная с 1937 года, под руководством тогдашнего заместителя начальника разведывательного отдела штаба Западного фронта полковника Я. Т. Ильницкого работал в Бресте на специальном «пункте», который вел агентурную разведку на одном из оперативных направлений на западной границе. Было подготовлено подполье, создана агентура… Но и это все оказалось утрачено.
А. Е. Свирин был непосредственно подчинен Разведуправлению Генштаба Красной Армии. Материально оперативная спецгруппа А. Е. Свирина обеспечивалась за счет разведотдела Западного фронта, к которому была прикомандирована. В архиве А. К. Спрогиса сохранилась фотокопия выданного ему удостоверения Генштаба от 29 декабря 1941 года, где было сказано, что он состоит в распоряжении Разведуправления Генштаба КА. В то же время выписка из личного дела свидетельствует, что в соответствии с приказом № 53 заместителя начальника Генштаба Красной Армии А. К. Спрогис является одновременно уполномоченным Военного совета Западного фронта.
Забегая вперед, следует отметить, что в сентябре 1941 года Оперативная спецгруппа преобразуется в Оперативный диверсионный пункт разведотдела штаба Западного фронта (736-я полевая почта, почтовый ящик № 14).
С этого момента командиром этого пункта становится Спрогис (вскоре у этого пункта появляется номер 9903). Спрогис непосредственно подчиняется заместителю начальника разведотдела штаба Западного фронта полковнику Я. Т. Ильницкому, который лично был ответственен за сбор всех разведданных от войсковых разведок всех родов войск Западного фронта, то есть тактической разведки, и за доклад командующему фронтом два раза в сутки. С 16 марта 1942 года Оперативный диверсионный пункт преобразуется в 6-е (диверсионное) отделение разведотдела штаба Западного фронта. Возрастает статус этого формирования. Оно получает более значительную задачу: большую по глубине проникновения во вражеский тыл и более важную для всего театра военных действий на этом направлении – оперативно-тактическую[14].
В период битвы под Москвой военная разведка активно вела работу по подрыву тыла противника. Так, с начала войны по август 1941 г. разведотдел штаба Западного фронта направил в тыл противника 184 диверсионные группы. С сентября по 31 декабря 1941 года по донесению разведотдела штаба Западного фронта для работы в тылу противника была направлена 71 диверсионная группа и отряд общим количеством 1194 человека. Диверсионные группы нарушали коммуникации немцев, уничтожали их транспорт, штабы, живую силу. Но об этом по порядку.
Первоначально переменный состав подразделения в значительной мере укомплектовывался за счет красноармейцев-добровольцев из воинских частей. Спрогис данной ему властью забирал отбившихся от своих частей и выходящих из окружения красноармейцев и после индивидуальной ознакомительной беседы и кратковременной подготовки отправлял за линию фронта с различного рода заданиями.
Под давлением превосходящих сил противника наши части тогда отступали. Командованию Западного фронта в полосе его обороны как воздух нужна была информация о противнике. Разведка – глаза и уши армии – призвана была вскрыть планы и намерения немцев, их основные группировки, определить направление главных ударов, прибытие резервов, возможные сроки тех или иных операций. Для этого следовало знать районы сосредоточения войск противника, иметь данные о составе и принадлежности этих войск, составе ударных группировок, в первую очередь танковых и моторизованных, и многое другое. С этой целью и забрасывались в тыл противника разведывательно-диверсионные группы и отряды, создавались агентурные резервные группы разведчиков, партизанские формирования.
У Спрогиса на руках был документ, удостоверяющий его обширные полномочия. Он гласил:
«Предъявитель сего майор тов. Спрогис Артур Карлович является особо уполномоченным представителем Военного Совета Западного фронта.
Предлагаю командирам частей и соединений Западного фронта оказать всемерное содействие в его работе, а также обеспечить людским составом, вооружением и другими видами снабжения, необходимыми для выполнения возложенных на него особых поручений.
Указания майора Спрогиса А. К. для командиров частей и соединений, связанные с исполнением спецзаданий и возложенных на него особых поручений, являются обязательными. Майору Спрогису и другим лицам по его указанию разрешается переход фронта в любое время.
Начальник штаба Западного фронта генерал-лейтенант Г. К. Маландин 20 июля 1941 г.».
К сожалению, такие грозные документы не всегда помогали. Многие склады были разбиты авиацией противника, а воинские части сами испытывали голод по всем видам материального и технического обеспечения. Например, старший лейтенант Мегера не смог своевременно достать индивидуальные перевязочные пакеты ни на складах, ни в окрестных медицинских учреждениях. Казалось бы, мелочь, но без пакетов нельзя было посылать людей в тыл противника.
Еще труднее было с комплектованием групп личным составом. Командиры частей, как правило, только под большим давлением отпускали своих подчиненных. И это понятно: для разведки отбирались люди наиболее грамотные в военном отношении и смекалистые. Например, из 100-й дивизии, оборонявшейся на Березине, не было выделено ни одного человека, а согласовывать этот вопрос со штабом фронта не было времени. Позднее в распоряжение Западного фронта стали прибывать соединения из глубокого тыла. Разведывательный отдел штаба сумел за счет войск создать несколько отрядов специального назначения и направить их в тыл врага. После выполнения задания эти отряды были зачислены в состав воинской части 9903. Но об этом ниже.
Согласитесь, «исключительные полномочия» офицера в звании майора для командиров частей и соединений – полковников и генералов – как-то не вязались с нормами воинской субординации, но зато этим еще больше подчеркивалась особая важность и чрезвычайность его миссии[15].

А. К. Спрогис
Кто же он такой, Артур Спрогис, с выдержками из дневника и полномочиями которого вы познакомились? Уже первые записи заставляют остановиться и задуматься. Тут все необычно. Например, широта мышления и раскрепощенность автора. Он вполне допускает, что мы могли сами начать эту войну, и тогда, мол, все будет в порядке. Если не мы начали, ну что ж, будет трудно, но, как говорится, еще не вечер. При этом он не рефлексирует: ах, как это несправедливо, неправильно, как это некрасиво, что немцы на нас напали без объявления войны, внезапно напали…
Внезапность для него – вещь будничная, обыкновенная военная хитрость. Кто опередил другого, тот и молодец.
Немецкие войска вал за валом накатываются на страну, мы несем громадные потери, отступаем, а у него нет и тени сомнения в том, что враг будет разбит.
Да, началась война вероломно, внезапно для многих, но никак не для него. Этот не совсем обычный человек – хладнокровный, чрезвычайно уравновешенный – разъезжает под пулями по передовой. Он подмечает чьи-то серьезные промахи, комментирует их. На вещи смотрит достаточно прагматично. Многие военачальники, облеченные высокими полномочиями, разговаривают с ним как с равным, прислушиваются к его советам и рекомендациям. И он с ними на равных…
Что за этим стоит? Можно сказать только одно – это профессионал. Война – часть его жизни, если не вся жизнь. Он всю жизнь готовил себя к войне, он всю жизнь воевал. Он просчитывает ходы – свои и противника – и почти не ошибается. На войне он словно рыба в воде. Только этим и можно объяснить его поведение. Он в своей стихии. Есть такая профессия: воевать – Родину защищать. Вот он и защищает. Сейчас пришло его время. Он знает, что ему следует делать каждую минуту, и делает. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и рядом с вами оказался такой человек, вам сразу станет спокойнее. Он знает, как выходить из трудного положения… Интересно, как такими становятся? Собирая материал для книги, я старался не упустить ни одной характерной детали из рассказов А. К. Спрогиса о себе, из воспоминаний тех, кто с ним был близок. В целом могу сказать, что это был типичный представитель своего времени, своего поколения, для которого идея была – все, а материальное, личное благополучие – ничто. Тогда были востребованы лидеры особого типа, инициативные, исполнительные, порой беспощадные, ставившие государственные интересы выше личных. Спрогис был из этой когорты. Он жил заботами страны, тем, что будет построено в будущем. Впрочем, ничто человеческое ему было не чуждо…
Диверсантами не рождаются
…Латвия. 1919 год. Зимней проселочной дорогой от хутора идут двое. Впереди с поднятыми вверх руками – красными, негнущимися от мороза – рослый солдат в серо-зеленой шинели, а за ним подросток в ватнике с чужого плеча, в обмотках и старых, явно не по размеру ботинках, с тяжелой винтовкой наперевес.
– Эй, парень, слушай, – время от времени просит солдат, – разреши руки опустить, совсем замерзли.
– Нельзя, дядя. Пленные должны идти с поднятыми руками…
Это возвращался с задания пятнадцатилетний разведчик седьмого латышского стрелкового полка Артур Спрогис с первым своим «языком»[16].
Как Артур Спрогис попал на фронт? А все было просто. Он жил на хуторе Дикли под Валмиерой. Сюда часто привозили хоронить павших в боях латышских стрелков. Одно время бои гремели совсем рядом, в десяти–двенадцати километрах. Тогда Артур и отправился вместе с товарищами якобы для того, чтобы разыскать своего отца, ушедшего с красногвардейцами одного из латышских полков.
Командир роты седьмого латышского стрелкового полка пристроил мальчишек на кухне: чистить картошку, мыть котлы. А вскоре Артура и его товарищей стали посылать в разведку. Ребят поставили на довольствие, выдали обмундирование. Но на задание они ходили в своей одежде. Заглядывали на хутора, присматривались, узнавали, где стоят белые, сколько их, какое у них оружие, есть ли пулеметы и пушки – и обо всем, что видели, докладывали командиру.
Однажды ротный вызвал Артура и дал ему очередное задание. Мальчик побывал на одном хуторе, на другом – нигде белых не встретил. На третьем – постучался в дом – замерз очень, хотелось погреться. Только присел с разрешения хозяйки на лавку, как скрипнула дверь, вошел белогвардеец.
– Подъехать надо, тут недалеко, – сказал он и приказал Артуру запрячь коня в сани.
Артур вопросительно посмотрел на хозяйку. Та кивнула ему. Солдат явно принял Артура за хозяйского сына, а женщина пожалела парнишку и не выдала его.
Пришелец был дюжий детина. Артур покорно пошел за ним на конюшню. Вывел коня к саням, стоявшим на дворе. Хозяйка сама вынесла хомут и набросила коню на шею. Артуру и раньше приходилось запрягать лошадь, а тут никак не мог затянуть супонь. Белогвардеец стоял рядом и смотрел. Потом ему видно надоело, он оттолкнул Артура и сам взялся за супонь. Но как ни затягивал, клешни хомута не сходились. Солдат решил, что ему мешает винтовка, снял ее с плеча, прислонил к стене сарая и опять принялся за дело.
То, что пережил тогда Артур, трудно описать. Такой отличный случай рассчитаться с беляком! Глаза Артура глядели то на солдата, то на винтовку, и опять на солдата. Винтовку! Надо схватить винтовку, тогда ему не страшен никто!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Данные совета ветеранов войсковой части 9903. См.: Дмитриев Д. М. Военные партизаны. М., 2006. С. 17.
2
Богатый фактический материал о войсковой части 9903 собран группой «Поиск» московской средней школы № 1272 – несколькими поколениями учащихся более чем за тридцать лет. Здесь же, при школе, работал совет ветеранов части. Председатель совета ветеранов – кандидат исторических наук Д. М. Дмитриев – на основе собранных материалов создал историю части. В дни празднования 65-й годовщины Московской битвы рукопись Д. М. Дмитриева издана отдельной книгой. См.: Дмитриев Д. М. Военные партизаны. Летопись партизанских действий части особого назначения 9903. М.: Патриот, 2006.
3
Архив автора.
4
Патрахальцев Н. К. – до войны заместитель начальника разведывательно-диверсионной службы – специального отделения «А» и 5-го РУ Генштаба Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны занимался подготовкой разведчиков для работы в тылу врага. (См.: Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: дела и люди. М., 2003.)

