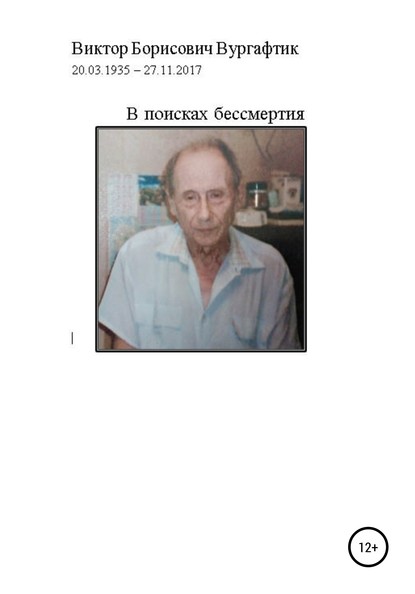 Полная версия
Полная версияВ поисках бессмертия
Почему наш организм оказался в аду из-за двух моих грехов, о которых я говорил в начале? Разве, если бы их не было, он был бы безгрешен и не страдал от прикосновения Бога? Конечно, он был бы грешен и страдал бы, но, видимо, гораздо менее грешен, и его страдание было бы качественно другим,– так же как страдание Израиля сразу после Христа было качественно иным, чем при подавлении восстания. По-видимому, ад начинается тогда, когда грех организма, к которому прикасается Бог, превосходит некоторую меру.
Может быть, нет плохого в том, что члены какой-либо группы любят друг друга больше, чем других из своего народа, а особо близкие из этой группы любят друг друга больше, чем остальных её членов. Однако при дальнейшем сужении организма – переходе к одной душе – дело совершенно меняется: если я люблю себя больше, чем моего близкого, это очень плохо. Почему? Разве душа не органичнее всех других организмов и для неё не естественно любить себя больше их? Мне кажется, ответ в том, что любовь дана людям как связь душ в организме, и обращать её на свою душу нельзя. Христос советует не возлюбить, а возненавидеть свою душу /Иоан.12:25/. Любовь к себе ставит предел любви к другому, так как не позволяет ей возрасти до причинения самому себе большого вреда. Бог сотворил человека не как отдельные души, а как организм /Быт.2:18; 21-24; Еккл.4:7-12/, и то, что в этом творении связывает души между собой, называется любовью. Грех извратил это Божье творение: любовь человека обратилась и на него самого, а это подорвало прочность организма. Если же себя самого я люблю даже больше других, мой грех, очевидно, переходит границу, за которой при контакте с Богом начинается ад. Но грех особенно велик, если эти другие очень близки мне. Я же именно люблю себя больше, чем единственного близкого мне человека, а, кроме, того, стараюсь отстаивать мои права в обществе, т.е. люблю себя больше, чем других членов моего общественного организма. Может быть, вообще грех души можно определить как уменьшение ею органичности организмов, в которые она входит.
Могу ли я добиться того, чтобы по крайней мере моя любовь к близкому оказалась больше, чем к себе самому? Не знаю. Я.С. Друскин говорит: я сам в грехе и рефлексии – самое любимое и близкое и одновременно самое ненавистное и далёкое /«Ви́дение неви́дения»,1/. Здесь ненависть не нейтрализует и не уменьшает любовь. Если слова Друскина верны для всех людей, никакие мои усилия не приведут к тому, чтобы себя самого я любил меньше, чем моего близкого. В этом случае мой грех уменьшить нельзя, и остаётся одно: нам не следует противиться Богу, когда Он войдёт к нам и ад преобразит в рай. Но для этого нам нужно понять, что действие Бога на наш организм есть испытание и награда,– понять не только разумом, а всем своим существом. Однако совершить в нас такой переворот может только Бог.
Организму Русской православной церкви присуща атмосфера унижения, охватывающая даже независимо от каких-либо конкретных унизительных ситуаций. Не принадлежащими к нему она воспринимается лишь как иго, а для него является игом, которое благо, т.е. радостным страданием. Как Иов ощущал Бога в буре, а Илия – в веянии тихого ветра, так Русская православная церковь ощущает Бога в веющей внутри неё атмосфере унижения. И в ней ощущают Его все истинные православные. Мне даже кажется, что истинный член Русской православной церкви – это тот, кто её атмосферу унижения чувствует не только как страдание, но и как радость.
Если органичность соединения какого-либо числа организмов в бо́льший организм достаточно велика для того, чтобы он мог быть единой обителью Бога, то, когда Бог входит в него, Он входит и в каждый из меньших организмов. Если общество города Ассизи было столь органично, то его слёзное покаяние и благоговение означало также слёзное покаяние и благоговение каждой входящей в него семьи и души; и если семья Закхея была столь органичной, то её спасение означало и спасение каждого её члена.
Так как Бог обитает в Русской православной церкви, то для нашего организма хорошо стать истинной её частью, тогда Бог обитал бы и у нас. Но разве это изменение нашего организма не есть тот же переворот, невозможный для людей, но возможный для Бога,– переворот, позволяющий отворить Ему дверь?
В «Испытании и искушении», рассматривая аналогичную ситуацию, Я.С. Друскин говорит: «Что же остаётся на мою долю? Может быть, только одно: ничего не приписывать себе, только каяться. Даже желая помочь Богу, я мешаю Ему, я могу только мешать Ему /в Добавлении к «Видению невидения», IV, Друскин уже пишет: «Могу ли я помочь Богу? Так же мало, как и помешать Ему»/. Но, может, и покаяние не зависит от меня, от моих сил: «ибо мы не знаем, о чём молиться и как до́лжно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» /Рим.8:26/. Тогда на мою долю уже ничего не остаётся, остаётся н и ч т о, тогда я абсолютно свободен, как Бог, сотворивший и всё время творящий из ничто – что. Потому что «уже не я живу, но живёт во мне Христос» /Гал.2:20/.
Богословие обряда (1)
Апрель- май 1989 г.
Под верой я буду понимать христианскую веру, вокруг которой обращается вся жизнь человека, веру, которая всю её освящает. Конечно, он не может о ней не говорить, по крайней мере, про себя. Но то, о чём он говорит на каком бы то ни было языке – философском, поэтическом, музыкальном, языке танца, живописи и др., т.е. содержание его высказывания, может быть лишь тем или иным психическим состоянием; когда мы говорим как будто о внешних вещах, в действительности мы говорим лишь о своих впечатлениях. Вера, о которой человек только говорит (себе или другим), ещё психологична и, как всякое психическое состояние, не есть подлинная реальность.
Но не имеет реальности лишь содержание высказывания, высказывание же в целом, т.е. писание трактата или стихотворения, музицирование, танец, живописание и др., реально. Поэтому подлинно реальна не та вера, которая является содержанием высказывания, а та, которая тождественна высказыванию. Вера тождественна высказыванию лишь в том случае, если оно является молитвой. Молитва может не только состоять из слов или слов и телесных знаков, но также быть музицированием, танцем, живописанием и др.
Однако молящийся человек, оторванный от других людей, не вполне реален, отчего не вполне реально и его высказывание – молитва. Дело в том, что Бог сотворил человека не как отдельное существо, а как существо, связанное с подобными ему существами (Быт.2:18,21-24; Еккл.4:7-12). Человек, связанный с другими людьми, сотворён Богом и потому реален; человек же, оторванный от всех других людей,– результат греховного искажения того, что сотворил Бог, и потому не совсем реален: Бог сотворил человека не таким. Но людей связывает обмен высказываниями, к которым относятся также безмолвные прикосновения друг к другу или действия в совместном производственном процессе, являющиеся и подаваемыми друг другу знаками. Какое же высказывание может связать молящегося человека с другими людьми, кроме этой же молитвы ? Но для этого она должна быть обращена к ним: чтобы молитва была вполне реальной, она должна быть обращена не только к Богу, но и к другим людям. Такая молитва есть обряд. Здесь я, как правило, буду понимать это слово в смысле обряда, совершаемого перед другими людьми.
Итак, вполне реальна лишь вера, тождественная обряду. Она есть обращение к Богу и людям. Но обряд сам по себе – просто как высказывание, состоящее из слов, телесных знаков или тех и других,– только говорит об обращении к Богу, имеет это обращение лишь своим содержанием. Действительным обращением к Богу является не сам обряд, а тождественная ему вера, сам же он обращён к Богу лишь формально. Ясно, что он не тождествен вере. Таким образом, реальная вера определяется формулой:
вера есть вера, тождественная обряду,
но сам обряд не тождествен вере.
Общая схема этой противоречивой формулы называется односторонним синтетическим тождеством. Одностороннее синтетическое тождество применяется и к другим духовным вопросам. Оно найдено Я.С.Друскиным. Данная формула получена мною с помощью его рассуждения «Религиозный радикализм и традиционализм. Индивидуализм и соборность» и, мне кажется, выражает его взгляд на отношение между верой и обрядом. Очевидно, реальная вера есть не состояние, а акт – акт веры.
Так как вера, тождественная обряду, есть вид соборности, то без соборности нет и вполне реальной веры. Но, если ущербна вера, не тождественная обряду, то обряд, которому не тождественна вера, представляет собою, по выражению Я.С.Друскина, мёртвую шелуху. Совершение такого обряда возможно, мне кажется, в трёх случаях.
Во-первых, он может совершаться без какой бы то ни было веры, под давлением внешних обстоятельств.
Во-вторых, он возможен с верой, при которой центром всей жизни не является Сам Бог.
В этом рассуждении я о ней не говорю, потому что в действительности она не есть вера. По-видимому, именно такая вера в Бога была у большинства книжников и фарисеев, однако Христос сказал им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Мат. 23:23). Согласно же Откровению, Он говорит Ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих… Итак, будь ревностен и покайся» (Отк. З:15-16,19). Что же движет человеком, который совершает обряд без действительной веры в Бога? Если оставить в стороне случай внешнего воздействия, то им движет вера в сам обряд. В его совершении она тождественна ему, т.е. вполне реальна. Реальная вера, не полагающая центром всей жизни самого Бога, есть вера не в Бога, а в сам обряд. Из неё следует, что обряд необходимо принесёт некоторое благо, нужно только правильно его совершать; если это, например, обряд освящения, то, согласно вере в него, он не может не освятить. Очевидно, вера в обряд – уже не христианство. Так как у человека нет действительной веры в Бога, он не может обращаться к Нему: своим обрядом он обращается к Богу только формально. Справедлив ли этот вывод, ведь человек как будто молится? Но как обращаться к тому, в кого не веришь? Не адресовано ли такое обращение своему воображению, т.е. самому себе?
В-третьих, такой обряд может совершаться даже с действительной верой, но ему не тождественной. Она может быть тождественна не ему, а внутренней молитве. В этом случае у человека вера-молитва – сама по себе, а обряд – сам по себе. Что же здесь побуждает человека его совершать, если не говорить о случае внешних обстоятельств? Мне кажется, опять-таки вера в сам обряд, которая в его совершении тождественна ему. Значит, в этом случае вера-молитва совмещается с верой в сам обряд, т.е. христианская вера с нехристианской.
Вера, тождественная обряду, есть обращение к Богу и людям. Но и обратно, обращение к Богу и людям есть вера, тождественная обряду. Таким образом, вера-обряд и это обращение – одно и то же. Если человек действительно обращается к Богу и людям, он имеет веру-обряд, т.е. веру, которая вполне реальна. Вместе с верой-обрядом у него может быть вера-молитва. Наконец, к вере-обряду или к ней и вере-молитве может присоединяться вера в сам обряд: к реальной христианской вере – реальная нехристианская.
Существует мнение, что обряд укрепляет веру в Бога. Но так как эта вера является благодатью, это мнение означает, что обряд даёт некоторую благодать. В действительности же, мне кажется, благодать, в частности, вера даётся непосредственно Богом, и если Он даёт вполне реальную веру, то Его дар есть вера, тождественная обряду. Если же Сам Бог не даёт веру в Бога, то в совершении обряда есть, самое большее, реальная вера в сам обряд.
Вера, тождественная обряду,– святой Божий дар. Так как она включает в себя этот обряд, то он свят, и, значит, свято всё, что в него входит. В частности, в нём святы, освящены тело совершающего его человека и подлежащие освящению вещи, если они есть.
Это не означает святости обряда, которому не тождественна вера. Отсюда не следует также освящённость какой-либо вещи, взятой вне веры-обряда. Если, однако, употреблением вещи, полагаемой освящённой, человек обращается к Богу, то оно есть уже обряд, которому тождественна вера. Значит, внутри этого употребления вещь, полагаемая освящённой, действительно освящена, как и всё другое, что в него входит.
Мне кажется, с этим связано освящение вещи, прикасающейся к другой вещи, которую мы считаем освящённой. В Библии о таком освящении впервые говорится, если не ошибаюсь, в Исх.29: З7: «всё, прикасающееся к жертвеннику, освятится». Затем, в Исх.30:29, сказано, что освятится всё, прикасающееся к скинии собрания, ковчегу откровения, столу, его принадлежностям, светильнику, его принадлежностям, жертвеннику курения, жертвеннику всесожжения, его принадлежностям, умывальнику и его подножию. И Христос такое освящение признаёт: « что больше: золото или храм, освящающий золото?… что больше: дар или жертвенник, освящающий дар ?» (Мат.23:17,19). Наконец, оно принято православием и католичеством. Понимать его можно следующим образом. Если мы считаем некоторую вещь освящённой и, прикасаясь к ней другой вещью, обращаемся этим действием к Богу, то оно есть обряд, которому тождественна вера, и, значит, в этом нашем действии освящена как первая вещь, так и вторая.
В душе человека, обращающегося к Богу своим обрядом, есть святость, так как есть тождественная ему святая вера. Но отсюда не следует, что в этой душе нет греха. Если этот обряд объемлет и других людей, в нём, очевидно, освящено не только тело совершающего его человека, но и их тела. И есть святость в душах тех из них, кто имеет веру-обряд или веру-молитву.
Итак, у человека могут быть две реальные веры – каждая в отдельности или обе вместе: вера в Бога, тождественная обряду, и вера в сам обряд, также тождественная обряду. Первая вера – от неба и усыновляет человека небу, вторая вера – от земли и усыновляет его земле. Первая – бодрствование и жизнь, вторая – сон и смерть. Если в человеке совмещаются обе веры, в нём борется бодрствование со сном, жизнь со смертью.
Богословие обряда (2)
Июнь – сентябрь 1989 г.
В (1) реальная христианская вера определена односторонним синтетическим тождеством
вера есть вера, тождественная обряду,
но сам обряд не тождествен вере.
Здесь сам обряд – словесное, телесное или словесно-телесное высказывание, имеющее своим содержанием более или менее определённое обращение к Богу и в большей или меньшей степени обращённое к другим людям. Во-первых, следует подчеркнуть, что обращение к Богу является лишь содержанием обряда, т.е. тем, о чём он говорит: если человек только совершает обряд, он своим сердцем к Богу ещё не обращается. Обращение сердцем к Богу – не сам обряд, а вера, тождественная обряду (в дальнейшем под обращением к Богу я всюду, где нет особых оговорок, понимаю обращение сердцем) . Во-вторых, за исключением отрешённости от мира, высказывание в присутствии людей, к которым оно не обращено по содержанию, фактически к ним обращено, пусть нередко в очень малой степени, и даже в отрицательной – когда высказывающий старается скрыть от них его смысл. Это относится и к обряду: хотя по содержанию он обращён только к Богу, фактически человек, совершающий его, в той или иной степени обращается и к присутствующим; если же их нет или он отрешён от мира, он совершает не обряд, а внутреннюю молитву, хотя бы она произносилась вслух или была сочетанием телесных знаков или включала то и другое.
Итак, первое предложение одностороннего синтетического тождества означает, что реальная христианская вера есть обращение к Богу и другим людям. Она представляет собою не состояние человека, а совершаемый им акт.
Вера, тождественная обряду, потому реальна, что реален обряд, обряд же реален потому, что совершающий его человек направлен на других людей и благодаря этому вполне реален вместе со своим обрядом: Бог сотворил человека не как самодостаточное существо -это уже результат искажения грехом Его творения,– а как направленное на существа, ему подобные. Атомом направленности человека на других людей является, во-первых, его обращение к другому человеку . Поэтому человек, совершая обряд, т.е. в той или иной степени обращаясь к другим людям , и направлен на этих людей.
Но, во-вторых, атомом направленности человека на других людей является его внимание к высказыванию другого человека. Степень, в которой один человек имеет во внимании высказывание другого, тоже может быть большей или меньшей и даже отрицательной – если он старается это высказывание не понять. Так как человек, имеющий во внимании высказывания других людей, направлен на них, он вполне реален. Значит, в его внимании вполне реальны и эти высказывания. Если же какие-то из них совершает человек, не замечающий ни его, ни кого-либо другого (которого может и не быть), т.е. совсем не обращаясь к людям, в нём эти высказывания не вполне реальны. Таким образом, возможна противоречивая ситуация: одни и те же высказывания не вполне реальны в том, кто их совершает, и вполне реальны во внимании другого. В частности, во внимании какого-либо человека реальна молитва, исходящая от других людей. Но ей может быть тождественна его вера. Тогда эта вера реальна.
Я имею в виду тот случай, когда человек обращается к Богу словами и телесными знаками (или чем-либо одним), исходящими от других людей и имеющимися в его внимании. Это обращение к Богу и есть вера, тождественная состоящей из них молитве. Но сама эта молитва – как одно только высказывание – имеет обращение к Богу лишь своим содержанием, т.е. вере не тождественна. Во внимании человека может быть и молитва, исходящая от других людей, которой не тождественна его вера. Этой молитвой он к Богу не обращается, т.е. не обращается сердцем. Но он может обращаться ею к Богу формально. Молитва во внимании данного человека, исходящая от других людей, которой он обращается к Богу действительно или формально, пусть тоже называется его обрядом. Об отношении же этом человека к молитве в его внимании, совершаемой кем-либо другим, я буду говорить, что он её разделяет. Очевидно, в одностороннем синтетическом тождестве, определяющем реальную веру, обряд можно понимать и в таком смысле.
Итак, обряд данного человека может быть его обращением к другим людям, а может быть высказыванием в его внимании, исходящим от других людей. В обоих случаях обряд вполне реален. Сейчас я хочу соединить эти два его понимания. Обрядом данного человека я буду называть словесное, телесное или словесно-телесное высказывание, которое имеет своим содержанием более или менее определённое обращение к Богу и может состоять из высказываний этого человека, обращённых к другим людям, и высказываний других людей, имеющихся в его внимании и разделяемых им. Два вида обрядов, которыми мы занимались до сих пор, являются, очевидно, частными случаями обряда в этом общем понимании. Он вполне реален, так как вполне реальны все образующие его высказывания. Значит, реальна вера, тождественная ему. Так я и буду в дальнейшем понимать обряд в одностороннем синтетическом тождестве, определяющем реальную христианскую веру.
Но обряд может быть у человека и в силу его подчинения людям, к которому относятся также вера в сам обряд и уступка внешнему воздействию. Говоря о подчинении людям, я всегда буду иметь в виду только такое подчинение. Оно тождественно тому, что у человека есть обряд, т.е. что он совершает одни обрядовые высказывания и имеет во внимании и разделяет другие. Но иметь во внимании и разделять высказывание – то же, что делать его, только не явно, как при совершении высказывания, а про себя. Таким образом, подчинение людям тождественно обряду и потому реально. Это тождество, по-видимому, также одностороннее синтетическое.
Наконец, обряду могут быть тождественны и подчинение людям, и вера. Тогда в человеке совмещается реальная вера с реальным подчинением людям .
Целостная часть обряда данного человека тоже есть его обряд, так как удовлетворяет тому же определению. Если совершается высказывание, являющееся обрядом каждого из данных людей, их группу, взятую в этом высказывании, я буду называть соборной, высказывание же это – их общим обрядом или обрядом соборной группы. Конечно, в него могут входить высказывания людей, которые ей не принадлежат, и не входить какие-то высказывания людей, которые ей принадлежат.
Реальная вера у всех членов соборной группы, имеющих её, тождественна общему обряду, т.е. одному и тому же. Однако отсюда не следует, что у них одна и та же вера, так как это тождество – одностороннее: вера одного тождественна общему обряду, но общий обряд не тождествен вере другого. Я.С.Друскин считал, что Христос, один и тот же для всех христиан, у каждых двух из них различен; это, видимо, означает и различие их реальной веры. Точно так же, хотя подчинение людям каждого из членов соборной группы, у которых оно есть, тождественно одному – её обряду, нельзя сделать вывод, что у них одно и то же подчинение людям. И, наконец, тождества общему обряду чьей-либо веры и чьего-либо подчинения людям не являются основанием для отождествления абсолютно различного – подчинения людям и веры.
Христос сказал: « слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоан.5:24) ; «верующий в Сына Божьего не судится, а не верующий уже осуждён» (Иоан.3:18). Если человек имеет веру, тождественную его обряду, то он реально верующий и, значит, перешёл в вечную жизнь. Итак, человек в акте веры пребывает в вечной жизни. Ввиду того, что вечная жизнь означает свободу, человек в подчинении людям, тождественным его обряду, т.е. в акте отсутствия свободы, не пребывает в вечной жизни. Если подчинение людям не совмещается в нём с верой, тождественной хотя бы внутренней молитве, то он – не верующий; значит, человек в этом акте уже осуждён. Если же у человека – обряд, которому тождественны и вера, и подчинение людям, этот человек онтологически противоречив: можно сказать, что он и в вечной жизни, и вне её, или что человек, пребывающий в вечной жизни, и человек, не пребывающий в ней,-один и тот же; первое предложение разделяет неразделимое, второе – соединяет несоединимое. Для моего разума то и другое непонятно, не говоря уже о непонимании им вечной жизни.
Это онтологическое противоречие относится и к обряду человека, если у него – реальная вера вместе с подчинением людям: этот обряд и в вечной жизни, и вне её. Если же в соборной группе одни имеют реальную веру, а другие не имеют даже веры, тождественной внутренней молитве, т.е. участвуют в общем обряде лишь в силу своего подчинения людям, то первые вместе со своим обрядом – в вечной жизни (хотя, может быть, также и вне её), а вторые вместе со своим обрядом осуждены. Но у всех один и тот же обряд – общий. Значит, в этом случае имеем такое онтологическое противоречие: общий обряд и в вечной жизни – в одних членах соборной группы, и осуждён – в других.
Если вера тождественна общему обряду, иными словами, если человек обращается к Богу общим обрядом, то она реальна. Этого для реальности веры достаточно; однако это не необходимо, так как реальна ещё вера, тождественная индивидуальному обряду; но и он невозможен без других людей – без обращения к ним или внимания к их высказываниям и разделения их. В отсутствие других людей не может быть также реального подчинения людям: оно реально только в обряде – общем или индивидуальном. Таким образом, участие в общем обряде для реальности подчинения людям достаточно, но не необходимо.
Согласно пророку Исаие, Бог об иудейском народе говорит: «так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, Я ещё необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет» (Ис.29:13-14). Содержащееся здесь обвинение относилось, очевидно, и к совершаемым обрядам, в которых иудеи, как оно, по-видимому, показывает, не обращались к Богу сердцем, т.е. не имели тождественной обряду веры, но подчинялись заповедям человеческим. Как же Бог устраняет этот грех? Он поступает с этим народом необычайно, чудно и дивно, так что погибает мудрость его мудрецов, и исчезает разум его разумных. Апостол Павел понимает это как распятие пришедшего в мир Христа (1Кор.1: 17-25). Итак, грех, совершаемый в обряде, которому тождественно подчинение людям, но не тождественна вера, Бог устраняет не в рамках иудаизма, а посредством Христа. Видимо, в иудаизме этот грех неустраним, т.е. относится к его существу. Таким образом, Христос принёс веру, тождественную обряду, которая тем самым и составляет собственно христианство. Тогда подчинение людям без реальной веры есть иудаизм, реальная вера без подчинения людям – христианство, а совмещение подчинения людями реальной веры можно назвать иудео-христианством. В одной соборной группе могут быть христиане, иудео-христиане и иудеи. При этом граница, разделяющая реальную веру и подчинение людям, проходит между христианами и иудеями и внутри иудео-христиан.

