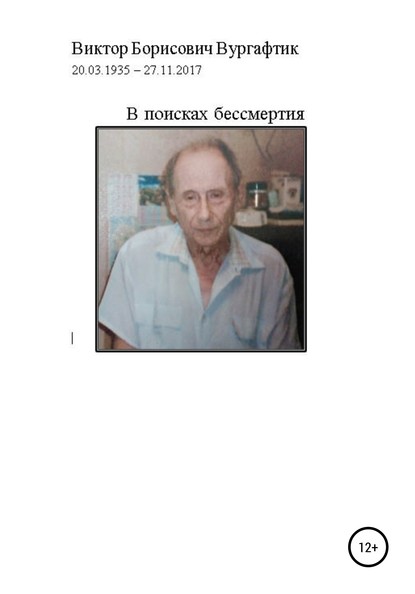 Полная версия
Полная версияВ поисках бессмертия
Но вот у меня остаётся только моё слово, входящее в систему, а Божьего Слова и реальности нет: моё слово не тождественно Божьему Слову. Я ничего не вижу, но это моё слово содержит некоторое представление как частицу моей системы. Созерцание этого представления называется воспоминанием – например, дерева или радости, которые я видел только что.
Принятие Божьего Слова, становящегося моим словом, и наличие у меня лишь моего слова, не тождественного Божьему, кажутся в этом описании временно́й последовательностью трёх этапов: СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ, восприятия и воспоминания. Но время не есть реальность, и распределять эти состояния по времени нельзя. Тогда они немыслимы. Но как можно мыслить то, что высказывается односторонним синтетическим тождеством, представляющим собою противоречие? Ведь согласно этому тождеству Божье Слово тождественно моему слову, но моё слово не тождественно Божьему. И вот именно эту нетождественность я переживаю как время, начавшееся с СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ и продолжающееся до настоящего момента, когда я вспоминаю увиденное.
Моё слово в восприятии и воспоминании вполне осмысленно: свой смысл оно получает от связи с другими словами моей системы. Но в СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ оно не связано с ними, то есть бессмысленно. Оно не означает здесь того же, что в толковом словаре; дерево или радость в СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ нельзя понимать так, как я понимаю их в соответствии с моим мировоззрением. Божье Слово не имеет человеческого смысла, этот смысл придаю Ему я сам.
Итак, воспринимаемое мною зависит от моего мировоззрения. Видя, как на безоблачном небе Луна исчезает в чём-то чёрном, я, получивший научное воспитание, говорю: Луна была освещена Солнцем, а теперь входит в тень Земли; и я вижу то, о чём говорю, – вхождение Луны в тень Земли. Однако, если бы я был членом одного из южноамериканских племён, я бы сказал: Луну поглощает чудовище такое-то; и я видел бы, как Луну поглощает это чудовище. Но в том и другом случае я вижу не реальность, сотворённую Божьим Словом, а фантазию той культуры, в плену которой я нахожусь. Божье Слово, становясь моим словом, освобождает меня от этого плена, но лишь на мгновение – я сразу же снова попадаю в плен; так выглядит совмещение бессмысленности и осмысленности моего слова с точки зрения времени. В СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ я вижу реальность и видел бы её, кем бы я ни был – европейцем, южноамериканским индейцем или австралийским аборигеном. Мне кажется, это ви́дение в принятии Божьего Слова имел в виду евангелист Иоанн, говоря: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» /Иоан.1:9/.
Могу ли я понимать реальность вне её ви́дения? Я могу сказать, что она во мне, то есть что она – я, моя душа. Но это не есть понимание реальности, потому что я, или моя душа – не понятие, говоря так, я просто ввожу другое название того же неизвестного. Чтобы понять реальность – сделать её название понятием, – я должен включить его в мою систему, но тогда я буду понимать не реальность, а результат её искажения. Реальность не соответствует никакому понятию, то есть человеческому смыслу, так как соответствует творящему её Божьему Слову, Которое с человеческой точки зрения бессмысленно.
Мировоззрение подразумевает, что то, какой оно изображает действительность, от меня не зависит. Значит, введением в него видимой реальности я полагаю её независимой от меня, или, как говорят, объективной. Поэтому на вещь, которую я воспринимаю или вспоминаю, – является ли она физической или психологической – я смотрю как на объективную.
Название реальности, то есть Божье Слово, ставшее моим словом,– это не обязательно одно слово /возможно, вместе с подчинёнными ему словами/: Оно может быть предложением и даже несколькими связанными предложениями. Это предложение или сочетание предложений – но только как название реальности – также не имеет человеческого смысла, потому что не входит в систему. Чтобы текст, состоящий из нескольких предложений, был по-человечески осмыслен, недостаточно соединения его слов друг с другом: для этого я должен иметь в виду целую систему, целое мировоззрение, частью которого он являлся бы. В восприятии же и воспоминании, став частью такой системы, этот же текст являет человеческий смысл.
В частности, он называется законом /принципом и т.п./ в науке, теоремой в математике или воззрением /представлением/ в философии. При этом СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ считается творческим моментом, в котором он возникает. Но я этот текст не творю, я получаю Божье Слово, становящееся моим словом, Божье Слово, творящее реальность, значит, являющееся её совершенным знанием. Однако совершенное знание реальности, которое даёт мне Бог, я ввожу в систему – либо имеющуюся, либо возводимую на нём, – и оно становится мнимым знанием, называемым законом, теоремой, воззрением и т.п. Это уже моё слово, не тождественное Божьему, воспоминание реальности, не соответствующее ей. В том, что называется актом творчества /открытием/ закона, теоремы или воззрения, Бог даёт мне увидеть реальность. Но точно так же Он даёт мне увидеть реальность в получении радости или дерева: здесь, как и в творческом акте, Он даёт мне Своё Слово, творящее её. И всё же я чувствую отличие творческого СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ от нетворческого. Это есть чувство существования других я: в моём творческом акте Бог даёт Своё Слово не только мне, но и через меня другим, мне подобным.
Было бы хорошо, если бы центром моей жизни было бессмысленное Божье Слово, становящееся моим словом. Но центр моей жизни – моё слово, входящее в мою систему, то есть имеющее человеческий смысл. Центр моей жизни – моя система, и это плохо.
Не исчезающая реальность
Июль-август,1988 г.
Божье Слово, тождественное моему слову, даёт мне реальность. С человеческой точки зрения Оно бессмысленно, но я ввожу Его в мою систему и этим придаю Ему человеческий смысл. Если Его введение в систему не изменяет её, получение реальности называется нетворческим – таково получение дерева или радости. Если же это введение изменяет систему, получение реальности называется творческим.
Здесь я остановлюсь на творческом получении реальности. В этом случае введение в систему Божьего Слова, ставшего моим словом, может либо прибавить к имеющейся системе некоторую подробность, либо потребовать её замены другой системой, Для иллюстрации первой возможности я попытаюсь войти в состояние Эдвина Хаббла, обнаруживающего, что скорость удаления галактик пропорциональна расстоянию до них, причём предположу, что он уже знал космологию Эйнштейна-Фридмана и верил в неё. В этом состоянии я сразу же нахожу в ней место для увиденной мною пропорциональности, чем лишь дополняю моё мировоззрение, но не пересматриваю его; при этом моя эмпирическая пропорциональность получает статус настоящего закона.
Иллюстрацией второй возможности пусть будет переживаемое мною состояние Альберта Абрагама Майкельсона, видящего, что световая волна распространяется в пустоте. Так как согласно его, то есть моему, мировоззрению волна может распространяться лишь в какой-то среде, в частности, световая волна – в эфире, то оно не в состоянии вместить реальность, которую я получил. Лишь в другом мировоззрении, сообщённом мне Эйнштейном, я нахожу ей место, тогда усматриваю в ней действительный закон.
Аналогично, войдя в состояние Альберта Эйнштейна, получающего свой специальный принцип относительности, я не могу включить видимую реальность, то есть этот принцип, в моё мировоззрение, так как он означает, например, зависимость времени между двумя событиями от системы отсчёта, согласно же моему мировоззрению оно абсолютно, то есть не зависит от системы отсчёта. Если «реальность Майкельсона» противоречит физике существующей культуры, то «реальность Эйнштейна» противоречит её философии, ведь до Эйнштейна время и пространство исследовались только философией. Специальный принцип относительности Эйнштейна я ввожу уже в другую философию, и там он становится философским воззрением.
Если получение реальности таково, что система радикально не изменяется, – является ли оно нетворческим или творческим, – я систему не теряю, то есть не теряю моё слово, не тождественное Божьему. Но эта нетождественность переживается как время. Поэтому я не утрачиваю переживания времени, или, говоря короче, не утрачиваю времени. Это значит, что реальность представляется мне моментом: чтобы она могла представляться не одним моментом, а многими, её моменты должны как-то различаться, но реальности нельзя приписывать различий. Этот момент и есть СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ. Я вижу реальность мимолётно, сразу же переходя к восприятию.
Если же система радикально изменяется, то есть я теряю её и нахожу другую, то я утрачиваю время и обретаю его. В утрате времени реальность не является для меня моментом, то есть я вижу её не мимолётно, не ухожу от неё. Но и это называется СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ. Я останавливаюсь на бессмысленном Божьем Слове, ставшем моим словом.
Итак, в случае творческого акта Божье Слово, то есть название реальности, может как укладываться в физику, философию или другую область моего мировоззрения, так и противоречить ей. В обоих случаях оно имеет к ней отношение. Название реальности может иметь отношение не к одной только области, а к нескольким областям. Если среди них есть эстетика, говорят, что оно имеет отношение к искусству. Таким образом, название реальности, имеющее отношение к искусству, может укладываться в существующую эстетику или не укладываться в неё. В первом случае я ухожу от реальности, во втором не ухожу. Но и во втором случае название реальности укладывается в эстетику, только уже другую, при этом так же, как и в первом случае, его текст называется литературным. В состоянии японского поэта VII или VIII века, воспевающего снег на сливовом цвете, я получил бы текст, который укладывается в традиционную эстетику, и, таким образом, ускользал бы от реальности. В состоянии же Франца Кафки, закончившего «Старинную запись», я не мог бы найти ей место в существующей эстетике, ускользнуть от реальности.
Предложение, нарушающее какой-либо закон формальной /дедуктивной/ логики, называется алогизмом. К алогизмам относятся, например, апория /принятие некоторого предложения и его отрицания/, нарушающая логический закон противоречия, и неопределённое отрицание /отвержение некоторого предложения и его отрицания/, нарушающее закон исключённого третьего. Содержащий алогизмы текст пусть называется алогичным. Можно ли ввести алогизм в какую-либо область имеющейся системы? Предложение вводится в систему мыслью, а для мысли, то есть логики, алогизм ложен, из ложного же следует что угодно, в том числе предложение, несовместное с данной областью. Таким образом, для мысли алогизм и данная область несовместны, то есть мысль не может ввести его в неё. Но тогда алогичное название реальности противоречит любой области моей системы, то есть имеет отношение ко всем областям; нельзя считать, что оно имеет отношение только к философии или искусству. Оно представляет собою название реальности, при котором я не могу уйти от неё.
Значит, я не ухожу от реальности в двух случаях: если её название лишь не укладывается в мою систему, но алогичным не является, и если оно является алогичным. Однако второй случай – это уже нечто существенно новое: алогичное название реальности не укладывается не только в имеющуюся систему, но и ни в какую другую. В этом случае нет восприятия и воспоминания, искажающих реальность, есть только СЕЙЧАС МОЕЙ ДУШИ. Но это значит, что в одностороннем синтетическом тождестве Божьего Слова моему слову исчезает нетождественная часть, то есть Божье Слово и моё слово оказываются одним и тем же. Моё алогичное слово /в смысле предложения или сочетания нескольких предложений/, в котором я вижу реальность, есть данное мне Божье Слово.
Ад, не лишённый надежды
Февраль-март, 1989 г.
Зое
У меня есть два греха, за каждый из которых я заслуживаю ада. Первый грех: я очень люблю единственного человека, который мне близок, но себя люблю больше. Второй грех: я знаю мои права в обществе и, если могу, отстаиваю их. Многие, по-видимому, не согласятся, что второе – грех, и даже, что первое – грех. Однако я хорошо чувствую, что это так, хотя, к сожалению, это чувство редко бывает острым; при этом первый грех для меня более невыносим.
Я сказал, что за каждый из этих грехов заслуживаю ада. Но, заслуживая ада, человек не просто находится в его ожидании – он уже живёт в аду. Я.С. Друскин считал, что тот ад отличается этого одним – отсутствием надежды. Я живу в аду, не лишённом надежды. Мне кажется, этот ад имеет в виду апостол Павел, когда говорит: «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждёнными с миром» /1Кор.11: 31-32/.
И вот я боюсь, что из-за меня в аду оказался и близкий мне человек – именно в силу нашей близости. Я заслуживаю ада, я даже рад ему, но мой близкий, мне кажется, его не заслуживает. Он страдает больше меня, моё страдание в основном вызвано его страданием и часто содержит уныние по поводу моих страданий. Я думаю даже, что он взял на себя мои грехи и из-за них попал в ад. Пребывание же в аду моего близкого невыносимо для меня потому, что в своё время я не позволил ему немного отойти от меня, усугубил нашу близость.
Как бы то ни было, вряд ли можно сомневаться, что мы находимся в аду. Этот ад, не лишённый надежды, не исключает приобщений к раю, возможно, у нас и бывали такие приобщения.
Теперь я попытаюсь высказать наше положение на языке философии. Если две, несколько или много человеческих душ более или менее органично соединены между собой, я считаю, что существует состоящее из них единое, которое я буду называть организмом. При этом я не предполагаю, что отдельные души растворяются, исчезают в нём. Примеры организма: некоторое человеческое общество, объединение поэтов, дружная семья. Частным случаем организма является отдельная душа.
Степень органичности организма может быть большей или меньшей. Например, общественный организм менее органичен, чем семейный, члены которого любят друг друга, а этот семейный менее органичен, чем одна душа.
Действие на организм сотворённой Богом внешней реальности переживается им как тот или иной безболезненный факт. Такими фактами в общественном организме являются, например, открытие полезного месторождения, планета Венера, рождение слонёнка от знаменитой слонихи, в семейном организме – настроение, содержащееся в фразе, которая понята лишь его членам, в объединении поэтов – видимое ими содержание стихотворения, написанного кем-нибудь из них, в душе – какое-либо непередаваемое чувство. Каждый такой факт строится самим организмом внутри себя из материала, порождаемого в нём действием внешней реальности, свойства же её самой не могут быть ему известны. В частности, в ней нет планет, не рождаются слонята, отсутствуют содержания стихотворений, нет чувств.
Но Бог иногда действует на организмы и непосредственно. Действие Бога на душу Я.С. Друскин называет испытанием и наградой: предуготовлением. По его мнению, душа в силу своего греха противится этому действию, тогда переживает его как боль – духовную или физическую; если же противления нет, действие Бога переживается как боль, являющаяся радостью, но чтобы не противиться ему, нужно понять, что оно есть испытание и награда, понимание же это – не психологический, а реальный сдвиг, которого душа сама совершить не может: его совершает в ней только Бог. Мне кажется, Бог желает войти в каждый организм и иногда прикасается к нем, что и является его испытанием. Но каждый организм грешен, грех же – это несовместность с Богом. Поэтому на действие, прикосновение Бога организм отвечает сопротивлением. И всё же прикосновение происходит, в результате чего организм, будучи несовместимым с Богом, частично /а иногда полностью/ разрушается. Это причиняет ему страдание. Однако, если Бог совершает в нём реальный сдвиг – даёт ему понять, что подвергает его испытанию, то не встречает сопротивления и входит в него, преображая его из земного организма в небесный – часть Своего Царства; тогда организм переживает страдание, которое есть радость. «Вот стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» / Отк.3:20/.
Общественный организм переживает непосредственное действие Бога, встречающее сопротивление, как факт общественного бедствия – губительное землетрясение, извержение вулкана или наводнение, мор, голод, нашествие захватчиков и т.п. Устранение этого сопротивления есть истинное всенародное покаяние, в результате которого бедствие становится радостью. Покаяние бывает и без физического бедствия, само являясь страданием, заключающим радость. В обоих случаях организм преображается из общества в Царство Бога. Возможно, такое преображение произошло с обществом города Ассизи, когда святые Франциск и Руфин проповедовали в церкви в одной исподней одежде. В Fioretti – книге о св. Франциске – говорится: «И святой Франциск, взойдя нагой на амвон, произнёс такую удивительную проповедь о презрении к миру, и о святом покаянии, и о добродетельной бедности, и о жажде Царства Небесного, и о наготе и позоре Господа нашего Иисуса Христа на кресте, что все присутствующие начали горько плакать от великого раскаяния и благоговения. И не только в церкви, но и во всём городе в этот день был такой плач о страстях Господних, подобного которому ещё не бывало». В Деян.8:5-17, по-видимому, рассказывается о действии Бога на общественный организм, уже приготовленный Им к пониманию этого действия и непротивлению ему. Бог вошёл в этот организм, преобразив его в христианскую церковь: «…Филипп пришёл в город самарийский и проповедовал им Христа; народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса; ибо нечистые духи из многих одержимых выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись; и была радость великая в том городе… Крестились и мужчины женщины… Находившие в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые придя помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил ещё ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса; тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Покаяние русских городов, переживающих бедствия Смутного времени, кажется, может быть примером действия Бога на общественный организм, который сначала сопротивляется Ему, а потом понимает и принимает. Непосредственным толчком к покаянию были грамоты Троице-Сергиевой Лавры. Согласно «Руководству к русской церковной «П.В. Знаменского, «грамоты эти повсюду возбуждали сильное религиозное одушевление; во всех городах установили трёхдневный пост, даже для грудных младенцев. Русская земля, как Ниневия, каялась…» /VI/. Однако в Ниневии, мне кажется, было другое покаяние /Иона,3/ – не устранение сопротивления ожидаемому бедствию, а вопль к Богу об избавлении от него; отрекаясь от своих злодеяний, ниневитяне хотели не принятия Бога, а только одного: чтобы Он к ним не прикасался. Вопли к Богу в бедствиях, которыми полна ветхозаветная история Израиля, имеют, по моему мнению, такой же характер. Покаяние как устранение сопротивления Богу, как реальный сдвиг, дающий понимание испытания, совершается, может быть, только через Христа.
Различными могут быть и страдания организма, меньшего, чем общественный, сопротивляющегося действию Бога. Когда Закхей принимал Христа в своём доме /Лук.19:1-28/, Христос сказал ему: «ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама». Я думаю, спасение дома означает спасение домочадцев – так же как, например, в словах Павла и Силы темничному стражу: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой» /Деян.16:31/. Христос говорит о спасении принявшей Его семьи Закхея. По-видимому, народ относился с презрением не к одному начальнику мытарей Закхею, а ко всей его семье. Мне кажется, в факт этого мучения трансформировалось для семьи Закхея прикосновение к ней Бога. Но её сопротивление Богу было устранено, о чём свидетельствует острый интерес Закхея к Христу и то, что Закхей «принял его с радостью». Собственно говоря, эта радость, которую, вероятно, разделяли с ним все домочадцы, и была радостью, заключённой в страдании. В эту семью вошёл Бог.
В отдельной душе прикосновение Бога трансформируется в факт физического или духовного страдания, которое в том случае, когда Бог устраняет сопротивление души и входит в неё, вызывает радость – является противоречивым радостным страданием. Частично я уже об этом говорил, приводя мнение Я.С. Друскина о действии Бога на душу.
Как и действие сотворённой Богом внешней реальности, непосредственное действие Бога порождает в организме то, что служит материалом для его упорядочивающей деятельности, которая в данном случае даёт ему некоторый болезненный факт – землетрясение, всеобщее презрение, физическую боль и др. Устраняя же сопротивление, Бог Сам становится на место этого факта и ощущается организмом как радостное страдание. Все факты, которые строит общественный организм, часто называются объективными, а все факты, формируемые организмом, состоящим из небольшого числа душ, в частности, одной душой – субъективными.
На этом языке ад, не лишённый надежды,– это положение организма, в котором он подвергается непосредственному действию Бога, находясь в грехе. Из-за своего греха он не понимает, что это испытание и награда, исходящие от Бога, и противодействует Ему. Собственно, эти непонимание и противодействие являются показателями греха. Так как греховное с Богом несовместно, организм от Его прикосновения в какой-то мере разрушается и испытывает страдание. Это и есть на моём философском языке ад, не лишённый надежды.
Иудейский народ оказался в аду, когда своё противление Риму, возглавляемое зилотами, довёл до восстания. Господство Рима в Иудее было тем болезненным фактом, в который для неё трансформировалась рука Божия, лежащая на ней, и её противодействие Риму было противодействием Богу. До зилотов иудейство не противополагало себя иудео-христианским общинам, которые не могли признать Мессией никакого политического вожака и не стремились к политической независимости. Поэтому они не сильно противились Риму. На моём языке это можно сказать так: иудейство, не противополагавшее себя христианской церкви, было не столь греховно, чтобы сильно противодействовать прикосновению Бога. Когда же зилоты стали во главе народа, началось гонение на мешавших им христиан, которое отделило иудейский народ от христианской церкви. Это развязало ему руки в борьбе против Рима. Говоря моим языком, иудейство, отделившись от христианства, стало гораздо греховнее, и его сопротивление Богу резко возросло9. Началось восстание, в котором иудейское общество было разрушено: прикосновение Бога разрушило Иудею, дополнившую меру своего греха. Её страдание было ужасно. Она попала в ад, но в нём оставалась надежда.
Иудеи гнали христиан и раньше, они гнали и предали на распятие Самого Христа. Но тогда они не отделяли от себя сначала Христа с Его учениками, а потом – Его учеников, греховность же народа, не отделённого от Христа или христиан, не настолько велика, чтобы прикосновение Бога его разрушало. Со стороны Рима он испытывал только гнёт, которому слабо противился. Его несколько мучило ещё новое учение, распространяемое учениками Христа. Оно было результатом главного действия Бога на иудейский народ. Но не слишком большой грех не мешал ему иногда допускать, что оно может быть Божьим испытанием; так, Гамалиил, «уважаемый всем народом», предостерёг синедрион, что преследование учеников Христа может оказаться противлением Богу, и синедрион внял его предостережению /Деян.5:34-40/. Счёты с умножившимися учениками Христа были в какой-то мере внутренним делом народа – не то что позднее, когда подготовка борьбы с римлянами требовала его монолитности, извержения всех, не присоединявшихся к нему в этой борьбе, а таковыми были именно иудео-христиане, к тому же связанные больше с христианами-эллинами, т.е. представителями народа, союзного с врагом, чем с иудеями.
Разрушение организма народа, обособленного от окружающих народов, означает исчезновение объективных фактов, которые он строит. Когда был разрушен Израиль, исчезли его объективные факты и, значит, состоящий из них объективный мир. Повторяю: земной организм не может знать сотворённой Богом реальности, находящейся вне его; тем более он не может знать Самого Бога; он знает лишь тот мир, который сам строит из материала, порождаемого в нём действиями Бога и этой реальности. Мир, построенный организмом целого народа, и является для него объективным. Таким образом, можно сказать, что конец Израиля был концом его мира. Христос предсказывал, что конец мира наступит ещё в то время, когда «не пройдёт этот род», и как будто связывал его с осадой Иерусалима, разрушением храма, гибелью и пленением народа, попиранием Иерусалима язычниками /Мат.24:15-35; Лук.21:20-33/. Более определённо о времени конца Он сказал ученикам так: «не успеете обойти городов Израиля, как придёт Сын Человеческий» /Мат.10:23/. Не имел ли Он в виду конце мира Израиля, совершившийся в результате разрушения израильского общества, когда оно, как я сказал, попало в ад? Не стали ли тогда для Израиля фактами погасание солнца и луны, падение звёзд? Не увидел ли он на небе знамения Сына Человеческого и Его Самого «с силою и славою великою» /Мат.24:29-30/? Не это ли предсказывал Христос на суде первосвященника /Мар.14:62/? Плач земных племён у пророка Захарии – это плач племён Израиля /Зах.12:10-14/.10

