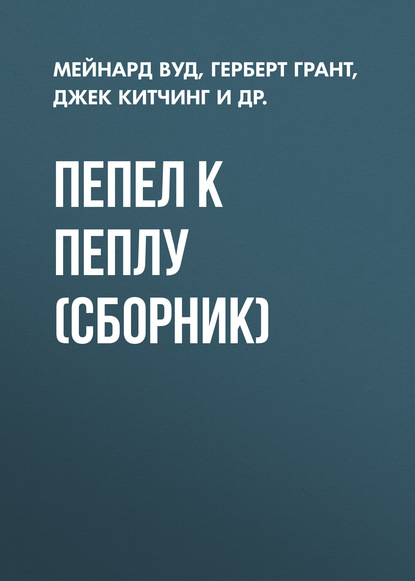
Полная версия:
Пепел к пеплу (сборник)
Такова одна из версий происхождения деревни Блэквуд. Следует заметить, что нынешние ее жители ничуть не похожи на предполагаемых предков.»
«Дорогой Джеймс!
Вместе с твоим ответным письмом пришел и твой подарок. Моя красавица Джинджер! Не буду кокетничать, отказываясь от нее и говоря, что я недостоин, только для того, чтобы обелить собственную совесть … и дать себя уговорить! Да, я знаю, что недостоин, и в первую очередь недостоин такого друга. Я только что вернулся с верховой прогулки по йоркширским холмам – и тут же взялся за перо, чтобы выразить переполняющую меня благодарность.
Не могу описать свою радость, когда я увидел Джинджер… Каким неожиданным счастьем для меня было здесь, в этой глуши, полностью оторвавшись от всего, что прежде составляло мою жизнь, обрести вновь часть утраченного! Теперь мой распорядок дня существенно изменится к лучшему. (Ты поймешь, о чем я, когда я подробно опишу его далее).
Как ты ухитрился ее выкупить? Лорд Мортон никогда не отказывался от «еще одной партии» в надежде пополнить свою конюшню моей любимицей. В конце концов, как ты знаешь, Фортуна ему улыбнулась. Правда, до этого он не раз пополнил мой тощий кошелек, так что зла на него я не держу.
И я думал, что он ни за что ее не продаст – ведь в деньгах он не нуждается и фанатично увлечен скачками. Неужели слухи о том, что он пленен твоей воспитанницей, charmant Софи, все-таки верны, и это начало его превращения в достойного члена общества? А я полагал, что ему не хватит ума, чтобы оценить ее ум… прости за неудачный каламбур.
Ты рассказал мне о всех свежих новостях и сплетнях Лондона (Даффи наконец научился вязать?), а я в ответ могу отблагодарить тебя только длинным и скучным описанием жизни изгнанника в забытой Богом и почтовым министерством деревне. Обмен неравноценный, а потому прилагаю свои рисунки – портреты самых интересных местных обитателей; среди них мисс, с которой у меня состоялось приятнейшее знакомство… но об этом – позже.
Итак, встаю и ложусь я возмутительно рано, в десять часов. Небольшой променад для аппетита (местные провожают меня удивленными взглядами, словно впервые видят человека, который прогуливается без определенной цели), и я возвращаюсь к завтраку. Все свои repas я запиваю кофе, а чай могу себе позволить только в гостях.
Но до вечерних визитов я успеваю поработать в библиотеке, и в оранжерее – осваиваю непривычные для себя виды деятельности и в промежутках делаю философские умозаключения. Например, следующее: приятнейшее ничегонеделание возможно только при наличии compagnons, а в одиночестве приходится трудиться; и что нет ничего такого, к чему бы не мог принудить человеческое существо непрерывный снегопад в союзе со скукой.
Спешу тебя успокоить: я уже преодолел свою mélancolie, вызванную этим открытием. Представь себе, как я был удивлен, когда обнаружил в этом доме на втором этаже библиотеку, и довольно обширную, содержащую редкие и ценные тома, но в отвратительном состоянии. Вообрази себе «Маллеус Малефикарум» первого издания, переплет и обрез которого практически проела плесень! А также «Ангельские ключи» Джона Ди, любимого астролога Елизаветы, и «Внешний круг» Мирча Элиаде. Разумеется, продать их в таком состоянии невозможно, поэтому я просушиваю их у камина, подручным средствами стараюсь удалить плесень, чищу переплеты, etc.
Обедаю я чаще всего бутербродами и кофе, ненадолго отвлекаясь от груды лежащих передо мной книг. Когда у меня возникает такое желание, посещаю устроенный на заднем дворе импровизированный тир – но нечасто, потому что приходится беречь патроны.
В оранжерее объем моих работ несколько меньше: практически все делает мой valet de chambre, а я лишь иногда захожу выслушать лекцию о свойствах различных трав и, возможно, переставить горшки. Знания, которые он мне невольно демонстрирует своей работой, куда больше, чем может обрести обычный бродяга, но пока ни в одной беседе он не дал мне намека на их происхождение. Когда я вынуждаю его высказаться (по любому поводу – от погоды до моих рисунков) он говорит настолько кратко и уклончиво, насколько это возможно. Меня быстро утомляют эти бесцельные расспросы, и я оставляю Холлиса в покое – ненадолго. Тем не менее, вчера он дал мне краткую возможность заглянуть в его мысли. Начну с предыстории.
Ты знаешь, что Джинджер получила свою кличку не случайно, а благодаря горячему и diablement своенравному характеру. По дороге она себя не посрамила, едва не расколотив фургон для перевозки; а когда оказалась на открытом пространстве двора, то немедленно взвилась на дыбы, стряхнув с себя старшего конюха. Он, не вставая, отполз подальше от ее копыт; остальные конюхи к ней и не приближались, безмолвной группой оставаясь у фургона.
Я открыл рот, надеясь, что Джин успокоится, услышав знакомый голос… но тут я увидел, как Холлис спокойно идет к ней через весь двор, так же уверенно и буднично, как женщина идет к колодцу за водой. С той же спокойной будничностью он наклонился и подобрал поводья, заставив Джин замереть, как памятник самой себе. Я был уверен, что Джин окаменела от его нахальства не больше, чем на пару секунд, и сам поспешил Холлису на выручку, стараясь двигаться быстро, но плавно и спокойно, чтобы не взбудоражить Джин еще сильней; а она, к моему удивлению, просто фыркнула, помотала головой и без дальнейших возражений позволила Холлису отвезти ее на конюшню.
И тем же вечером мой камердинер сказал кое-что любопытное. Я разглагольствовал о характере и привычках Джинджер; и между прочим похвалил его за смелость, которая, как я внушительно сказал, «граничит с téméraire». Он что, и вовсе не умеет бояться животных?
– Но ведь бояться следует только людей, не так ли? – спокойно возразил мне Холлис. Свет от камина давал мало возможности разглядеть его лицо (свечи мы экономим), и тень превратила его лицо в гротескную маску, похожую на маски комедии дель арте, но без их грубоватого юмора – один только спокойный, сосредоточенный гнев. Выражение это стерла очередная прихоть светотени; осталось только вежливое внимание ко всему, что я пожелаю сказать дальше.
Но я молчал, обдумывая услышанное. Фраза, которую Шиллер мог подарить своему герою – из уст английского бродяги. Загадка все интересней, правда? Но пока единственным моим выводом, построенным на зыбком песке, стало то, что я предполагаю у своего замечательного слуги некоторый опыт конокрадства.
Как видишь, описание моих трудов (в которое вплелось описание моего камердинера) заняло куда меньше времени, чем они сами, и это довольно insultant. Перейду к своим развлечениям: они окрашены в скромные, пастельного цвета тона. Это вечерние визиты к доктору Стоуну, к мисс и миссис Чамберс, и в таверну «Черная смола», где иногда выступают местные самобытные таланты. К сожалению, самобытности в них намного больше, чем таланта; но, когда я вспоминаю струнные квартеты у леди Дэлси, скрипачей миссис Уитмор или клавикорды баронессы Шеффилд, то начинаю получать от здешней музыки самое искреннее, ничем не замутненное удовольствие.
Помнится, ты описывал мне необыкновенный напиток, который делают только в здешних краях – еловый джин «Черная смола». Я его предвкушал, и в таверне «Черная смола» я его попробовал. Боже мой! После этой чудовищно горькой, вяжущей небо и напрочь отбивающее вкус настойки я не шевелился и не дышал еще, кажется, с полчаса. То ли то «необыкновенный, мягкий вкус» сильно испортился с тех времен, когда ты здесь побывал, то ли твой собственный вкус в вопросе выбора напитков отличается редкой оригинальностью. Но справедливости ради скажу, что те, кто заказали «Черную смолу» в тот вечер вместе со мной, тоже жаловались хозяину на ее вкус и говорили, что «смола какая-то не такая». По-моему, наоборот – как раз такая смола, какой она и должна быть. Доктор Стоун любезно просветил меня, из чего ее делают – оказывается, из той самой черной ели, что я видел на площади. Для изготовления джина на один бочонок идет не больше трех иголок. По моему скромному мнению, и они были лишними.
Затем возвращаюсь к себе домой (непозволительно рано, как я уже говорил), где у изголовья меня теперь ждут целых две книги: «Легенды Блэквуда» и присланные тобой три выпуска «Ярмарки тщеславия». Увлекательно, но автор уж слишком лелеет и декларирует собственный цинизм, что, на мой взгляд, доказывает поверхностные знания автора по этому предмету. Если бы он изучал его более углубленно, то знал бы, что истинный цинизм скромен, его девиз «Не словом, а делом». Вот увидишь, автор не сможет закончить книгу, не подарив счастья всем ее героям!
Продолжу письмо завтра с утра, от свечи остался коротенький пенек. Тогда и расскажу историю моего знакомства с местными представителями Beau Monde. Боюсь, сейчас я только перескакивал с пятого на десятое, стремясь сжать впечатления двух недель на одном листе.
P/S: Никогда я не был таким деятельным, как в борьбе со скукой…
Из книги «Легенды, сказки и предания Северной Англии в обработке эск. Дж. Э. Фоллоу»
«…Никого в Блэквуде не было красивей, чем Кэтрин Стоун, дочери старого вояки Стоуна. Она была такой же неугомонной и быстрой, как ручеек, скорой на улыбку и на шутку, заботливой, как перепелка, а уж красивой! Глаза как фиалки лесные, волосы цвета пшеничных полей, кожа белей, чем шерсть новорожденного ягненка. Многие кумушки Блэквуда, глядя на эту девушку, мечтали о такой работящей невестке. Сыновья их в материнских намеках не нуждались (хотя вряд ли задумывались о том, какая из Кэтрин работница), и всегда на танцах и гуляньях Кэтрин собирала возле себя толпу парней, как душистый цветок – гудящих пчел. Много раз могла она выйти замуж, но всем отказывала; и уже пошли слухи о том, что она – де привередлива и капризна, и пора отцу ее приструнить. Но старик обожал свою единственную дочь, свое солнышко, и ни к чему принуждать ее не хотел; и к тому же боялся, как он сам-то с молодым зятем уживется.
И вот однажды жарким летом Кэтрин с подругами пошла в лес за ягодами. Когда коробы их наполнились, девушки поставили их на землю, а сами сели под елью и – понятное дело – стали парней обсуждать да сплетничать, кто кому нравится, да кто на кого как посмотрел… а Кэтрин молчок – ни слова. Девицам любопытно стало, и давай они выпытывать, неужели ей ни один из фермерских сыновей не был хоть чуточку хорош? Столько раз к ней сватались, что уж могла бы выбрать себе кого-нибудь по сердцу! Вспыхнула тогда Кэтрин и сказала, что все они хороши, но ни один ее сердце чаще биться не заставил. И сказала мечтательно, глядя вверх: «Вот если бы встретился мне парень такой же прямой и сильный, как эта ель, такой же высокий и черноволосый… я бы вышла за него замуж!»
И едва она это сказала, как на нее насмешки словно из мешка посыпались. Сильнее всех те девушки старались, кому красота ее и добрый нрав были, что кость в горле: предлагали здесь, под елью, остаться, с елью повенчаться и шишки рожать. Кэтрин такого не ожидала: сначала отшутиться попыталась, потом разозлилась, а потом поняла, что вот-вот расплачется, и пошла от насмешниц прочь все быстрее, пока слезы из глаз не брызнули. Притихли девушки с ее уходом, но звать-искать не стали – домой пошли. Решили, что сама она вернется, как свечереет.
А Кэтрин-то как раз дорогу к дому потеряла: бродит по лесу, бродит – а солнышко уже к закату клонится. Хотела она уже гордость перебороть, позвать подружек, но вдруг видит: человек в лесу стоит – высокий, широкоплечий, черноволосый, как ель прямой. Стоит и глаз с нее не спускает. Оробела Кэтрин, но подошла поближе – а когда в глаза его заглянула, то весь мир и себя потеряла, слышала только, как сердце ее стучит. Часто-часто, как полковый барабан. Долго она ни слова вымолвить не могла; наконец спросила у незнакомца, как его зовут и кто он. Улыбнулся молодой человек ей ласково и сказал: «Зовут меня Пайн Три, и я тот, за кого ты обещала замуж выйти».
Он взял ее за руку, а Кэтрин молча за ним пошла. Вернулись они к той ели, под которой она с подружками сидела. Только короб ее под елью остался. Один шаг Кэтрин сделала по черной хвое, второй… а третий уже по облакам. Ахнула в ужасе, но спутник крепко ее за руку держа, не давая упасть, успокаивая… и, когда страх утих, Кэтрин увидела, что облака на самом деле не белые, а разноцветные: алые, синие, золотистые, и волнуются, как целый океан. А на горизонте этот океан в зеленую землю переходит, и лес по ней черной полосой.
Когда ступили они на эту землю вдвоем, Кэтрин увидела, что лес похож во всем на лес Блэквуда – но не такой. Яркий, словно на витраже церкви в солнечный день. Пайн Три вывел ее на поляну к дому, красивее которого Кэтрин не видела, хотя так и не смогла понять, из чего же он построен. Перенес он ее через радужный порог, и внутри Кэтрин увидела женщину, уже седую, но красивую и стройную, очень похожую на ее спутника, только еще выше, чем он.
Пайн сказал: «Мать, это моя жена, позаботься о ней». Кэтрин смутилась, глаза потупила и подумала: «Разве так можно? Разве люди так поступают – ни с того ни с сего жену в дом привести, не предупредив и не спросясь. Ой, сейчас она на нас накричит и выгонит!» Но миссис Три ответила сыну: «Рада я, что ты после стольких веков наконец отыскал себе девушку по сердцу. А раз так, то я о ней, как о дочери буду заботиться!» И улыбнулась Кэтрин так тепло и приветливо, что ей показалось, будто в комнате солнышко взошло.
Хорошо ей жилось в новом доме. Днем она вместе с миссис Три работала по хозяйству: пряла, ткала, вышивала, паутину развешивала, учила с птицами лесными новые песни, присматривала за облаками и дождиком; а вечером муж приходил, и были эти вечера полны тепла и смеха, а ночи – ласки и нежности. Долго ли, коротко ли, а живот Кэтрин округлился.
Сама она этому очень рада была, но заметила, что муж почему-то встревожился, нахмурился, тройной заботой ее окружил и из дома практически не выпускал. Но однажды вышла она на утреннюю прогулку и увидела, что на кусте возле их дома расцвел цветок красоты неописуемой, потому что таких красок на земле нет; захотелось ей цветок этот в косы вплести, чтобы еще краше для мужа стать. Вдруг вспомнила она, что муж запретил ей что-либо рвать с этого куста; но подумала, что теперь, в ее положении, он на нее не сможет рассердиться… и потянула за стебель. А тот не поддается!
Она рассердилась и потянула сильнее – и вдруг весь куст корнями вырвала, а на том месте, где он рос, увидела дыру, в которую можно было разглядеть, что внизу, на земле происходит – только иногда облака мешали. Стала Кэтрин на колени возле дыры и глянула вниз – и вдруг свою деревню в кольце леса увидела. Вспомнила она тут о том, что своего старика отца бросила, не знает он, что с ней, и неведомо, жив ли еще? И пронзила сердце ее стыд и жалость, захотелось ей увидеть старика, утешить его, обнять и успокоить, рассказать, как ей живется. В тот день пропал из глаз Кэтрин покой и счастье безмятежное. А вечером муж ее вернулся и, едва в глаза ее заглянул, сразу все понял. Застонал он: «Жена моя, что же ты наделала!». Опустился на пол, голову в руках спрятал, и не хотел плакать, а заплакал. С первой слезой его дождь пошел, со второй гроза началась, а Кэтрин стояла рядом, вздрагивая от грома и беспомощно руки опустив. Наконец поднял он лицо и сказал ей: «Ты вспомнила свою землю, свои корни – и не сможешь больше здесь оставаться, эта земля не примет тебя больше и убьет. Теперь я должен тебя домой вернуть. Ах, жена моя, жена, зачем ты меня не послушалась!».
Плакала Кэтрин и противилась, но поделать уже ничего нельзя было. Заснула она – а проснулась уже на околице села, и рядом – тот самый короб с ягодами, который она тогда в лесу бросила. Села Кэтрин на землю и заплакала так, как будто у нее сердце разрывалось, плакала даже тогда, когда у нее слез не осталось… Долго она горевала, но вспомнила о своем отце и встала. Кэтрин подняла свой короб и удивилась его тяжести. Заглянула внутрь – а все ягоды в нем в золотые превратились!
Вернулась она к отцу, который уже не чаял ее живой увидеть, и продлила ему своей заботой жизнь на долгие годы. Больше дочки он любил только своего внука, черноволосого и синеглазого.»
Итак, дорогой Джеймс, я продолжаю. Утро, и бодрящий сквознячок из щелей перекошенных рам не дает мне забыть о прелестях зимы. За ночь на окнах намерзает трехдюймовый слой льда, закрывающий его до половины. Скоро мой камердинер выведет Джинджер во двор, и я отправлюсь на традиционную (традиция длиной в два дня порой ничуть не хуже традиции длиной в два века) утреннюю прогулку. А пока вкратце, как и обещал, изложу историю своего знакомства с доктором Стоуном, мисс и миссис Чемберс и прочими лицами на моих portraits.
С доктором Стоуном проще всего – он сам явился ко мне с визитом на следующее утро после приезда в компании священника и мэра. Признаюсь, меня немного насторожила такая делегация – словно конклав специалистов по вопросам здоровья телесного, душевного и имущественного собрался меня освидетельствовать. Это должно было польстить мне, но не польстило. Я отменно вежливо пригласил их в гостиную, и завязалась светская беседа о целях моего приезда, возможной его продолжительности и впечатлениям от уже виденного в Блэквуде. Я сумел удержаться и не ответил, что холмы и овцы, которых я увидел в Блэквуде, ничем не отличаются от холмов и овец в других частях Англии – я понимал, что это может уязвить гордость жителей Блэквуда; хотя их бесцеремонное любопытство буквально бесило меня, и в начале разговора я едва удерживал рвущиеся с языка колкости.
Именно доктор Стоун смягчил мой настрой и перевел нашу беседу в более agréable русло. Несмотря на свой почтенный возраст (как минимум вдвое старше меня), он чужд деревенского ханжества: и вскоре я с гордостью описывал ему изобретенный мной «Дамский пугач», который произвел такой furor на улицах и в каретах Лондона.
Если ты еще не знаешь, что это такое (а временами ты ухитряешься быть больше не от мира сего, чем какой-нибудь пустынник) – то вот тебе его устройство. «Дамский пугач» – это простой свинцовый тюбик художника, заполненный вместо белил водой, и с проделанными иглой отверстиями в крышечке. Сжимаешь тюбик и – вауля! Восторженное возмущение подбирающих юбки дам. Особенно весело применять «дамский пугач» в карете, где меньше вероятность промахнуться, но больше риск и самому быть облитым. (Сразу скажу, что подобным изобретением я полностью заслужил бы твой гнев – если бы возмущение дам было искренним).
Вдобавок доктор Стоун был единственным, кто после расспросов обо мне счел нужным рассказать что-то о себе сам – в этой беседе и последующих. Остальные двое, видимо, так укоренились в Блэквуде, считая его центром мира, что не могут допустить и мысли, что их славные имена кому-то могут быть неизвестны.
Ты незнаком с доктором лично – во время твоего визита он был в отъезде; но, безусловно, слышал о его семье – они из первых поселенцев Блэквуда, с ясно видной во всех его потомках деловой жилкой. Именно Стоуны несколько поколений назад построили лесопилку, которая медленно, но верно изменила облик Блэквуда и позволила ему вырваться из захвата леса на прибыльные просторы овцеводства. И, как любое семейство, скопив достаточный капитал, Стоуны устремились к культуре.
Джозеф Стоун был младшим из двух братьев, и отец отправил его сперва в школу иезуитов, а затем, по его желанию – в медицинский колледж Лондона; а старший сын в то же время постигал тонкости управления фермерским хозяйством. Такое состояние дел, насколько я понял, устраивало всех, пока его брат не погиб на доживающей свой век лесопилке – дерево вопреки всем законам природы упало прямо на него. Отец, уже décrépit старик, ненадолго пережил своего старшего сына. Насколько я помню, собирая легенды, ты несколько раз беседовал с ним. Ты описывал его как бесцеремонного старого тирана переполненного горьким, как «черная смола» ехидством, но его сын мало похож на отца. Для такой глуши, как Блэквуд, у него прекрасные манеры – думаю, этим качеством он обязан проведенному в Лондоне времени.
Джозефу Стоуну пришлось вернуться домой, не завершив образование, и принять бразды правления в свои руки. Управляет он семейным предприятием, насколько я могу судить, успешно, но гордости из-за этого не испытывает и душу вложил в иное дело – в какие-то научные исследования, о которых он пока рассказывает только намеками. А все жители Блэквуда от батрака до мэра, несмотря на отсутствие диплома, зовут его доктор Стоун. У него даже есть небольшая медицинская практика – в основном друзья семьи и intéressant медицинские случаи.
Я тоже кажусь ему интересным случаем – он часто наносит мне визиты и настаивает на ответных, всегда принимая меня с искренним радушием. Чем-то он напоминает мне тебя, Джеймс, и в его речах практически нет ограниченности, свойственной village. Внешность у него тоже интересная, как видишь – такие резкие черты легко и приятно рисовать, даже неопытный художник сможет передать приблизительное сходство.
Более-менее закончив с доктором Стоуном, перехожу к почтенному Николасу Хейру, мэру этого райского местечка. Мэр в точности соответствует твоему описанию трехлетней давности – невысокий, вялый, толстый человек, похожий на связку сарделек. Не покидающему его лица сонному выражению странно противоречит светящийся в небольших глазках ум и скрытое ехидство – поэтому нарисовать его портрет, несмотря на каменную неподвижность оригинала в кресле, было не так-то просто! Говорил он тогда мало, а после того, как выяснил главное – что я не предвещаю массового приезда богатых лондонцев, да и сам к этой категории отношусь только occasionnels – то замолчал окончательно.
Желание нарисовать священника у меня не возникло – уж больно непримечательная личность. Узнав о нашем знакомстве, он долго распространялся о том, как плодотворно вы сотрудничали. Похоже, это было одним из самых ярких событий в его жизни, даже – если судить по твоим возмущенным рассказам – его сотрудничество заключалось в том, что он всячески ставил тебе палки в колеса. Я часто сталкиваюсь с ними обоими в гостиной доктора Стоуна, и не могу сказать, что follement рад этим встречам.
Но, кроме дома доктор Стоуна, в Блэквуде есть еще один дом, который я навещаю так регулярно, насколько это позволяют приличия – дом миссис Чемберс. Premier я познакомился с мисс Чемберс, а потом уже с ее уважаемой матушкой. Прочитав историю нашего знакомства, я знаю, что ты будешь смеяться – надеюсь только, что со мной, а не надо мной.
Где-то на третий день своего пребывания здесь я вышел на утреннюю прогулку, тщательно выбрав свой наряд и в то же время с горечью осознавая, что здесь некому оценить мой галстук, завязанный кударше. Я шел, погруженный в меланхолическую задумчивость, но при этом все же тщательно выбирая, куда поставить ногу на обледеневшей и заснеженной булыжной мостовой. И вдруг, как раз в тот момент, когда я неустойчиво балансировал, обходя накатанную детьми дорожку льда, мне под ноги кидается злобно лающий комок шерсти. Я невольно отмахиваюсь от покушений на мою лодыжку – все больше теряю равновесие – и с грацией умирающего лебедя или подрубленного дерева опускаюсь на лед, чтобы проехать по нему добрых десять ярдов. Мой полет прерывается у ног прекрасной молодой мисс, которая смотрит на распростертое внизу тело огромными серыми глазами, еще больше расширенными от ужаса и сочувствия. В руке у нее поводок, на другом конце которого так самая злобная пустолайка, не прекращающая своих покушений на мою, хм, гордость.
Мисс прикрикивает на свою собаку «Спокойно, Дейзи, спокойно!» и старательно помогает мне встать из всех своих воробьиных сил. Следуют взаимные извинения:
– Простите, мисс… Я вас испугал?
– Нет, нет, что вы! Позвольте, я вам помогу! Простите Дейзи, пожалуйста… она боится незнакомцев, вот и кидается первой в атаку! Ох, мне так неловко! Вы не сильно ушиблись?
– У Вас очень храбрая собака. Она не могла выбрать более удачный момент для атаки, мисс…
– Чемберс, Хелен Чемберс. А вы?
– Энтони Блессингем. Очень рад, что счастливый случай поверг меня к вашим стопам!
– А я думала, что не столько случай, сколько лед… Вы не ушиблись? Вам нужно почистить одежду… и выпить чашечку чаю… Вы не откажетесь к нам зайти?
И с такой приятной настойчивостью она пригласила меня к себе домой, где нас встретила ее матушка, миссис Мэри Чемберс. Вот так завязалось наше знакомство, а теперь я расскажу об обеих дамах подробней. Достань портрет старшей, миссис Чемберс. Как ты видишь, она еще очень хороша собой, глаза говорят о уме, тонкие губы – о прижимистости, а лоб без следов морщин об égoïsme, который добавляет красивым женщинам очарования, а в дурнушках просто отвратителен.

