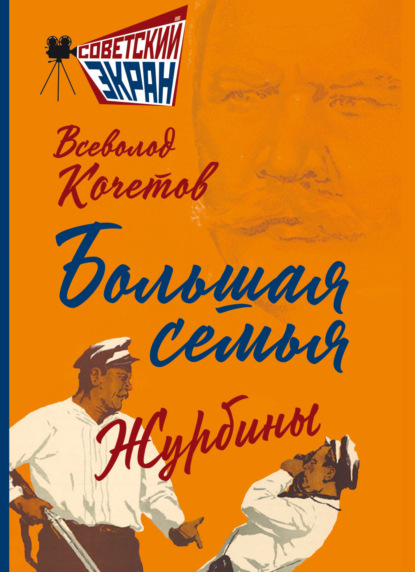
Полная версия:
Большая семья. Журбины
– Ручку небось не пожали?
– Почему не пожали? Пожали. Поздравили. С внуком поздравили. А в общем-то крутой был разговорчик. По графику когда мы должны спустить «коробку» на воду? Не забыл? Ну вот, получен приказ: чтобы она была у достроечной стенки не позже Октябрьских праздников.
– Протестовал? Доказывал?
– А что доказывать! Приказ министром подписан. Выполнять, Саня, положено. Мы люди маленькие. Солдаты армии труда! – Илья Матвеевич усмехнулся и бросил окурок за борт.
– Не случись этой обшивки, выполнили бы. Зарежет она нас, кто только ее придумал!
– Прочность, прочность, Саня, повышать надо. Вот и придумали. Наш советский корабль знаешь каким должен быть? – Глаза Ильи Матвеевича смотрели хитро и весело, будто и не было никакого приказа о сокращении сроков постройки корабля в такой неподходящий момент, когда затерло с дополнительной обшивкой. – Не чета скороспелым «Либертишкам». «Либертишки» – военная надобность. Война пришла и ушла. А мы с тобой для мира работаем. Не на месяц, не на год.
– Это верно, – согласился Александр Александрович. – Только я тебе скажу, Илюша, и другое. Зря такую переконструкцию на ходу затеяли. Вот у нас в Петербурге было. Заложили перед Первой мировой войной два здоровенных дредноута. Пока строили да переконструировали, они и устарели. Не сходя со стапелей, устарели. Разобрать пришлось.
– Вот перейдем с клепки на сварку… – Илья Матвеевич сказал это как бы мимоходом, как бы не придавая особого значения своим словам; только крутой наклон его головы вполоборота к Александру Александровичу выдавал напряжение, с каким он ждал ответа.
– Варить корпус такого тоннажа? – спросил Александр Александрович.
– Ага. – Илья Матвеевич не изменил позы.
– Я по сварке не профессор, но кое-что маракую, – подумав, заговорил Александр Александрович. – Ты сам твердишь: «Корпус – главное в корабле, корпус должен быть прочным». А какую прочность даст обшивка, если она вся будет в швах? Ведь что получается при сварке? Металл вязкость теряет? Теряет. И вот представь – корабль попадает в шторм баллов на десять – двенадцать. Тут его и на изгиб, и на излом, и на скручивание берет волна в испытание. Цельный металл, понятно, выдержит такую нагрузку, а сваренное место – бац! – и треснет.
– Он и по клепаному шву может разойтись, если так.
– Э, нет, Илюша! Заклепка – она что пружинка. Она придает корпусу эластичность. Случись что в наборе корабля, клепаные узлы встанут, как щиты, как рессоры. А цельносварной корпус затрещит по всем швам.
– Ну, ведь вот же варили тральщики, варим вон те коробки… – Илья Матвеевич указал рукой вниз, в сторону слипа – наклонной плоскости, на которой стояли два небольших корабля.
– Про малый тоннаж не говорю. Их вари, пожалуйста. Про средний – тоже. А наши, океанские… Проблема. Я так понимаю.
Видимо, и Илья Матвеевич понимал так же. Он долго молчал; выкурил еще одну папироску. Потом поднялся с досок, заходил по настилу палубы. Поднялся и Александр Александрович. Они сошлись возле борта, минуту-две постояли друг перед другом; Илья Матвеевич, засунув руки в карманы куртки, раскачивался с пяток на носки, с носков на пятки и насвистывал мотив старой солдатской песенки «Солдатушки, бравы ребятушки».
– А вот, Саня, – сказал он, – для того и срок нам сокращают, чтобы после этого заложить цельносварную океанскую коробочку. И строить ее будем мы!
Новость ошеломила Александра Александровича. В первый момент он не нашел что и ответить.
– Мы?! – переспросил наконец и приблизился к Илье Матвеевичу вплотную почти грудь в грудь. – Мы, говоришь?
– Да, мы.
– Нет, не мы, Илюша, а ты! Согласился, сам и строй. Один строй! Я авантюр не уважаю. Я честность люблю. Ты честности испугался, язык у тебя приморозило к зубам.
– Товарищ Басманов!..
– Товарищ Журбин!..
Они жгли друг друга такими глазами, такой огонь метали эти глаза, что, пожалуй, их огнем можно было варить самую прочную корабельную сталь.
Устроив перекурку, Костя застал начальника участка и мастера в позиции бойцовых петухов перед броском. Они не ответили на Костин вопрос, в чем дело и что случилось, они еще раз опалили уничтожающими взглядами один другого, усмехнулись и разошлись в разные стороны.
3Часто рабочие семьи имеют свой «семейный профиль»: отец токарь – и дети токари, отец литейщик – и дети литейщики, отец столяр – и дети пилят, строгают, точат древесину. Иной раз преемственность профессии идет не только от отца, но и от деда и даже прадеда.
У Журбиных такого «семейного профиля» не было, или, вернее, он не определялся узко одной профессией, он охватывал чуть ли не все судостроение целиком. В семье были разметчики, столяры-модельщики, судосборщики, клепальщики, сварщики – представители всех главных специальностей, необходимых при постройке корабля. Когда на завод приезжали корреспонденты газет, директор так им и говорил: «Журбиными поинтересуйтесь. Одни могут корабль построить. Даже технолога своего имеют». Называя технолога, директор имел в виду Антона.
Не изменил этому широкому «семейному профилю» и Алексей.
В разгар войны, когда младший из сыновей Ильи Матвеевича еще учился в шестом классе, на заводе создалось трудное положение из-за недостатка кадров. А работать было надо, и работать ничуть не меньше, чем в мирные времена. «Алексей, – сказал однажды отец, – как посмотришь, если, например, тебе придется уйти из школы? Как тебя насчет учения – крепко тянет или не очень?»
Алексей никогда не задумывался – хочется ему ходить в школу или не хочется. Заведен порядок: все ребята учатся, – и порядок казался нерушимым. Вопрос отца удивил Алексея. Он промолчал. «Я не к тому, чтобы вовсе не учиться, – продолжал отец, не зная, как истолковать его молчание. – Я к тому, чтобы тебе пока поработать на заводе, подсобить нам маленько. Голова если на плечах есть, потом доучишься».
Для такого разговора отец, словно нарочно, уселся за круглый столик, который ко дню его рождения год назад изготовил в школьной мастерской Алексей. Ножка у столика была точеная, столешница с красивым набором из ясеня, клена и карельской березы. Даже Виктор, столяр-краснодеревец высшей квалификации, одобрил Алексееву работу, когда столик был принесен домой.
«Мастерство тебе дается, – говорил отец, постукивая пальцем в столешницу. – Ну, а по какой линии пойти – по столярной или еще по какой, давай думать вместе».
Ошеломленный возможной переменой в его жизни, Алексей продолжал молчать. В его сознании давно и прочно укоренилась мысль о том, что до семнадцати лет он будет писать диктовки и решать задачки, а дальше… об этом «дальше» он еще не задумывался. Он еще был мальчишкой, и интересы его были мальчишечьи. И вдруг представился случай стать рабочим – таким же, как Виктор и Костя, как дядя Вася, как дед Матвей. Он будет ходить в промасленной спецовке на завод, получать два раза в месяц получку, свою собственную получку! На равных правах будет участвовать за вечерним чаем в общих разговорах о заводских делах. Все это куда интересней, чем зубрить немецкие глаголы и заучивать путаные химические формулы.
Алексей молчал, обрадованный и взволнованный. Стать самостоятельным рабочим – да кто же от этого откажется?!
Но Илья Матвеевич по-своему истолковал молчание сына. Молчит – значит, нужно повлиять на его сознательность, напомнить парню, что такое рабочий класс, о котором Илья Матвеевич любил поговорить и говорил всегда с величайшей гордостью.
«Пойми, Алеха, – продолжал он проникновенно, – мир держится на рабочем и на крестьянине. Все, что ты видишь вокруг себя, – дом этот, столы, стулья, одежда, швейная машина, лампочки, выключатели, хлеб – все дело рабочих и крестьянских рук. И куда ни взгляни – паровозы, автобусы, корабли, целые города, – всё они и они, трудовые руки, сделали. Рабочий класс – творец, потому он и самый главный, потому и вожди революции всегда на него опирались».
Все это Алексей слышал уже не раз, в школе уже узнал начала политической грамоты, узнал, что и в революциях, и в мирном строительстве рабочий класс должен идти в союзе с трудовым крестьянством, но молчал, боясь рассердить отца в такую решительную минуту.
«Я бы хотел по металлу, – сказал он, чтобы не затягивать разговора и не дать отцу опомниться: а то еще передумает. – По дереву не больно нравится». – «Ну и иди, сынок, по металлу! – оживился отец. – Дело твое».
Так Алексей пришел на завод в обучение к старым мастерам. Сначала он пробовал токарничать, по вскоре его привлекла судосборка и особенно клепка. Освоив пневматический молоток под руководством своего дяди, Василия Матвеевича, он клепал медленно, но очень тщательно. Головки заклепок у него получались ровные, красивые. «По-нашему работает твой младший», – говорили Илье Матвеевичу старые клепальщики при встречах.
Когда Алексей получил первую получку, он всю ее, до копейки, принес домой и отдал матери. Едва вернулся с завода Илья Матвеевич, Агафья Карповна выложила перед ним на стол пачку десяток. В глазах ее были и гордость, и слезы – всё вместе. Илья Матвеевич пересчитал деньги, подергал себя за бровь, сказал: «Вот, Алешка, ты и могильщик капитала! Хозяин земного шара».
На следующий день после работы, выхлопотав в отделе рабочего снабжения ордер, он повел Алексея в универмаг и, якобы на его первую получку, купил ему самый дорогой, какой только нашелся в универмаге, самый лучший бостоновый костюм. «Хозяин должен и ходить по-хозяйски. Понял?»
Алексей быстро поднимался по трудовой лестнице. Лицом он походил на свою, известную ему только по фотографиям, бабушку Ядю, а характером выдался в деда, каким тот был в молодости, – немножко замкнутый, сосредоточенный, как говорят, себе на уме. Через пять лет он достиг мастерства, какое старым клепальщикам давалось десятилетиями. А полгода назад произвел чуть ли не переворот на стапелях. Он реконструировал пневматический молоток, ускорил действие его ударного механизма, затем перестроил бригаду, и выработка бригады возросла в несколько раз.
На Досках почета – на заводе и в городе – появились его портреты, появились портреты в заводской и областной газетах, в иллюстрированных журналах; о нем писали, рассказывали по радио; его избирали в президиумы торжественных заседаний. Молодая голова кружилась. И если прежде была дума продолжить когда-нибудь ученье, по примеру Антона пойти в институт, то постепенно эта дума ослабевала, ее начало заслонять мнение, что и без науки он, Алексей, достиг такого места на заводе, какого за всю их долгую жизнь не смогли достичь ни дед, ни отец, ни дядя, ни те старики, у которых он поначалу учился клепке.
Растерялся Алексей только перед Катей. Перед маленькой чертежницей он утрачивал все свое напускное величие, становился простым влюбленным парнишкой, каким и был на самом деле. Все портреты, все пространные статьи о нем в газетах и радиопередачи «с рабочего места знатного стахановца» он готов был, не задумываясь, променять на одно Катино слово, на одно еле ощутимое ее прикосновение к его руке.
После первомайского вечера в клубе они встретились еще раза два-три. Для Алексея встречи с Катей не были случайностью: по окончании работы он поджидал ее возле заводской проходной, притворяясь, что читает газету, наклеенную на доске. Потом они шли до того места, где путь разветвлялся: ему в Старый поселок, ей – в Новый. Шли медленно. Алексей рассказывал о своих производственных успехах – других тем на ходу что-то не найти было. Время от времени он испуганно спрашивал: «Вам это, наверно, не интересно?» – «Что вы, что вы, Алеша! Очень интересно!» – восклицала Катя с жаром. Алексей в этот жар не совсем верил. «Из вежливости так говорит, – думал он, разглядывая Катины длинные ресницы, пушистые брови, ямочки на ее щеках, на которые смотрел бы да смотрел. – Не больно-то нужна ей вся эта болтовня про клепку». Катя говорила о более интересном. «Если бы вы, Алеша, со своим реконструированным воздушным молотком очутились в каменном веке, – весело фантазировала она, – вы бы стали самым могущественным божеством. Вы бы легко выдалбливали в скалах пещеры для жилья, легко и просто высекали огонь из камней, как громовержец, насмерть поражали бы огромных мамонтов…»
Алексей, пожалуй, и согласился бы вернуться в каменный век – при том условии, если там будет и она, Катя. Но, на беду, Катю так далеко не тянуло. Катя с увлечением говорила о раскопках в древнем Хорезме, о таинственных мертвых городах каких-то сказочных государств – Камбоджи и Лаоса, затерянных в тропических джунглях. Алексею было стыдно оттого, что он о таких государствах даже и не слыхивал. Как-то после разговора с Катей он отправился к дяде Василию Матвеевичу. «Камбоджа и Лаос? – переспросил Василий Матвеевич. Он надел очки и раскрыл толстенный географический атлас. – Вот они, братец, гляди, где!.. Тут, возле Вьетнама, между Бирмой и Вьетнамом. Все это бывший Индокитай, пожелавший, Алексей Ильич, самоопределиться, жить свободной, самостоятельной жизнью. Представители этих государств собрались на специальную конференцию, договорились действовать сообща против французов-колонизаторов единым народным фронтом».
О древнем прошлом Камбоджи и Лаоса, выяснилось, дядя тоже не знал. Не поехать ли, появлялись мысли, в город, в Центральную библиотеку, не потребовать ли нужных книг?
Да, перед маленькой чертежницей Алексей Журбин терялся. Правда, за месяц, минувший после майских праздников, он познакомился с Катей ближе и заговаривал с нею значительно смелее, чем прежде.
В тот день, когда Илья Матвеевич и Александр Александрович крупно поговорили об электросварке, Алексей, встретив Катю возле буфетной стойки в столовой, набрался мужества и пригласил ее пойти вечером погулять. Со страхом ожидал он отказа. Но Катя сказала, что погулять пойдет.
Сдав Александру Александровичу работу, он переоделся, оставил в дощатом шкафчике спецовку и пошел со стапеля.
Только что пролился шумный июньский дождь. Было тепло и влажно. Ветер над асфальтом Морского проспекта, как называли широкий проезд от проходной до стапелей, клубил испарения, из разметанных туч, звонко булькая, падали в лужи на мостовой последние тяжелые капли. Алексей с тревогой подумал о том, как бы погода не испортила вечер, – и увидел Костю. Костя куда-то спешил.
– Куда? – окликнул Алексей. – Пошли домой!
– Вызвали, – ответил Костя. – Главный технолог всех сварщиков собирает. Совещание.
Холодная капля угодила Алексею за воротник. Поеживаясь, он проводил брата взглядом. В том же направлении, куда и Костя, шли отец с Александром Александровичем. Заводские шумы и гулы умолкли ровно в пять часов вместе с гудком, который хриплым басом протрубил конец дневной смены. Редкие удары пневматической бабы копра на строительстве нового стапеля только подчеркивали наступившую тишину, в ней отчетливо были слышны голоса. Илья Матвеевич с Александром Александровичем говорили о каких-то талях и цепях, говорили спокойно, мирно, будто и не стояли они несколько часов назад друг перед другом, как петухи, будто и не было меж ними никакой ссоры.
Ссоры и в самом деле не было. Подобное тому, что Костя видел на верхней палубе корабля, случалось часто. Чуть ли не каждый день сталкивались начальник участка и мастер грудь в грудь, жгли друг друга огненными взглядами, оглушали громовыми окриками: «Товарищ Басманов!», «Товарищ Журбин!». Расходились в разные стороны с такими презрительными улыбочками, словно расходятся на веки вечные. А через полчаса мирились. Точнее – делали вид, что вообще между ними ничего не произошло; снова – «Саня», снова – «Илюша». Может быть, стычки происходили между ними оттого, что они давным-давно уже не могли обходиться один без другого и подсознательно на это досадовали.
Тали и цепи Алексея не интересовали, он миновал Доску почета, взглянул на свой портрет под стеклом и через проходную вышел на площадь. На площади, выплескивая из луж мутную воду, разворачивался троллейбус. Обогнув памятник Ленину, троллейбус остановился перед самыми воротами завода.
Из троллейбуса выскочила высокая худенькая девушка в распахнутом пальто. Мелкими быстрыми шажками она подошла к Алексею, спросила, как ей найти отдел кадров завода. Девушка была, видимо, нездешняя, приезжая, но держалась она уверенно и разговаривала решительно.
Алексей ответил точно и коротко, весь разговор длился не более полминуты. Когда девушка энергично зашагала к высокому серому зданию возле проходной, Алексей невольно посмотрел ей вслед. На мокрой щебенке, посыпанной песком, остались отпечатки ее маленьких узких туфель; особенно глубоко вдались в песок тонкие каблучки. «Вот это строчит!» – подумал Алексей.
4Они шли по обрывам над Ладой. Сколько раз бывал здесь Алексей, но никогда знакомые места не казались ему такими красивыми, как в этот вечер. Катя вдруг остановилась, схватила его за руку:
– Смотрите, Алеша, смотрите!..
Он смотрел. Багровое огромное солнце погружалось в далекий залив, вода в заливе, в устье реки была как текучее пламя; огненным паром казался дымок над трубой лесопильного завода, огненные стояли окрест длинностволые сосны. Жутковато делалось при виде пылающей в сумерках земли.
– А вот сюда взгляните! – вновь воскликнула Катя. Алексей повернулся спиной к солнцу. Две длинные тени уходили из-под их ног к обрыву, спускались вкось по влажному песку туда, где на береговой кромке чернели горбатые днища рыбачьих челнов. Ветер нес оттуда запахи сапог и рыбы.
И в какую бы сторону ни указывала Катя, везде перед Алексеем открывались картины одна красивей другой. Среди них, этих картин природы, хотелось молчать. Но молчать, оставаясь вдвоем, могут только старые друзья. Отношения Алексея и Кати были еще очень неясны, и, пока они не выяснятся, надо говорить и говорить.
– Я читала одну очень интересную книгу о происхождении жизни, – сказала Катя. – Там были рисунки в красках… Вот эти сосны похожи на первобытный лес, как он показан в книге. С них во время пожаров в песок капала смола. Потом те места заливало море, смола за миллионы лет становилась каменной.
– За миллионы?
– А как же! Я говорю про янтарь. Он очень древний. Ему тридцать миллионов лет.
– Шутите! – Алексея поразила цифра, названная Катей.
– Правда, Алеша. У мамы есть янтарные бусы, и в одной бусинке, если смотреть на свет, видна мушка, крохотная, меньше комарика. Когда я на нее гляжу, у меня у самой мороз по коже идет, так удивительно: мушка эта жила тридцать миллионов лет назад. Может быть, она кусала какого-нибудь ихтиозавра и видела то, о чем мы теперь и догадаться не можем.
– Тридцать миллионов лет! – Алексей не мог успокоиться. По сравнению с этим чудовищным временем его двадцатидвухлетняя жизнь казалась такой пылинкой, какую не разглядишь и под самым мощным микроскопом.
Катины мысли походили на мысли Алексея, но были они определенней.
– При виде этой мушки, – продолжала она, – я всегда думаю о том, как же человек должен жить, чтобы его короткие годы не пропадали зря? И ни до чего не могу додуматься. Потому что не знаю, что такое «зря» и что такое «не зря». А вы знаете, Алеша?
Алексей остановился, вытащил портсигар, закурил.
– Я, наверно, тоже не знаю, – сознался он. – Может быть, надо стать очень знаменитым, чтобы люди навсегда тебя запомнили?
– А что такое знаменитый? – Катя стояла перед ним и внимательно смотрела в его лицо. – Был Герострат, который сжег храм Артемиды в Эфесе. Были страшные короли-убийцы вроде Ричарда Третьего. Был Гитлер, он сжег уже не один храм, он людей сжигал в печах. Всех этих чудовищ человечество тоже запомнило навсегда. «Знаменитые»!
– Да, вы историю здорово знаете, – сказал Алексей с завистью. – Я не про таких знаменитостей, я про других… которые своими руками… своей работой…
– А вам, Алеша, очень бы хотелось стать знаменитым? – простодушно спросила Катя.
Алексею думалось, что он и так достаточно знаменит, и ему стало обидно: разве Катя об этом не знает или знает, да не хочет признавать его славы?
Молча они прошли через ельник до вырубленной поляны. Среди пней росла одинокая молодая рябинка, пышно распустившая перистую листву. Алексей тряхнул ее, и на них обоих брызнул дождь крупных капель. Катя вскрикнула. Алексей рассмеялся.
Неожиданный душ изменил настроение. Какие тысячелетия, какая слава, когда Алексею хотелось обнять Катю и гладить, целовать ее золотистые волосы… Хотелось подхватить ее на руки и нести… неизвестно куда.
– Катя! – промолвил он, не зная еще, что будет сказано дальше.
И дальше не было сказано ничего. Они шли и шли, потеряв направление; сумерки сгустились, небо чернело, в лесу уже властвовала ночь.
– Я боюсь, – сказала Катя.
– Волков?
– Всего.
– Со мной не бойтесь. Эх вы, Катя, Катя…
– Ну что, что – «Катя»?
– Да так, ничего. Ничего вы не знаете.
– Скажите, узнаю.
– Раз сами не хотите понять, зачем говорить.
Ноги были мокрые до колен, но Алексей этого не замечал. Он мог бы брести и по грудь в воде и тоже не чувствовал бы никакого холода.
Сделав крутую петлю, вышли на шоссе, с которого были видны огни Нового поселка. Вот Алексей проводит Катю до подъезда дома, Катя подаст ему руку – и всё. И на этот раз Алексей не скажет тех слов, которые он давно приготовил. Он не выдержал.
– Катя! – сказал вдруг грубовато. – Вы, наверно, смеетесь надо мной? Серый человек… ничего не знает. Ни про историю, ни про землю. Так ведь, так?
– Алешенька, что вы? – Катя чувствовала, как взволнован, расстроен Алексей. Неужели она его обидела? – Алешенька, я сама ничего не знаю. Я не хотела… Я не думала… Алеша!..
Их обоих охватило волнение. Алексей уже решился обнять Катю, он шагнул к ней, сердце у него стучало так, будто в грудь на полную мощь бил молоток клепальщика. Но с шумом промчался троллейбус, обдал их на миг ярким светом, и они, испуганные, отшатнулись друг от друга.
Решимость к Алексею больше не возвращалась.
Когда он пришел домой, все Журбины, кроме деда Матвея, уже спали. Далеко отставив от глаз, к самой лампе, дед читал какую-то книгу.
– Ты где шляешься? – спросил он, снимая очки. – Без тебя тут целый совет заседал. Слыхал, сварной корабль будут закладывать?
– А мне-то что? – ответил Алексей, в эту минуту далекий от всех кораблей мира.
– Как это – что! Событие, дурень! Переворот.
Алексей разделся, развесил намокшую одежду возле теплой печки и залез в постель, приготовленную ему Агафьей Карповной, как всегда, на диване.
– А есть-то чего же не ешь?
– Не хочу.
– Эх, парень, парень! Опять говорю: гляди не промахнись.
Не услышав ответа, дед Матвей загородил газетой лампу, чтобы не мешала внуку, и снова раскрыл книгу.
Глава третья
1Директор усадил Зину в кресло и попросил у нее разрешения дописать несколько строчек очень, как он сказал, спешного письма.
Кресло было неудобное – слишком податливое и глубокое, Зинин подбородок приходился почти вровень с чернильным прибором из черного камня с бронзой. Позиция эта вынуждала Зину смотреть на директора снизу вверх, раздражала ее и даже угнетала: при такой позиции совершенно невозможен разговор в том резком и требовательном тоне, в каком, по мнению Зины, его следовало бы вести.
Директор торопливо писал; в такт размашистым движениям руки на щеке у него дергался косой шрамик. Зина разглядывала этот шрамик удивленными и несколько негодующими глазами. Такими глазами она разглядывала все на свете, потому что все на свете делалось совсем не так, как должно было делаться, как того требовала, по ее мнению, сама наша жизнь – время великих замыслов и свершений. Зине не хватало быстроты, скорости в окружавшей ее жизни. Всякую потерю времени Зина ненавидела. Она вся как бы рвалась вперед и вперед; и доже походка у нее была какая-то рвущаяся, стремительная. В институте студенты шутили: «Зинка никогда не выйдет замуж. Чтоб объясниться ей в чувствах, надо прежде стать мастером спорта по бегу. Иначе просто не угонишься».
– Ну вот, – сказал директор, нажимая кнопку звонка рядом с телефонным аппаратом, – я к вашим услугам, товарищ Иванова.
Отдав вошедшей секретарше исписанные листки, он принялся набивать, а затем раскуривать трубку.
– С заводом познакомились?
«Ни с чем я не познакомилась, – хотела крикнуть Зина. – Три дня сижу без дела, три дня не могут дать работы. Три дня хожу сюда вот с такими бумажками!» Она выхватила бы из карманчика жакета талон разового пропуска. Но вместо всего этого пришлось сдержанно ответить:
– Нет еще. Никто не хочет со мной поговорить.
– Я виноват, товарищ Иванова, я. Простите, пожалуйста. Непрерывно совещаемся. Нам, видите ли, поручили постройку крупного корабля с цельносварным корпусом. Как раз по этому поводу я и писал сейчас письмо министру. Дело для нашего завода не то чтобы новое, но и не такое уж старое. До сего времени варили мелкие корабли. Возникло множество самых неожиданных вопросов. Взять хотя бы сталь… Каких марок?

