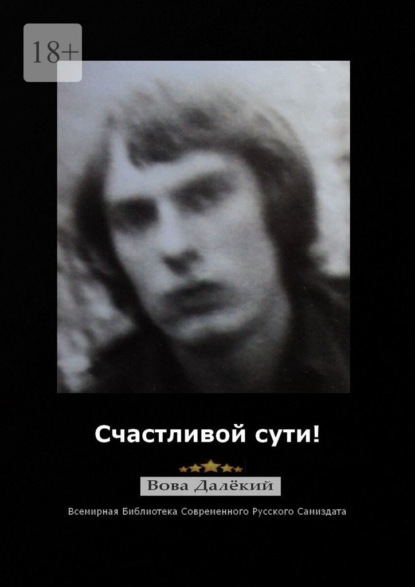
Полная версия:
Счастливой сути! Часть 1
Впрочем, разделить людей, и сделать из них смертельных противников не сложно. И в самой природе человека есть самые разные составляющие, вынуждающие его, с одной стороны, стремиться к объединению с подобными себе, а с другой – видеть, при определённых обстоятельствах, в любом другом человеке потенциального конкурента, или, вовсе, врага. Чуть ли не все бытовые кровавые драмы и убийства, по существу – абсолютная бессмыслица. Но никакие разумные доводы не способны влиять на персональные и коллективные человеческие страхи, амбиции, капризы, вспышки ярости и агрессии. И каждый человек, неожиданно для себя и для всех, может оказаться, как в положении виновного, так и в положении жертвы. Однажды, году в 1978, в университетском общежитии у памятника Славы, в вестибюле, на первом этаже проводилась праздничная дискотека. Парень с нашего курса, поступивший после рабфака, уже отслуживший в армии, повздорил со студентом с другого факультета. Сам он был крепкий, всегда спокойный в общении человек, но в этот раз, всё для его обидчика, или соперника, кончилось плачевно. В ход пошёл, принесённый сразу после ссоры из жилого отсека, кухонный нож. Смертельный удар пришёлся в область живота. После этого наш сокурсник скрылся в неизвестном направлении. В бегах он продержался, наверное, около года. Сдался сам. В основном, все мы, на факультете, были на его стороне, но ничего изменить и исправить уже никто не мог. Его судили. Он получил срок.
У людей взрослых, не редко, всё усугубляется воздействием спиртного. Но у детей и без спиртного жестокость в конфликтных ситуациях, зачастую, переходит всякие границы простейшего благоразумия. Отчасти, можно объяснить это желанием примитивно подражать взрослым. Но, в большей мере, здесь проявляются некие природные инстинкты каждого отдельного человеческого «Я», поскольку люди рождаются с уже определёнными личностными задатками, и существуют в мире ограниченных ресурсов, естественного отбора в условиях то природных, то социальных стихий, слишком индивидуальной сущности представлений о собственной реальной и желательной жизни, и постоянно существующей угрозы собственной гибели. И каждый должен, с самого начала существования, неустанно проявлять и утверждать себя шумом, капризами, смышлёностью, привязанностями, ловкостью, силой, изворотливостью, смелостью, умением, талантом, понтами, удачливостью, оптимизмом и т. д. и т. п. Чем кому и чем когда сподручнее. Иначе, ты можешь оказаться в бедственном положении. Ведь, даже у самых влиятельных и всесильных особ этого мира жизнь никогда не делается раз и навсегда гарантированно обеспеченной, безопасной и счастливой.
Видимо, понимая это, современные правители развитых стран смотрят сквозь пальцы на карикатуры, анекдоты, приколы, насмешки, критические замечания, а порой даже и откровенные оскорбления в свой адрес со стороны верно и неверно подданных. В прежние же времена, тоже понимая зыбкость своего сверх привилегированного положения, монархи и правители, наоборот, старались всячески укрепить занятые позиции, деспотическими методами управления, беспощадно карая всякого рода политических шутников, вольнодумцев, смутьянов, бунтарей и революционеров.
Отец мне рассказывал, как у них в части морской авиации, под Сов. Гаванью, во второй половине сороковых, под политическую статью попал неудачно пошутивший матрос. Вечером свободные от нарядов военнослужащие собрались в ленкомнате, пообщаться, отдохнуть, побалагурить. Один из них заметил, что со стены убрали портрет какого-то члена партийного Политбюро, и, показав на это место, весело прокомментировал: «На одного хрена меньше стало!». На следующий день его арестовали. Всех, присутствующих в момент произнесения невольным подстрекателем преступной фразы, допрашивали. При этом, нужно было объяснить, почему лично ты не отреагировал должным образом, или по какой причине не услышал, или, где в это время находился. Выкручивались, кто как мог, лишь бы не усугублять судьбу своего товарища. Отец сумел выбраться из сложного положения, сославшись на то, что, видимо, как раз тогда не надолго выходил из комнаты, хотя, на самом деле, выходил он несколько раньше. Но уйти от дачи свидетельского показания, подтверждающего факт происшествия, под нешуточным напором работников особого отдела удалось не всем. Стукач очень подробно изложил всю хронологию события. Несчастный парень получил внушительный срок. Вычислить доносчика не удалось, и впредь, в этом отношении, все старались быть осторожнее.
В Боброве, откуда родом моя мать, в годы репрессий всё происходило более масштабно и наглядно. И среди наших родственников тоже были пострадавшие. Дед моей мамы попал на Соловки, после того, как отказался вступать в колхоз. Не знаю, сколько лет он там пробыл, когда поехала за ним его жена и выкупила, точно так же, как потом, в войну, выкупали жёны своих мужей из немецких лагерей. Рассказывала она, что там, в Соловках, спали все в ряд, чуть ли не на земле, к которой, к утру примерзали волосы. После каторжной работы и таких испытаний и у тех, кто выживал, здоровье становилось никуда не годным. Но дед выдюжил, и, вернувшись в Бобров, всё равно не стал записываться в колхозники. Возил председателя сельсовета. Однажды, в дороге, то ли от выпитого с председателем, где-то подвернувшегося им спирта, то ли от нажитых на Соловках недугов, его парализовало. Зять, отец моей мамы, ухаживал за ним до самой войны, а когда уходил в солдаты, дед плакал: «Егорушка, кто же теперь мне будет помогать?» И уже в сентябре умер.
Нам, в начале восьмидесятых, конечно, тоже доводилось спать на морозе в армейских палатках во время полевых выездов на полигон «Князь Волконский», под Хабаровском. Лежали в навалку на деревянном помосте, одетые в бушлаты, ватные штаны, в валенках, в шапках с опущенными и завязанными ушами. Печка только дымит, но не греет. Холодно, голодно, дышать нечем, на ногах у тебя тоже кто-то лежит. Не повернуться, не пошевелиться. Ужас. Ждёшь в кошмарном полузабытьи, когда же ночь закончится. Питаться приходилось и мёрзлым хлебом с банкой мёрзлого минтая в томате на двоих. Но это же, ведь, не годы, а максимум, 5 мучительных ночей и дней. Но уже и после этого, в отапливаемую казарму, на белые простыни своей солдатской кровати, возвращаешься, как в дом родной.
У двоюродной сестры моей бабушки свёкор тоже был сослан на Соловки, после «раскулачивания». И она, сестра моей бабушки, тоже поехала туда, за свёкром, заплатила какому-то начальству выкуп, и привезла арестанта домой.
И ещё двое маминых дальних родственников попали в лагерные жернова в 1938 году. Случалось, что таких заключённых гнали колонной по городку из тюрьмы к железнодорожной станции. Люди выбегали из домов, искали среди этапников своих родных, просто передавали, кому придётся, какие-то продукты. Оба вернулись после войны, измученные, больные, обречённые, ненадолго пережив погибших на фронтах, прошедшей дальней стороной от них Великой Отечественной.
Двор моего деда, отца моей мамы, находился, как раз, прямо напротив Бобровской тюрьмы, рядом с двором его отца, после которого, в том же ряду, располагался двор его деда. А за огородом – двор тестя, того, что был сослан на Соловки, а потом парализован. Получается, что держались все вместе, рядышком, как бы единым целым, хотя личное хозяйство своё каждый вёл сам по себе, по своему.
Территориально эта часть улицы Парижской коммуны относилась к Чукановскому сельскому совету, колхоз «20 лет Октября». В отличие от несломленного ссылкой тестя, дед мой состоял в колхозе. Выполнял самую разную работу, а зимой, в основном, на своём дворе ухаживал за колхозными жеребятами. В свободное время, вечерами и ночами, подрабатывал тем, что валял валенки. Научился он этому ремеслу у заезжих мастеров, сбывавших в Боброве готовую продукцию и останавливавшихся на постой в его доме. Труд этот тяжёлый, требующий времени, терпения и сноровки. Кроме того, нужно иметь специальные приспособления и материалы.
Дед старался обеспечить семью, и очень хотел, чтобы его дети выучились, получили образование. И жизнь, постепенно, становилась лучше. Перед войной он даже пристроил к хате ещё одну комнатку.
Повестка ему пришла в августе 1941 года. Он работал в поле, был сев, и маму (ей тогда только исполнилось 11 лет) послали за ним. Она ещё не понимала, что ничего хорошего эта повестка их семье не несёт. Назад ехали с отцом на телеге…
Ему предлагали устроиться работать в тюрьму, чтобы не забрали на фронт, но он отказался, не захотел быть охранником над людьми. Из Боброва был направлен в Моршанск, один, поездом, в своей, гражданской одежде.
Служил при лётной части. Был ранен. Лечился в госпитале на Урале, в Магнитогорске.
На фронт возвращался мимо Боброва, но эшелон там не остановился, и родных увидеть не удалось.
А в апреле 1944 года он погиб. На Украине, под Луцком.
Проводив мужа на фронт, бабушка моя осталась одна, с пятью детьми на руках. Да ещё требовался уход и за больным, парализованным отцом. Но, он, лишённый основной психологической опоры – внимания и заботы зятя – в сентябре умер.
Когда меня провожали в армию, в 1981 году, неожиданно, вдруг заплакал один из моих дядей, муж старшей маминой сестры. Все выпивали, и я подумал, что это обычное выражение чувств, по ходу застольной церемонии, без особого смысла растревоженных спиртным, но, вскользь, невольно обратил внимание и на то, что больше никто во время всего традиционного мероприятия, называемого «проводами», не проявлял своих внутренних ощущений настолько эмоционально. Года через полтора, мне из дома пришло письмо, из которого я узнал, что дядя умер. Едва сдерживая слёзы, сидя на табуретке в казарменном помещении, я, почему-то, сразу снова вспомнил о его переживаниях в день нашего расставания. Как будто всё уже тогда было предопределено, и даже частично наглядно предначертано всем нам. А вот моя бабушка, по отцу, напротив, провожая меня, сказала, спокойно, так, словно знала каким-то уже данным ей откуда-то знанием, что дождётся моего возвращения, и потом лишь уйдёт в мир иной. Так и случилось. Я вернулся осенью 1983-го. Зимой её похоронили. Раньше, ничего такого, я за ней не замечал. Но спустя ещё несколько лет, вдруг, осознал, что вот уже сбылось и ещё одно её пророчество, спокойно сделанное незадолго до моего отъезда в армию, в пору прокуренной, изрядно перенасыщенной спиртным, моей студенческой юности: «Ты курить не будешь. И пить тоже не будешь».
За свою жизнь любой человек не раз оказывается свидетелем необъяснимых явлений и совпадений, порой спасительных или губительных для него самого или для окружающих. С возрастом у многих вырабатывается собственное отношение ко всему подобному и со всем подобным. Понять куда тебя хотела бы вести некая тайная высшая или глубинная сила, а куда нет, не так уж сложно по исходам многих жизненных ситуаций, в которых каждому из нас постоянно приходится оказываться. Просто, не все согласно следуют таким порой прямым, порой полускрытым символическим подсказкам. Но и то, что есть в этом мире и нечто ещё более выходящее за рамки наших обычных представлений о пространстве, времени и о самих себе, т.е. сверхъестественное, оспаривать, наверное, тоже не решится ни один нормально мыслящий представитель человеческого рода.
Я помню, как, когда мне ещё не было и пяти лет, я оказывался в ситуациях, в которых только сам должен был делать свой непростой выбор, невзирая на возможные последствия. Но исход, как, мне теперь кажется, уже и тогда, порой, зависел не столько от моих действий и усилий, сколько от естественной природной, или моральной, или даже сакральной правильности или неправильности самого выбора. Т.е. дальнейшее развитие события направлялось уже, как бы, некой неведомой мне высшей сущностью того или иного уровня воздействия на всё человеческое, а я, лишь, при этом, превращался ею в некую наиболее оптимальную форму самого себя, участвующую в процессе неких неподвластных мне же самому моих действий, направленных к уже определённому свыше результату.
В детском саду у каждой группы, в парке, был свой условный прогулочный участочек. Пацаны старших групп казались мне большими и значительно более сильными. Однажды, зимой, я со своим однолеткой, заигравшись, оказался в «чужом» пространстве, где на нас немедленно напал один из таких «больших» ребят. Он повалил моего товарища и, навалившись сверху, мутузил его со всех сил. Проще всего было без оглядки убежать, но что-то меня остановило. Я понимал, что должен что-то сделать в пользу своего несчастного одногруппника. В голове моей даже не было мысли о том, что «большого» задиру можно одолеть. И я понимал, что мои действия, скорее всего, приведут к тому, что он просто напросто переключится на меня, а убежать от него в своих огромных валенках на вырост мне, конечно же, уже не удастся. И всё равно, я схватил какой-то длинный сук, или палку, и сзади, со всей силы ударил нашего общего недруга по опущенной на уши шапке. По крайней мере, это его ошарашило, удивило и возмутило, и он, действительно, бросился теперь уже за мной. Друг по несчастью был спасён, да и, погнавшись за мной, мой противник смог только, толкнув в спину, повалить меня с ног. Этим всё и закончилось. И всё это никак на меня не повлияло. Я не чувствовал себя ни проигравшим, ни победителем, ни защитником, ни кем-то преданным, поскольку, с самого начала вопрос для меня был гораздо сложнее: как поступить самому в данной ситуации? И, как тогда же я и понял, исключительно, по своим внутренним ощущениям – поступил я правильно. И, как я понимаю теперь – основные принципы и основные назначения своего существования, которым каждому отдельному человеку было бы предпочтительнее следовать, вполне достаточно ясны и совсем не безразличны ему, с первых же лет его жизни.
Кто-то пользуется, и, возможно, дорожит, какими-то своими физическими, волевыми или душевными свойствами, кто-то каким-то умением, талантом, знаниями. Но, скорее всего, основная масса людей, в обыденной жизни, делает это без лишней сосредоточенности, и, почти что на интуитивном уровне, т.к. обыденная жизнь диктует свои условия социального существования и благополучного выживания. Всеобщие же невзгоды и тяжёлые испытания ярче проявляют многие человеческие качества, но и сами в наших восприятиях быстро теряют свою трагическую значительность и становятся привычной частью нашего рутинного бытия.
До Боброва немцы не дошли совсем немного.
Моей бабушке, проводившей мужа, т.е. моего деда, на фронт, пришлось, практически, одной, продолжать растить и ставить детей на ноги. Родители мужа всегда, в основном, помогали семье дочери. К тому же, его мать умерла ещё в марте 1938 года, от сердца. Перед похоронами, кошка ложилась на бездыханную грудь хозяйки и мяукала, кричала. Люди её сгоняли, а она снова оказывалась там же и кричала, кричала. И тоже умерла, прямо на груди хозяйки.
После смерти супруги, отец деда, вторично жениться не стал.
У своих родителей он был единственным ребёнком. В колхозы, как и другие старорежимные мужики и бабы, тоже никогда не записывался. Работал пожарным, рассекая по Боброву на лошадях, запряжённых в телегу с бочкой и насосом. Однажды, по пути к месту пожара, конь Вихрь на всём скаку проломил доску на мосту и сломал ногу. После, любимого всеми Вихря резали на дворе маминого деда. Мясо раздали работникам пожарки и их родственникам.
Пожарная часть размещалась прямо напротив трёх дмитриевских домов, через широкую улицу. Деревянные сараи, конюшни. А дальше располагалось строение тюрьмы. В войну на выгоне между пожаркой и тюрьмой, какие-то стратеги, удумали установить фанерные макеты самолётов. Дети ближайшей округи с радостью лазили по ним. Но, в конце концов и немцы прилетели бомбить ложный аэродром. Было это в июле, когда цвела картошка, и, кажется, это и была первая бомбардировка Боброва. В дома не попали, но одна бомба упала рядом с сараем маминого прадеда. Сарай разрушился, но, к счастью, не загорелся. Разрушения были и во дворе тюрьмы, где, как раз, заключённых готовили к этапу. Потом там бегали с носилками, собирали раненых. Скорее всего, были и убитые.
Маму бомбёжка застала у парка. Её послали к бабушкиной квартирантке, эвакуированной из Керчи и работавшей в буфете, за хлебом и чаем. С нею пошла и трёхлетняя дочь квартирантки. Когда от взрывов всё вокруг загремело и задрожало, они спрятались за какой-то воротиной. Малютка уже знала, что происходит, а мама моя не могла понять, что и каким образом творится, одновременно, стараясь успокоить плачущую маленькую спутницу. Как только всё утихло, бросились бежать домой, но, видимо, от пережитого страха никак не могли выбраться на свою улицу, спрашивая у встречающихся людей: «Как пройти к тюрьме?».
После первой же бомбёжки выкопали укрытие на огороде. Работали всей ребятнёй – моя мама, её старший брат, старшая сестра, младшая сестра и младший брат. Убежище получилось достаточно надёжным – глубокая, узкая щель, сверху накрытая брёвнами, засыпанными землёй, накрытой ешё одним слоем брёвен, тоже засыпанного землёй. Сверху, для маскировки, всё прикрыли дёрном, а потом там наросло и травы.
Всегда, когда начинала реветь сирена, и все бросались к укрытию, расталкивая и опережая людей, у входа первой оказывалась коза. На ходу она садилась задом на землю и, осыпая земляные ступени, съезжала вниз, и выгнать её на улицу до конца бомбёжки было уже невозможно. Вокруг всё сотрясалось и гремело от рвущихся бомб. Страшно было всем – и людям и козе. Но едва разрывы стихали, и германские самолёты улетали, все, выбираясь наружу, начинали прикалываться друг над другом и над козой, смеяться. Ребята, здесь же, располагаясь, доставали колоду и, с громким непрерывным хохотом и прибаутками, рубились в карты.
А смышлёную шуструю козу пришлось зарезать, когда эвакуировались в Шишовку.
Наше детство проходило уже в совершенно других условиях. Рождённый всего лишь через четырнадцать лет после войны, я понятия не имел что такое разруха, недоедание, тяжёлый труд, какие-то лишения. Детская жизнь моя на нашей улице заводского посёлка, удобно расположенного на окраине Воронежа, рядом с военным аэродромом, проходила светло и обеспеченно. Мы с братом не испытывали никакого недостатка в заботе и любви родителей, и, в этом плане, нам абсолютно ни о чём не нужно было беспокоиться.
И в детских садах детей хорошо кормили, система была отлаженной. На лето всех вывозили на дачи. Нас – в Дубовку. Летние корпуса, там, располагались в сосновом лесу. С точки зрения обустройства, всё было прекрасно. И это несмотря на, по сути, только что закончившуюся страшнейшую разрушительную, кровопролитную войну. А ведь ещё за этот кратчайший отрезок времени из руин восстанавливались целые города, промышленность, учебные учреждения, театры, развивалась армия и новейшие передовые научно-производственные технологии, такие как атомная энергетика и космос.
Как-то нашу детсадовскую группу вели на прогулку, по живописной лесной дороге, неровно и подвижно освещаемой солнечным светом сквозь кроны высоченных сосен. Нам встретились двое дядек, которые весело поприветствовали нас и спросили: «Ребята, кто знает, как зовут первого космонавта?» Отвечали ему, все кто и что хотел, разом, наперебой, но, в целом получилось, почему-то: «Титов!».
Воронеж считается одним из самых пострадавших во время Второй мировой войны городов. Но и вся остальная часть страны, по которой прокатился смертоносный вал гитлеровского нашествия, находилась в разрухе. То, что смогла сделать Советская власть после войны – истинное волшебство и чудо, особенно на фоне бесконечно длящейся, с начала девяностых, после «свержения коммунистического режима», деградации и агонии отечественной экономики. Демократы безо всякого стыда, на протяжении уже более четверти века, демонстрируют собственную же неспособность организовать нормальную, не чудовищно вредительскую, работу отечественных дорожных служб, автопрома, авиапрома, электроники, ЖКХ, лёгкой промышленности, сельского хозяйства, и т. д. и т. п.
Может быть, глобализация и мировое географическое разделение труда не такая уж плохая вещь для всего человечества. Но, пока что, под видом рационализации производственной деятельности, творится нечто не укладывающееся в сознании любого образованного и культурного современного человека. А культурными и образованными сейчас во всех развитых странах являются, чуть ли не все 100% их населения.
Скорее всего, перед развалом СССР, возник некий Интернационал правящих элит. Их совместный сценарий дальнейших практических действий антинародной направленности, продолжает неуклонно, методично, непоправимо, воплощаться в жизнь. В противном случае, всё происходило бы и объяснялось бы совсем в иных условиях, понятиях и установках.
Но и опять же, нашу нынешнюю жизнь нельзя назвать невыносимой. Глядя, какое количество людей, по нашим городам, каждый день, движется в пробках на работу на своих личных автомобилях, бросая их на целый день, где придётся, паркуясь в несколько рядов, или, как наши беспринципные соотечественники снова рвутся на турецкие курорты, невзирая на всё уже произошедшее и происходящее в Турции сейчас, невольно начнёшь понимать истинные первопричины и мотивы использования иными конструктивными правителями авторитарных, насильственных методов управления массами в частности, и страной в целом. Поэтому, если разбираться объективно, то, вполне возможно, что наиболее целесообразной и максимально комфортной, как для народа, так и для правящей элиты, в нашей стране, на данный момент, может являться, именно, только такая система общественно-экономического устройства, которая и существует в настоящее время. Лично мне, конечно же, не нравится ненасытность, бездарность, продажность и стиль поведения огромного множества представителей высших и средних властных и коммерческих сфер нашего государственного и частнособственнического управленческого бомонда. Но меня, частенько, не очень устраивают и общепринятые стандарты взаимоотношений между собой простых продавцов и покупателей, врачей и пациентов, преподавателей институтов и их же коллег, учителей и школьников, актёров и поклонников, мужей и жён, простых кавказцев, украинцев, прибалтов, или поляков и русских, и т. д. и т. п.
Нужно ли что-то менять в нашей стране? Конечно, нужно. Нужно поменять то же самое, что можно было поменять в СССР, не разрушая его, и самостоятельно не ставя свою же страну в очередное положение раком. Но сможет ли Путин осуществить долгожданные перемены и запустить механизмы неудержимого развития и процветания России, или так и ограничится имитациями и процедурами, направленными на постоянное затягивание времени, я, до сих пор не знаю. И, увы, это тоже уже, ещё один, не слишком хороший признак.
Всем известно, какой страна досталась коммунистам после многовекового застойного монархического правления, тотальной безграмотности, изнурительной Первой мировой, и разрушительного буржуазного переворота. Большевики пришли к власти в стране, не ими ввергнутой в состояние полного хаоса, поэтому инициаторами развязывания гражданской войны за власть являлись уже не они. Но и в гражданской войне победили большевики при подавляюще сознательной поддержке народных масс.
И не смотря на междоусобную бойню, интервенцию, саботаж, изоляцию, Великую Отечественную, послевоенную разруху, в начале шестидесятых, я видел перед собой, принадлежащий и мне, большой мир всеобщего достатка, основополагающей правильности, само собой разумеющейся устроенности, и всё новых и новых достижений во всех сферах народного хозяйства, в науке, культуре и спорте.
С тех пор и за всю свою жизнь я встречал только одного человека, не умеющего читать. Это моя бабушка по отцу. Но и она, с конца 50-х жила в городе, всегда с интересом слушала радио, а потом и смотрела телевизор, была чистоплотной, культурной в общении, с культурной городской речью. Я всегда охотно рассказывал ей разные новости и удивительные истории, которые узнавал сам, и она всегда внимательно их слушала. Она ничем не отличалась от такой же интеллигентной и замечательной бабушки моего школьного друга, проработавшей всю жизнь учительницей, потерявшей в старости слух. А когда у неё, у бабушки моего одноклассника, ухудшилось и зрение, она смотрела телевизор в упор, через лупу среднего размера. Постоянный живой интерес к информации делает и старого человека более устойчивым к различным психологическим срывам и надломам, а вернее, в этом проявляется одно из позитивных и благоприятных для общего душевного и физического состояния человека свойств его характера.
В Еланских и Чебаркульских лагерях, где с осени 1944 года проходил курс боевой подготовки мой отец, с питанием и с обмундированием было плохо. Бытовые условия тоже были никуда не годными. Но потом, перед отправкой на Дальний Восток, по дороге туда, и на Дальнем Востоке, в морских частях, всё поменялось к лучшему. Продукты поступали и из капитулировавшей, после ядерных ударов, нанесённых нашими союзниками американцами, Японии. Теперь трудно сказать были ли они заражены в результате атомных атак, или нет, но рацион наших военных пополнили очень ощутимо. Высококачественный рис в огромных количествах жарили в масле на больших противнях. Целиком консервированной в высоких жестяных банках сайры на столах было без меры…



