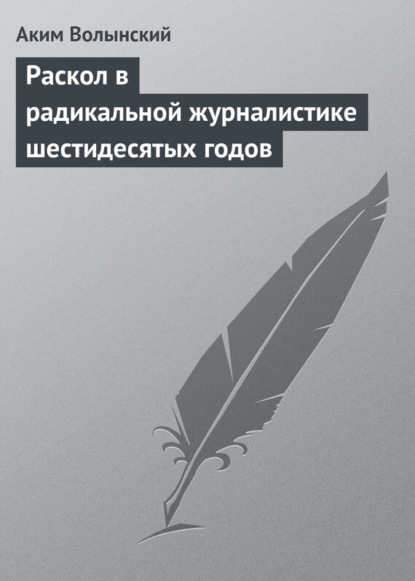 Полная версия
Полная версияРаскол в радикальной журналистике шестидесятых годов
Разбросав на пространстве двадцати страниц множество самых разнообразных «бутербродов», – с глубокомыслием, с шалопайством, с размазней, бутербродов простых, гнилых и заразительных, и повторив на сотню ладов одни и те же обвинения против Благосветлова, Антонович в той же книге «Современника» помещает еще две длинных ругательных статьи: одну (в 15 страниц) против «Краев-скаго» и «Ду-дыш-кина» и другую (в 38 страниц) против Зайцева, отложив еще до следующих книг громадную ругательную статью против Писарева. Подражая изо всех сил Чернышевскому и памятуя его опрометчивое суждение о Шопенгауэре, Антонович, в статье о Зайцеве, с видом знатока упрекает последнего за чересчур высокую оценку этого философа. Шопенгауэр, пишет он, был идеалистом, самым плохим идеалистом, идеалистическим философом самого мелкого калибра и самого дурного качества. Если Зайцев позволил себе дурной отзыв о Фихте, то о Шопенгауэре ему следовало-бы выразиться так: «А об этой дряни уж и говорить не стоит, не стоит тратить на нее даже гнилой репы». У Шопенгауэра нет ни системы, ни направления, ни связи, ни последовательности, нет ни одной глубокой философской мысли. Он забыт уже в самой Германии[46]…
Антонович, Благосветлов и Зайцев обменялись новыми возражениями в том же невероятном тоне, дальше которого, в смысле литературного неприличия, – нельзя было идти. Полемика приняла характер настоящей свалки. Оппоненты говорят друг другу в глаза невероятные вещи, вытаскивают на сцену интимнейшие подробности, не имеющие никакого принципиального значения и, не щадя читающей публики, обзывают друг друга самыми забористыми ругательными словами. Благосветлов не стесняется в определении литературной тактики Антоновича. Он обвиняет его в полемическом шулерстве, в хлестаковщине. «Ах вы, лгунишка! Ах вы, сплетник литературный! кричит он. Вы собираетесь посадить меня на ладонь и показать публике, а я советовал-бы вам спрятаться куда-нибудь в сапог и не показывать ваших бесстыжих глаз ни в редакции Современника, ни своим знакомым». В другом месте Благосветлов обещает поднести Антоновичу «вместе с грязным хвостиком и колпак с ослиными ушами», остроумно называя его при этом хавроньей. В заключение он дает торжественное обещание не входить больше ни в какие объяснения с Антоновичем и сохранить настолько хладнокровия, чтобы не состязаться с своим противником его же оружием[47].
Зайцев отвечает отдельно Антоновичу и Постороннему Сатирику, как-бы двум различным писателям. На приставания своего противника, по поводу его впечатлений от полемики с «Эпохой», он отвечает довольно решительно. Он убежден в том, что Антонович имел только одну цель – показать свою храбрость, и для этой цели он не пренебрегал никакими ругательствами и даже клеветой. Полемика Антоновича с «Русским Словом» еще более убедила Зайцева, что спрашивать его об идеях и принципиальных соображениях дело совершенно бесплодное. Полемические приемы Антоновича возможны только в той литературе, которая отразила в себе все ужасы последнего трехлетия. Такого же мнения об Антоновиче держатся и два других сотрудника «Русского Слова» – Писарев и Шелгунов, сообщает Зайцев[48]… Неизвестно, до чего-бы дошла ругательная изобретательность полемистов, если-бы самый способ исключительно словесных пререканий не начал казаться им слишком слабым и недействительным для разрешения этого литературного спора. По несколько туманному и слегка смущенному заявлению, сделанному Антоновичем в марте 1865 года, в полемику вошли новые, реальные факторы: «Опасно полемизировать с теми, пишет он, которые могут послать на вашу квартиру двух огромных детин гайдуков для вашего вразумления», гайдуков, которые «прибегают к таким красноречивым увещаниям, что для удержания их требуются дворники и городовые»[49].
Так закончился первый период борьбы «Современника» с «Русским Словом». Три главных воителя, Антонович, Благосветлов и Зайцев, показали себя с различных сторон. Выступая то с опущенным, то с поднятым забралом, Антонович боролся изо всех сил, одиноко отбиваясь тяжеловесной дубиной от не менее чем он наглых, ничем не стесняющихся и лучше его поставленных в глазах молодого поколения сотрудников «Русского Слова». Развязно шельмуя своих противников, он не сумел при этом, однако, сказать ни единого слова, которое могло-бы примирить его с теми, которые ждали от него оправдания или твердого объяснения по поводу распущенных фельетонов Щедрина. В этой полемике он обнаружил только мелкое, мстительное самолюбие и полную неспособность держаться в споре на почве чисто-литературных интересов. Ни одна заметка его не проникнута каким-нибудь идейным интересом. С первых же шагов он запутывает в спор обстоятельства и счеты, к делу совершенно не относящиеся. Не уважая чужих мнений, он и в своих противниках умел будить только самые низменные страсти, и, оскорбляемые его выходками, они накидывались на него с его же орудиями, но били сильнее, потому что были моложе и свежее его. Благосветлов сразу потерял самообладание и, как мы видели, брызнул целым фонтаном сквернословия. А Зайцев, человек мелкий, наглый и, при всех своих критических и философских претензиях, невежественный, не завлекаясь ни в какие серьезные споры, бойко поддавал коленом…
Писарев, сидевший в это время в крепости, как орленок в клетке, рвался к полемике. Человек с темпераментом бойца, он не мог оставаться спокойным, читая, какими словами Антонович поносил Благосветлова. Фраза Антоновича о том, что Благосветлов есть только «прихвостень» его, Писарева, и Зайцева, разожгла в нем благородное товарищеское чувство. Не имея пока возможности лично сразиться с общим противником, он поручил своей матери, Варваре Писаревой, отдать в «Современник» письмо на имя Николая Алексеевича Некрасова, в котором от его лица делается твердое и решительное заявление, имеющее весьма важное значение для понимания хода умственного развития Писарева, Писарев вступил на почву литературного реализма под влиянием Благосветлова, который оторвал его от его прежних эстетических симпатий. «Своим превращением, пишет Варвара Писарева со слов своего сына, он исключительно обязан Благосветлову. Если, говорил он мне часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честного литератора, то я должен сознаться, что это понимание пробуждено и развито во мне Благосветловым. Сын мой видит в Благосветлове не прихвостня, а своего друга, учителя и руководителя, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты». Никогда Благосветлов не холопствовал перед графом Кушелевым – Безбородко. Если же упрек этот был-бы справедлив, он должен был-бы упасть и на Писарева. Если холопствовал редактор, то должен был холопствовать и его помощник. Позорить Благосветлова и в то же время выгораживать Писарева невозможно: или оба они честные люди, или оба негодяи. «Таково глубокое убеждение моего сына», заключает свое письмо Варвара Писарева[50].
При первой возможности Писарев схватывается с Антоновичем лично. Не входя в рассмотрение всех перипетий первого периода борьбы, он пользуется новыми материалами, чтобы доказать Антоновичу его уклонение с пути Чернышевского. Антонович в это время успел напечатать подробный разбор «Эстетических отношений искусства к действительности», появившихся новым, вторым изданием. В течение десяти лет взгляды Чернышевского успели пустить глубокие корни в русской литературе и в настоящее время есть журналисты, которые доводят их до крайностей, утрируют их в ущерб их действительному смыслу, говорит Антонович. Считая себя одного хранителем философских традиций Чернышевского, Антонович полагает нужным изложить его эстетическую теорию в её первоначальном виде, как «она вышла из рук её основателя или насадителя на русской почве». Но пространно передавая эстетические понятия Чернышевского, Антонович, быть может, не заметно для самого себя, прибавляет кое-какие черты к тому, что было впервые напечатано в магистерской диссертации Чернышевского, принимая при этом тон «рационального» оппонента «рьяным, но не слишком рациональным» последователям этой новой теории. В последнее время, пишет Антонович, некоторые, восставая против ложных направлений искусства, в горячности и нерассудительности дошли до того, что стали восставать против искусства и эстетического наслаждения вообще. По мнению Антоновича, такой «аскетический» взгляд на искусство понятен и возможен только у людей, которые тенденциозно придумывают разные кодексы человеческих обязанностей, не считаясь при этом с реальными свойствами и потребностями человеческой натуры. «Эстетическое наслаждение есть нормальная потребность… Искусство, как удовлетворение этой потребности, полезно, если бы оно даже ничего не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим высшим целям»[51]. Подобными оговорками Антонович обставляет свое изложение «Эстетических отношений», явным образом бросая полемические стрелы в сторону Писарева. Этим маневром критик «Современника» думал смутить своих противников, обвинив их в том, что они искажают идеи Чернышевского, который, будто-бы, вовсе не отрицал эстетики, эстетических наслаждений и важности «искусства дли искусства». Придавая диссертации Чернышевского более широкий и толерантный смысл, Антонович этим самым однако давал такому противнику, как Писарев, очень опасное оружие против себя. Выводы из сочинения Чернышевского, беспристрастно сделанные, могли быть только разрушительными по отношению к искусству, и Писареву не стоило особенного труда показать все отклонения Антоновича от утилитарного реализма Чернышевского. Опираясь на собственное понимание трактата Чернышевского, Писарев спорил по этому поводу с Антоновичем, имея в виду не только подлинные выражения и слова того, кого считал своим авторитетом, но дух и общие стремления всей его философской деятельности, которая не допускала никакого компромисса хотя бы с самыми слабыми оттенками идеалистических понятий. Он развивает доктрину Чернышевского именно в том направлении, которое наиболее соответствовало реалистическим тенденциям эпохи. Другими материалами Писарев не пользовался. Но если бы он пожелал, он мог бы, в дополнение к знаменитому трактату Чернышевского, воспользоваться еще и другим его трудом, а именно критическим разбором «Эстетических отношений», напечатанным в июньской книге «Современника» в 1855 году, в год выхода трактата, за подписью Н. П., но, по несомненно верному в данном случае заявлению Антоновича, принадлежащим – как это ни странно сказать – самому Чернышевскому. Рецензент, руководимый, по комментарию Антоновича, желанием дать ход своим идеям, рискнул представить критический реферат, о своем труде, при чем он «с достоинством и беспристрастием указал, как на хорошие стороны, так и на некоторые упущения в своем сочинении»[52]. С удивительным самообладанием решительного и несколько коварного агитатора, не пренебрегающего для завоевания умов никакими средствами, Чернышевский выдает своему трактату, отвергнутому официальною русскою наукою, диплом от лица настоящей передовой философии. В своей рецензии он хочет показать, «до какой степени верно» Чернышевский сделал приложение к частной области эстетических понятий общих воззрений науки. «В средоточии дела», в системе современных философских идей можно найти полное оправдание тому, что излагается в «Эстетических отношениях». Автор, говорится в рецензии, обнаруживает способность различать в известных понятиях элементы, согласные с воззрениями современной науки, и элементы, с ними несогласные. «Его теория имеет внутреннее единство характера». В ней все принадлежит положительной науке, хотя надлежащими примерами ее можно было бы поставить в связь «с интересами дня, которые занимают столь многих…»[53].
В «Эстетических отношениях» нет настоящего изложения той современной философии, именем которой Чернышевский защищает Чернышевского, но не подлежит сомнению, что, опираясь на эту философию, в том виде, в каком – судя по дальнейшим его статьям, – представлял ее себе Чернышевский, Писарев мог бы доказать свою полную правоту и последовательность в споре с Антоновичем. На его стороне были идеи века, а дух учителя, еще живого, по уже отдаленного от своих верных учеников, витал над поколением молодых писателей, призывая к окончательному, беспощадному разрушению праздной эстетики. Антонович, уже обнаруживший совершенное непонимание молодых продолжателей Чернышевского, теперь показал, что он никогда глубоко не понимал и самого Чернышевского, с его во всем радикальными, прямолинейными стремлениями, с его темпераментом бестрепетного разрушителя, с его узким, односторонним, но фанатически непреклонным умом.
Писарев откликнулся на многочисленные выходки Антоновича сначала в статьях «Прогулка по садам Российской словесности» и «Разрушение эстетики», а потом, сразившись с «Современником» по вопросу об «Эстетических отношениях», дал пространный, горячо написанный ответ на полемические статьи Антоновича, «Промахи» и «Лжереалисты» – в статье под названием «Посмотрим», заключившей борьбу обоих журналов. И каждое из возражений Писарева проникнуто сильным чувством убежденного человека. Он нападает на Антоновича со страстью партизана известной доктрины, которую его противник унизил своим фальшивым заступничеством. Антонович оскорбляет его чувство порядочности своею полемическою невоздержностью и клеветническими приемами. У него нет самостоятельного миросозерцания, нет Щедринской веселости, которая умела осмеивать то, чего она не понимала, – и вот он собирает, вместо логических аргументов, в споре с своими противниками всякого рода сплетни и небылицы. У Антоновича не хватает честности отказаться от своего «Асмодея», и защищая проигранное дело, он запутывается в софизмах и заводит критику «Современника» в те дебри, в которых гнездится русское филистерство. Он сыплет целыми лукошками самого неблаговидного лганья и, чтобы оборонить свою репутацию, взваливает ответственность за свою нелепую статью о Тургеневе на Чернышевского, который, приняв ее для печати, тем самым будто-бы выразил свою солидарность с нею[54].
В статье «Разрушение эстетики» Писарев вооружается против сделанного Антоновичем изложения трактата Чернышевского, доказывая, что автор его имел в виду полное истребление старой и вообще всякой эстетической теории. Эта цель сквозит во всех определениях Чернышевского, в его смелом и решительном анализе различных эстетических учений, и она могла быть превратно истолкована только филистерами или «самолюбивыми посредственностями, которые считают себя учениками автора и преемниками Добролюбова». Если Чернышевский пользуется в своем сочинении старыми терминами, то он делает это только потому, что в 1855 году русское общество не было еще подготовлено к пониманию его плодотворных идей. Но теперь, через десять лет, надо сделать явною главную тенденцию Чернышевского. Пришла пора двинуть в жизнь эту разрушительную силу, чтобы добиться от литературы иных эффектов, иного воздействия на общественную жизнь. Но что же делает Антонович с сочинением Чернышевского? Поворачивая «Современник» назад, в тихую область безмятежного искусства, и сознавая недостаточность своих собственных сил для произведения такой реакции, он в своем отступлении хочет прикрыться «Эстетическими отношениями». Он хочет доказать, что мысли Чернышевского в настоящее время утрируются. Чтобы образумить чересчур рьяных последователей новой доктрины, он старается затормозить их порывы яко-бы словами самого Чернышевского. Он хотел-бы, чтобы известная книга залегла навсегда поперек той дороги, по которой движется русская мысль, и чтобы «Эстетические отношения» сами разрушили то дело, которое они создали! «О, г. Антонович! О, гениальный г. Антонович!» иронически восклицает Писарев. «Вы себе даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете в самодовольной тираде против горячности и нерассудительности каких-то некоторых. Вы говорите откровенно всем вашим читателям, что вы никогда не способны возвыситься до понимания той нравственной философии, которую два-три года тому назад поддерживал Современник. Писарев обвиняет своего противника в нравственной „приземистости“, которая не позволяет ему идти в общем движении эпохи, в неспособности работать по страсти, в умственной дряхлости. В его эстетических воззрениях, изложенных в рецензии на книгу Чернышевского, он не видит ничего такого, что давало-бы ему повод раздираться с Страховым, Incognito, Аверкиевым и Н. Соловьевым. Его новая реклама в пользу искусства, издевается Писарев, заслуживает „филистерских бесешек“ этих людей, работающих в журналах с иным направлением, чем „Современник“».
В двух статьях, направленных против Писарева[55], Антонович глумится с обычною грубостью над критиком «Русского Слова». Все литературные статьи Писарева не больше, как фанфаронада, пустое фразерство, вводящее в заблуждение молодые умы, и для пользы литературы необходимо разрушить его пьедестальчик как можно скорее. У Писарева, этого «лучшего цветка в саду реализма», нет ничего: ни самостоятельного миросозерцания, ни каких-нибудь серьезных критических преданий. Он отрекается от Добролюбова и доводит до абсурда рациональную теорию Чернышевского. За ним стоит Благосветлов, его наставник, его друг, он недоношенное детище Благосветлова. Разбирая статьи Писарева о «Нерешенном вопросе», Антоновича в сотый раз повторяет, что Базаров – карикатура, сочиненная на молодое поколение, и что Писарев, восхваляя «Отцов и детей», встал под то самое знамя, под которое радостно бежало все отсталое, обскурантное, своекорыстное, пошлое. «Русское Слово» шло за триумфальной колесницей Тургенева, которому «Современник» никогда не простит его литературного преступления. «Современник» всегда будет гордиться тем, что он не участвовал в этом позорном торжестве[56]. «Понимательная» способность Писарева слаба и неудовлетворительна. Вот почему он так обрадовался Тургеневу, который оказался ему по силам. Вот почему он ухватился за Базарова, – за эту первую «реалистическую штуку, которую он мог осилить и понять». О, недоносок Благосветловский! О, недоразвившееся дитя Тургенева! О, скудоумный Писарев![57]…
Писарев в громадной статье «Посмотрим» опровергает все возражения Антоновича. С достоинством умного и талантливого писателя он выражает сожаление, что употребил в статье «Нерешенный вопрос» чересчур резкое выражение против Антоновича (лукошко глубокомыслия). Имея дело с противником, готовым, в случае надобности, прибегнуть к «фальсификации печатных документов», он, по естественному чувству протеста и человеческого негодования, схватился за то орудие, которым боролись с Антоновичем его товарищи, Благосветлов и Зайцев. Полемика приняла характер дикой оргии, но теперь он намерен шаг за шагом проследить все аргументы «Современника», дать им оценку, сличить их с собственными доказательствами и, выведя все дело на полный свет общественного мнения, сказать последнее слово своему противнику, до будущей, вероятно не близкой, схватки. В точных и ясных выражениях он определяет свое отношение к Благосветлову, еще раз обрисовывает реалистическую теорию, свой взгляд на Базарова и отношение к Добролюбову и Чернышевскому. Горячий сторонник старого «Современника», он никогда однако не жертвовал своею самостоятельною критикою и потому смело расходился с Добролюбовым в тех случаях, когда он находил его взгляд неверным и неосновательным. Он не согласился с его оценкой романа Тургенева «Накануне», он резко разошелся с ним в понимании таланта-Писемского, к которому Добролюбов относился с полнейшим и отчасти даже афектированным пренебрежением. Он оценил по своему и опять-таки в разрез с критикою Добролюбова стихотворные произведения Фета и Полонского. никто не имеет права называть его горячим приверженцем Добролюбова: он никогда им не был, хотя всегда считал Добролюбова очень умным и очень честным человеком. Антонович не понимает, что можно уважать писателя и в то же время расходиться с ним во мнениях, и следует только пожалеть, что роль первого критика в «Современнике» досталась такому ограниченному человеку[58].
На этом закончилась полемика двух журналов. В борьбе «Русского Слова» с «Современником» обе стороны оказались виноватыми в нарушении литературных приличий, но победа, без всякого сомнения, осталась за тем журналом, в котором работал Писарев. Это был момент настоящего расцвета молодого журнала, в котором и раньше статьи Писарева возбуждали всеобщий интерес публики. Радикальное знамя было отбито у «Современника», и на поле журналистики «Русское Слово» могло считаться в то время лучшим выразителем стремлений молодого общества. Экономические статьи Н. Соколова, поверхностного знатока предмета, но бойкого и разудалого реалиста на экономической почве, постоянные статьи Н. Шелгунова, Щапова, Ткачева, Флоринского, беллетристические работы Шеллера, Бажина, Потанина, Глеба Успенского, и во главе каждой книги критические статьи Писарева и Зайцева, – не могли не содействовать полному и широкому успеху журнала в публике с передовыми запросами эпохи. Журнал читался на-расхват, и каждая новая статья Писарева, уже ставшего идолом толпы, возбуждала шумные толки во всех слоях общества. Потребность в человеке, который заменил-бы Чернышевского, который вел-бы смелою рукою молодые поколения, нашла себе полное удовлетворение в его ярком таланте, без философской глубины, но с порывами свободной души, не признающей никаких авторитетов, беспощадно осмеивающей всякую рутину, объявляющей войну всяким предрассудкам. В исторический момент пересмотра всех основ русской жизни его бурная, разрушительная деятельность, не руководимая ни в какой области никакими точными, научно-обоснованными, положительными критериями, но проносившаяся удалым призывом над толпою, едва приходящею в движение и отряхающею с себя тяжелую дремоту долголетнего бездействия, должна была вызвать общее сочувствие. «Русское Слово» съумело воспользоваться моментом, и, если-бы не правительственное запрещение в 1866 году, оно, несмотря на некоторые неизбежные пертурбации в составе сотрудников, на выход из их числа Зайцева и Соколова, огласивших в печати свои пререкания с Благосветловым и на очень короткое время привлекших на свою сторону даже Писарева, журнал занял-бы в обществе место прежнего «Современника». Благосветлов был несомненно практичным и умелым редактором, а к его услугам были все выдающиеся таланты известного направления.
А «Современник» быстро склонялся к полному упадку. Потолковав с читателем в защиту своей полемической разнузданности, еще раз схватившись с Краевским, прогулявшись по брошюре Кавелина «Мысли о современных научных направлениях» и возразив газете Аксакова на её во многих отношениях справедливые нападки, Антонович закончил свою деятельность в 1865 году компилятивною статьею об умственных движениях в XIX веке, при всеобщем протесте печати и публики. Ни одно живое общество, в котором еще не притупилось окончательно чувство нравственной брезгливости, не могло не отвернуться от этого печального героя нескольких скандальных историй с лучшими тогдашними журналами – «Временем», «Эпохою» и «Русским Словом». «Отечественные Записки», не принимавшие в этой борьбе партий активного участия, в нескольких статьях выражали свое презрительное отношение к полемической тактике воюющих сторон. Наше передовое движение, писали они, не есть чисто литературное движение. По самой глубокой своей сущности, говорил не безызвестный в то время писатель Зарин, скрывший свою фамилию под псевдонимом Incognito, оно скорее анти-литературное движение[59]. Иронизируя над полемическими бойцами из «Современника» и «Русского Слова», этот писатель приводит по пунктам все verba novissima, которые были пущены ими друг в друга. «Противники до того одушевились, что, по сильному выражению одного литератора, в небесах небес заря загорелась». Обозрев все стадии этой междоусобной войны в среде радикальной партии, Зарин заключает свой фельетон следующим меланхолическим рассказом, не без яда рисующим положение современного читателя. Однажды он провел в глубоких размышлениях бессонную ночь вплоть до ясной зари. Когда небо побагровело на востоке, он услышал над самою крышею какой-то гогот и тяжелое маханье крыльев, на подобие тех, которые издаются стаями низко летящих диких гусей. Он поспешил открыть окно: то были действительно стаи, но не гусей… они летели с противоположных сторон, с севера и с юга, но направлялись как будто к одному пункту, исхудалые и голодные. Очутившись одна от другой на полет стрелы, они обменялись вопросами и ответами: «Товарищи, откуда?» – «Из Русского Слова», – «Из Современника». То были стаи молодого поколения, улетавшие от уважаемых прежде журналов…[60].
Газета Аксакова «День» следила за полемикою в своем критическом отделе, и когда Антонович разразился своими знаменитыми бутербродами, сотрудник её П. Б. справедливо сказал, что новый дух, веющий в «Современнике», – только духота от миазмов его разложения и гниения[61].

