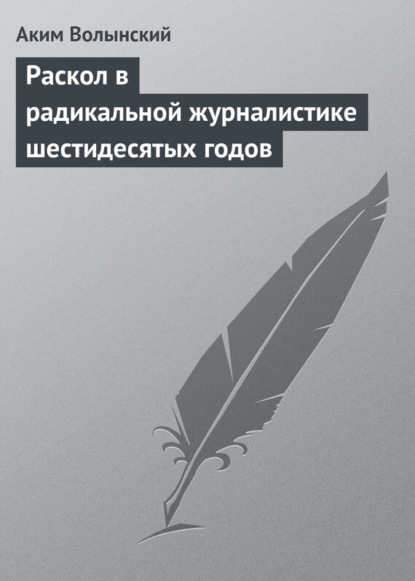 Полная версия
Полная версияРаскол в радикальной журналистике шестидесятых годов
А Громеке было решительно не под силу справиться с «Современником».
Остановимся еще на одном очень типичном эпизоде, характеризующем публицистический такт Громеки и отношение органа умеренного либерализма к своей журнальной задаче. В ноябре 1862 года, почти перед истечением срока приостановки «Современника» и «Русского Слова». Громека, в пылу наивного увлечения, поддавшись наплыву профессионального великодушие, побуждающего протянуть руку помощи утопающему антагонисту, совершенно неожиданно для читателей, выступает в роли ходатая перед официальными учреждениями за журналы, приостановленные в начале этого года. Он обращается с увещательной нотой к цензурному ведомству, объясняя ему в популярных выражениях, что закрытие журналов может принести вред не только литературе, но и правительству. Он убедительнейше просит выслушать его: «На душе у нас», говорит он, «давно лежит несколько слов, которые выслушать ей (цензуре) будет не бесполезно, так как дело касается лично её достоинства, а также достоинства литературы и выгод правительства». Вот уже около полугода, как литературное направление, известное под именем нигилизма, устранено вовсе из печати, хотя цензуре должно быть известно, что направление это пользуется сочувствием общества, составляет необходимое явление, которого нельзя вычеркнуть одним почерком пера. С этим направлением боролась почти вся журналистика, когда оно существовало наряду с другими литературными явлениями и фактами. Теперь оно под запретом, окружено ореолом мученичества. Как быть? Что делать тем людям, которые считали своим долгом бороться с литературным нигилизмом? «Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература, пишет Громека в своем оригинальном журнальном рапорте, не может сражаться с мнениями, которые подвергаются преследованию и запрещаются цензурой. Разум не может подавать руки насилию». Когда преследуется целое литературное направление, продолжает Громека, тогда все прочия направления, бывшие с ним в споре, становятся в унизительное положение невольных доносчиков. Он не может верить, чтобы гонение на упомянутые журналы было решено продолжить. Он не может верить, чтобы правительство решилось «продлить то положение вещей, при котором в одно и то же время заботятся об улучшении крестьянского быта и запрещают частным людям защищать крестьян, даруют народу правильный суд и защиту от административного произвола и преследуют административным порядком лиц, почему-либо не нравящихся начальству, хлопочут об уничтожении произвольной цензуры и насильно выкидывают из литературы целое направление». Громека надеется, что цензура не воспрепятствует его откровенным и доброжелательным строкам дойти по назначению. Она должна понять, что нельзя скрыть от правительства опасения, разделяемого всем обществом. «Лучше ей иметь теперь дело с нашими, скромно выражаемыми мыслями, чем остаться потом вовсе без дела, когда русская литература переселится за пределы европейской и азиатской России», заключает свою красноречивую петицию пылкий, но наивно-бестактный Громека[13].
Мы увидим ниже, как отнесся к этому непрошенному заступничеству «Современник». Но нельзя не заметить, что в такое странное положение «Отечественные Записки» могли попасть только вследствие умеренного характера своего собственного образа мыслей. Желая идти в дружеском общении с правительством и, так сказать, поворачивая к официальным учреждениям свою неизменно добродушную физиономию, такой публицист, как Громека, не ставил ничего серьезного на карту. Его литературно гражданственный поступок, как и вся его журнальная деятельность этого периода, не представлял ничего особенно рискованного, не был проявлением настоящего политического мужества. Его либерализм свободно разливался в слегка риторических тирадах под хладною сенью закона и канцелярского благомыслия. Испрашивая для «Современника» свободу, Громека не обнаруживал глубокого идейного интереса, потому что, в сущности, он сам шокировался именно крайностями литературного нигилизма, неумеренностью его требований, беспощадностью его политической критики. Будучи человеком с ограниченной программой, он не мог искренно желать, чтобы направление «Современника» свободно разливало свои шумные волны, тревожа умы и взбудораживая страсти. Ослепленный оптимистическими надеждами, Громека думал, что радикальное движение, с его бурными и беспорядочными взрывами, уже приходило к концу, уступая место лойальному, умеренному, аристократически выправленному либерализму, который приведет Россию, без борьбы и натиска, к полному и безмятежному благополучию. Не разразись злосчастное запрещение над «Современником» и «Русским Словом», пылкий Громека, помахивая и поигрывая своим «кнутиком рутинного либерализма», сам выгнал бы «дикую орду» радикалов на прямую и широкую дорогу прогресса. Уступи цензура его убедительным увещаниям, и все опять направится тем же верным ходом: пройдя огонь журнальной полемики, радикальная печать очистится от своих язв и грехов, и все три органа русского прогресса – Правительство, «Отечественные Записки» и «Современник» – дружным шагом направятся к общей цели, оставив за своей спиной бессильно злобствующего, тщетно надрывающегося в патриотических иеремиадах Каткова.
Пылкий Громека в своих отношениях с «Современником», в самом деле, был в том двусмысленном положении, в каком должен был оказаться всякий умеренный либеральный деятель, ведущий борьбу с направлением, оказавшимся вне покровительства закона. Как мы уже сказали, он ничем не рисковал: ему нечем было рисковать, у него не было за душою ничего такого, чего он не мог бы твердою рукою занести в официально признанные проекты того времени. В борьбе с Чернышевским честное, твердое и недвусмысленное положение мог занять только тот, кто, отправляясь от другого философского мировоззрения, шел бы смелым, решительным путем к столь же серьезным и беспощадным выводам.
II
Каким-то особенным весельем и бодростью проникнуты первые книги «Современника» 1863 года. Редакция подобралась и, несмотря на отсутствие Чернышевского, повела работу с большою энергиею. Событием дня должен был стать роман Чернышевского «Что делать», а среди постоянных работников журнала, в качестве фактического соредактора, появился новый блестящий талант, свежий и остроумный, несмотря на свою, не всегда опрятную болтливость, несмотря на отсутствие внутреннего жара и протестантской сосредоточенности. Казалось, что «Современник» окреп окончательно. С внешней стороны он в этом году отличается изобилием литературных материалов. Но внимательно вчитываясь уже в первые книги, нельзя не почувствовать в идейной стороне дела какого-то разброда, разноголосицы, отсутствия духовно-сплоченной организации, направляющей все силы журнала по определенному пути. Фельетоны Щедрина, его многочисленные работы в разных отделах «Современника», – статьи о театре, письма из Москвы, многочисленные библиографические и полемические заметки, наконец обширный вклад, сделанный им в стихотворной и прозаической форме в № 9 «Свистка» – все это, конечно, придавало журналу оживление, яркость, силу. Но, несмотря на все это, «Современник» уже утратила, тот характер прямолинейной фанатической убежденности, какой он имел при Добролюбове и Чернышевском. В прежнем «Современнике» все кипело злобной нетерпимостью политического сектантства. Смех его сатиры звучал ехидно, вызывающе, задорно. Конрад Лилиеншвагер, Яков Хам и другие лицедеи «Свистка», несмотря на бледность и сухость сатирических талантов, несмотря на неразборчивость в выборе своих жертв, умели добиваться своими средствами определенно поставленной цели. Свист их, оглашая журнальное поле, так или иначе собирал людей под определенные знамена. Сатира возрожденного, иди, вернее говоря, перерожденного «Современника», с юным Щедриным во главе, при всей её сочной и богатой талантливости, не заключала в себе элементов истинно злого, непримиримого обличения. Вместо режущих слух свистков, в ней слышались взрывы задорного, зубоскального, порою распутного хохота, привлекающего публику новизною и неожиданностью хлестких и разухабистых словечек и оборотов, но отучающего от серьезного отношения к обличительной литературе вообще. Все то, что придает настоящей сатире глубоко серьезный и даже трагический характер, все то, что зреет в душе всякого талантливого писателя с годами жизни, вся та горечь, которая ощущается в позднейших произведениях Щедрина, совершенно отсутствует в его первых фельетонах. Здесь бросается в глаза бойкий и ядовитый ум, разлагающий жизнь в разных её пластах и направлениях, беспокойный юмор, мечущийся из стороны в сторону, как дикий зверь в клетке, почти неисчерпаемый, вечно живой балагурный талант, превращающий в ряд интересных, художественно-законченных эпизодов всякую бесформенную жизненную канитель. Но высокого настроения, духа, творящего в художественных образах смелые и значительные идеи, не видно в этих блестящих, но часто совершенно бесплодных писаниях молодого Щедрина. Россия неудержимо смеялась, читая небывало самобытные рассуждения о «дураковой плеши» и «дураковом болоте», о «Ване – белые перчатки» и «Маше – дырявое рубище», о «Цензоре в попыхах» и «Сеничкином яде», но смех этот не был очищающим, отрезвляющим смехом. Читатели сбегались послушать забавного рассказчика, умеющего коварно подмигивать и ехидно поддразнивать тех, про кого нельзя сказать открытой правды, но самая обличительная тенденция автора, расплывчатая и неуловимая, никого в сущности не язвила, не убивала ничьей репутации. Имя Щедрина скоро стало греметь, как имя нового таланта, щедро разбрасывающего ходкую и звонкую монету анекдотического остроумия. Но люди с настоящими духовными страстями и серьезным отношением к задаче журналистики знали, что в этом виде влияние Щедрина не глубоко, и слава его не прочна. Мы уже видели, с какою силою предостерегал Щедрина Достоевский, призывая его на новый, более ответственный и более достойный путь. Ниже мы увидим, как отнесся к нему молодой Писарев, не разглядевший даже за его юмористическими ужимками серьезного и многообещающего таланта. Для того, чтобы выйти на другую литературную дорогу и возвести свою сатиру на степень важного общественного и художественного явления, Щедрину нужно было многое пережить и перестрадать. В тяжелых нравственных испытаниях, от которых конвульсивно сжималась, трепетала и замирала вся русская жизнь, должна была отпасть от Щедрина вся та скверная накипь, с которою он вышел из провинциальных, чиновно-дворянских трущоб… Но при всех своих недостатках, при всей бессодержательности своих ранних обличений, Щедрин все-таки, с самого начала своей деятельности, заблистал в «Современнике», как звезда первой величины. Рядом с бездушными и мертвыми писаниями Антоновича, его фельетоны, его публицистические и критические заметки, каждый штрих его молодого пера дышат жизнью, играют свободным остроумием.
В кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев «Совре ленник» отмечает все то, что случилось без него на сцене русской литературы. Сличая минувшее с настоящим, журнал находит, что в короткое время с точностью определились главные направления, господствующие в современной печати, её настоящие виды и стремления. Журналы действуют теперь под определенными знаменами, каждый на своей территории. Было время, когда «Современник» имел виды на сердечное примирение с «Русским Вестником», но теперь все его надежды на этот счета пропали. Физиономия «Русского Вестника» определилась, характер его установился окончательно. Отказавшись от своих преданий, Катков стал говорить без аллегорий и либеральных прикрас, «произносить свои панегирики и катилиниады твердым и резким голосом, не конфузясь и не мигая глазом». «Русский Вестник» укрепился в своей позиции, и теперь уже нет никакой возможности поколебать его, остановить и урезонить. «Отечественные Записки» затеяли усердную борьбу с нигилизмом, и на этом поле Громека, их виднейший сотрудник, приобрел себе широкую известность. Его хроники производят сенсацию, их читают. Но пылкий публицист не имеет ни малейшего основания гордиться своим положением среди действующих журналистов. Упомянув об известном ходатайстве Громеки перед цензурным ведомством, «Современник» восклицает с раздражением: «Какое великодушие и какая храбрость!.. Хроникер отважился ходатайствовать за Современник, который часто враждебно относился к нему». Что сказать на это ходатайство? Кто посылал Громеку адвокатом в правительственные учреждения отстаивать интересы того направления, к которому он сам не принадлежит? «Современник» гнушается заступничеством «Отечественных Записок», и в их ходатайстве видит только фарс, ловкий фарс, искусно рассчитанный на то, чтобы уронить противника и возвысить себя. О журнале Достоевского «Современник» отзывается с полным пренебрежением. «Время» любит похвастать собственными своими достоинствами. В хвастовстве оно доходит до виртуозности, до настоящей хлестаковщины. Его сотрудники простые фразеры, перебивающиеся небольшим запасом постоянно повторяемых метафор. Их исходная мысль ложна, их статьи – вздор и болтовня. Косица в отсутствии «Современника» не находил сюжета для своих писаний…[14].
Та же мысль проводится и в статье Антоновича «Литературный кризис». Недавно еще казалось, пишет он, будто все органы печати проникнуты одним духом, будто все её деятели идут к одной цели и преследуют одинаковые интересы. Но вот в литературе совершился кризис, и единство в целях и стремлениях её выдающихся представителей исчезло. Возникли несогласия в вопросах, прежде никого не смущавших, вражда вышла за пределы литературного круга. Обличения и бичевания раздаются реже и реже, в журнальных исполинах и пигмеях заметен большой упадок храбрости. Прежде литература находилась, можно сказать, в эмбриональном состоянии. Трудно было заметить разницу между отдельными её направлениями, во всем господствовал хаос и вавилонское столпотворение. Но вот подошло время, когда общие места оказались недостаточными, когда потребовались прямые и определенные суждения, и тогда, вместо бойких речей, потекли благоразумные фразы и резонерство. Журналы сняли свои маски. Один только «Современник» остался во главе настоящего прогрессивного движения общества и теперь больше, чем когда-нибудь, его программа приобретет литературную и политическую яркость. Антоновичу, вместе с другими сотрудниками журнала, казалось, что «Современник» теперь, как и прежде, пойдет путем авторитетного руководителя интеллигентных масс.
Однако, перебирая главные статьи, напечатанные в первых книжках «Современника», мы не находим в них определенной политической программы. Между рассуждениями различных авторов нет полной солидарности в политическом тоне, нет гармонии в отдельных оттенках публицистического обсуждения текущих жизненных вопросов. Некоторые статьи могли-бы по своей корректности в отношении к правительственным реформам появиться в журнале с более умеренными либеральными запросами, другие страдают отсутствием настоящей юридической критики. Общие теоретические места, всплывающие в статьях Антоновича, отличаются крайнею ограниченностью правовых представлений. Как-бы в оправдание своих узких реалистических требований, Антонович проводит в упомянутой статье своей следующий странный взгляд на роль теоретических идей в культурном процессе всякого общественного развития. Можно принять за правило, пишет он, что теоретическая высота какого-нибудь учения совершенно не соответствует практическим требованиям, выводимым из него. Теоретически-возвышенные идеи ослабляли энергию в людях, отвлекали их мысли от действительного мира, обращали их к безжизненным и мечтательным сферам. Проповедуя пассивное терпение и рабскую покорность, они брали под свое покровительство все, что стремилось к преобладанию и незаконному господству над людьми. Ими оправдывались и освящались всякие насилия, притеснения и угнетения. Только учения, с виду не очень возвышенные, занимавшиеся реальными предметами действительной жизни, говорит Антонович, были всегда учениями протестующими, заступались за слабых и угнетенных. Обойдите весь свет, восклицает он, просмотрите все отделы жизни, и вы найдете оправдание этим мыслям. Кто защищает розгу, рабство, тот держится теоретически высоких понятий. Кто защищает свободу и другие священные права человека, тот не держится возвышенных теоретических понятий[15]. В другой статье, написанной по поводу книги Чичерина «Несколько современных вопросов», Антонович глубокомысленно рассуждает на тему о свободе и власти. При всей кажущейся солидности и либеральной безукоризненности этих рассуждений, в них нельзя усмотреть веяния настоящей свободной мысли, которую Антонович мог-бы с правом противопоставить несколько узким, слегка лойальным тенденциям Чичерина. По мнению Антоновича, «свобода и власть с законом вещи согласные и тождественные». Элементы власти и закона, говорит он, действительно необходимы для свободы, для всего, «как пища для человека»: они служат выражением свободы, ограждением и утверждением её. Приведя некоторые мысли Чичерина, что только свобода, подчиняющаяся закону, может установить прочный порядок, что повиновение закону не должно быть сужено степенью его внутренних достоинств, что, во избежание анархии, обязанность повиновения распространяется на все юридические уставы страны, радикальный критик «Современника», желая быть практичным во что-бы то ни стало и не заноситься в облака слишком возвышенных теорий, прибавляет следующее: «Требование справедливое, в практике без него жить нельзя и неисполнение этого требования есть преступление»[16]. Наука имеет право на критику, она может заявлять еще и другие требования, но в жизни приходится исполнять всякий закон, каков-бы он ни был по существу.
Настоящей радикальной политической программы, с решительным анализом предпринимаемых правительством реформ, мы в «Современнике» этого периода не найдем нигде. Иногда в какой-нибудь статье промелькнет дельное и дальновидное юридическое замечание, загорится в намеке смелое требование, но в общем, как это и было верно отмечено Громекою в мартовской книге «Отечественных Записок» 1863 г.[17], «Современник» в политическом отношении потерял ту боевую окраску, которую он имел при Чернышевском. Он порою ярок в словах, но его содержание потускнело, дух его утратил свой полет. В том же томе «Современника», где, в прекрасной статье Унковского «Новые основания судопроизводства», мы находим отголосок более глубоких запросов серьезной части русского общества, где, среди обстоятельного и вполне компетентного разбора новых принципов процесса, мы встречаем твердое заявление, что начала и правила, соблюдение которых не обставлено никаким действительным обеспечением, на практике не имеют никакого серьезного значения[18], – в другой статье, принадлежащей редакции, во «Внутреннем Обозрении», журнал высказывает свою полную солидарность с правительственными действиями. Мы стоим, говорится в этом редакционном отделе., за привитие к народу русскому европейской цивилизации во всей её широте, с сохранением нашего общинного устройства и с устранением тех ошибок, которые сделали в своем развитии европейские общества. Но затем, приступая к разбору правительственных мероприятий, «Современник» заявляет: «этим путем привития к нашей жизни европейской цивилизации идет и наше правительство». Перечислив все главные реформы последнего времени, автор заключает: «Из неполного перечня поименованных нами реформ читатель видит, что наша жизнь обнята и тронута ими сполна. Если бы только половина их совершилась с желанным успехом, Россия сделала бы огромный шаг вперед на пути своего развития»[19]. Радикальный журнал, заодно с «Отечественными Записками», расписывается в своем полном удовлетворении, не пускаясь ни в какую серьезную экономическую или политическую критику. От всестороннего, но часто беспредметного юношеского протеста времен Добролюбова и Чернышевского, «Современник» перешел к ординарному, умеренно либеральному, бесцветному резонерству в униссон с благожелательными канцелярскими проектами общегосударственного блага. Но как бы не сознавая совершившихся в журнале, по воле судеб, роковых внутренних перемен, разжигаясь соблазнительными традициями крайней передовитости, «Современник», в том же «Внутреннем Обозрении», стараясь разогреть свою связь с молодым поколением, заводит направленский разговор о нигилизме и постепеновщине. Признав, что даже части правительственных преобразований, которые очевидно могли иметь только характер политической постепенности, было бы достаточно, чтобы подвинуть Россию далеко по пути развития, автор тут же начинает доказывать, что в постепеновщине нет никакой определенной меры постепенности и что только нигилизм «силен своим единством внутренним, как в целой партии, так и в каждом её члене». в другой статье, принадлежащей перу Щедрина, мы находим сильно выраженное осуждение внешней истории русского общества «со всем её мишурным блеском, со всем театральным громом». В то самое время, когда журналы распевают дифирамбы событиям дня, внутри России пишется другая история, история своеобразная, не связанная с внешнею даже механически. «Эта история пишется втихомолку, говорит Щедрин, и не ярко. Она не представляет собою сплошного рапорта о благосостоянии и преуспеянии, но, напротив того, не чужда скромного сознания бессилия, скромных сетований об ошибках и неудачах. Содержание её раскрывается перед нами туго и скорее поражает абсентизмом и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы. Но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в пучину безвестности»[20].
Среди таких отрывков из различных теорий о народном прогрессе и различных политических программ, умеренно-либеральных, радикальных и народнических, шумным потоком, бурля и вскипая на встречных камнях, несется несколько буфонствующая сатира молодого Щедрина. Чуткий ко всякой современности, художник с огромным и своеобразным талантом, человек обширного ума и беспощадной наблюдательности, Щедрин, по привычке русских либеральных журналистов с особенным уважением относиться к литературному критику, не побрезгал разделить с неряшливым в своих суждениях Антоновичем его неосмысленную антипатию к классическому произведению Тургенева «Отцы и дети». Антонович говорил: «Базаровщина есть, может быть, чистая клевета на литературное направление»[21], – и Щедрин тоже в бойкой статейке о петербургских театрах, написанной с веселым ехидством, почти издевается над романом Тургенева. Базаров, по его мнению, не есть что-нибудь серьезное. Тургенев написал свою повесть на тему о том, как «некоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавок еще из проходимцев, вздумал приударить за важною барыней, – и что из этого произошло». Все остальное в романе: «словопрения с братьями Кирсановыми, пребывание юных нигилистов у старого нигилиста» – не больше, как эпизоды, которые «искусный писатель необходимо вынуждается вставлять в свою повесть для того, чтобы она не была короче утиного носа». Разбирая далее пьесу Устрялова «Слово и дело», служившую как-бы ответом Тургеневу на его роман, Щедрин язвительно упрекает автора за то, что он искал в произведении Тургенева какого-то особенного, сокровенного смысла. Этого смысла в нем нет, говорит Щедрин, и вот почему «сочинение, имеющее задачей опровергнуть Базарова, есть сочинение мнимое, сочинение, выступающее с целым запасом смертоносных орудий затем, чтобы умертвить клопа»[22]. Никаких серьезных оговорок. Щедрин вместе с Антоновичем является своеобразным истолкователем замечательнейшего литературного явления, в котором отразилась богатая, полная сил жизнь молодого русского общества, Журнал не усвоил определенного отношения к нигилизму, подготовленному всею деятельностью Добролюбова и Чернышевского, и, увидав его в художественном отражении, сделанном с могучим талантом, накинулся на него с совершенно неожиданными для сотрудников «Современника» протестами. Даже беллетристическая эпопея Чернышевского, с её явно нигилистическими героями и романтическими подробностями, навеянными мечтою о новых людях и нравах, не возбудила в преемниках Чернышевского того сочувствия к базаровскому типу, которое сразу овладело Писаревым и подняло его на высоту исторического момента. Ум без системы, с пестрыми художественными интересами, с природною склонностью видеть все в игривом освещении, с раздраженным недоверием ко всему, что может быть названо русскою действительностью, Щедрин не сумел удержать Антоновича от бестактного глумления над романом Тургенева, а также над Теми реальными течениями, которые были захвачены в «Отцах и детях». Русская жизнь узнавала себя в новом типе, выкованном первоклассным художником с скульптурной рельефностью, поставленном перед глазами со всею отчетливостью действительного, всем известного факта, Но критика журнала, которая, казалось-бы, сразу должна была стать в сочувственное отношение к новому явлению, в чем-то усомнилась, увлеклась пустыми придирками и, вдавшись в совершенно бессмысленные по своей развязности эстетические рассуждения и сближения между Тургеневым и Аскоченским, пошла в разрез с наиболее передовою и могущественною в то время жизненною волною. В фельетонах 1863 и 1864 годов яркий талант Щедрина, не проложивший себе определенного русла, не овладевший своими более глубокими трагическими нотами, легкомысленно, стихийно, безыдейно плещется между противоположными явлениями, не проникая во внутрь их, с балагурным хохотом скользя по их внешним очертаниям. Но мутные волны неопределенной юмористической болтливости иногда вдруг, бурно разыгравшись и закружась, выбрасывают на своих хребтах легкую, блестящую пену настоящего остроумия. Среди расплывчатых, мучительно повторяющихся публицистических рассуждений, пересыпанных разными заковыристыми словцами, моментами вспыхивают грустно-юмористические образы настоящей, художественно-воспринятой русской действительности, и фельетоны, написанные ради временных целей, при случайных перспективах, приобретают живой литературный характер. В ежемесячные хроники Щедрина события современной жизни заносятся какими-то пестро-раскрашенными обрывками, не освещенными одною властною, ярко-пылающею идеею. По своему характеру, по тону своего сатирического обличения, эти фельетоны стоять в полном противоречии с тенденциозно-прямолинейною сатирою Добролюбова, с фанатически резкими, яростными обличениями Чернышевского.



