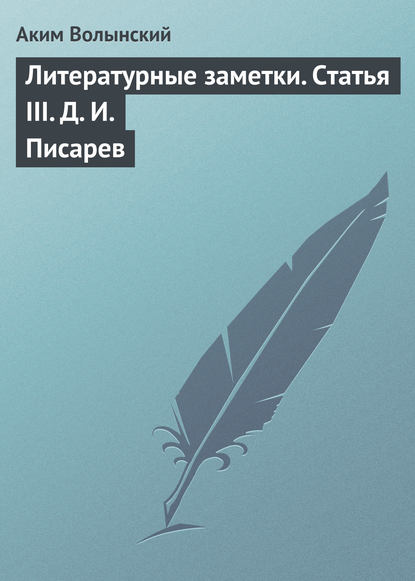 Полная версия
Полная версияЛитературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
К попыткам философского мышления, теоретического и практического, нужно отнести следующие статьи Писарева: «Пчелы», «Исторические идеи Огюста Конта», «Времена метафизической аргументации» и «Популяризаторы отрицательных доктрин». «Пчелы» представляют довольно остроумную сатиру в аллегорической форме, высмеивающую некоторые одряхлевшие формы социальной жизни. Статейка написана с талантом и обнаруживает в Писареве способность к тонкому политическому юмору без резкой гражданственной крикливости. Полная движения, борьбы и шума, общественных катаклизмов и торжественных празднеств, проносится перед нами своеобразная жизнь пчел, во многом напоминая людскую жизнь. Писарев выдерживает до конца основную тенденцию статьи, в высокой степени сочувственную рабочим силам всякого общества, хотя по отдельным фразам можно догадаться, что его политический индивидуализм не был особенно последовательным и решительным. «Исторические идеи Огюста Конта» составляют в сущности одно целое со статьею «Времена метафизической аргументации», напечатанною впервые в январской книге «Русского Слова» 1866 года, но в отдельном издании слитою с первою. Писарев, не разбирая и даже не излагая главных теоретических начал Контовской философии, пространно говорит об исторических идеях Конта, не подвергая их при этом никакой критике. Теологический период в жизни человечества не отличается в изображении Писарева никакою рельефностью, и суждения критика о первобытных религиях не идут дальше самых поверхностных обобщений. Отличительные черты позитивного мышления поняты Писаревым по дилетантски, а основные особенности метафизического направления представлены в его статье в таком извращенном виде, который, по своей наивности, не может быть признан правильным отражением даже контовской системы. Не будем останавливаться и на компилятивной работе «Популяризаторы общественных доктрин», примыкающей к двум предшествующим очеркам, в которой он с необычайной развязностью издевается над «бабьей» натурой Руссо и хлещет за недостаток ума Вольтера, и отметим, в заключение настоящей главы, несколько статей его по педагогическим вопросам. Об одной из этих статей – «Наша университетская наука» – мы уже упоминали в биографии Писарева. Она написана прекрасным, спокойным языком и в заключительных рассуждениях, посвященных общему образованию, содержит несколько метких замечаний о нашем гимназическом и университетском воспитании. Осмеяв старые педагогические приемы, Писарев требует полной реформы низшего образования и расширения свободы обучения в университетских аудиториях. В основу гимназической программы должно быть положено изучение математических и естественных наук – вот идея, которая проходит по всем его рассуждениям, делая его ярым поборником реализма против всех видов современного классицизма. Эта же идея светится в его обширной статье под названием «Школа и жизнь», заключающей его собственную учебную программу – низшую и высшую. Она же руководит им и при изложении взглядов Вирхова на воспитание женщин, при рассмотрении известной книги Юманса «Modern culture», содержащей в себе публичные лекции Тиндаля, Добени, Паджета и других об умственных потребностях современного общества, при составлении предисловия к «Урокам элементарной физиологии» Гекели. Враждою ко всякого рода классицизму проникнута и его резкая, почти взбешенная полемика против Шаврова, автора статьи «Классическое и реальное воспитание», напечатанной в «Дне»[20]. Не сдерживая потока бранных слов, хотя и давая понять читателю, что соперник его отнюдь не принадлежит к числу жалких фразеров из «Московских Ведомостей», Писарев яростно обороняет свои реалистические убеждения от всякого компромисса, от всякой возможной поправки или оговорки. В самом разгаре своей публицистической агитации, развернувшись во всей своей неумолимой, но наивной приверженности к реализму, Писарев не щадит противника, проповедующего более гармоническое воспитание гуманных и образовательных стремлений. Эта статья полна шумных криков, оскорбительных придирок и заносчивых поучений, совершенно незаслуженных мало известным, но серьезным автором.
III
В этом периоде своей деятельности Писарев окончательно входит в круг своих любимых реалистических идей и понятий. Без малейших сомнений и колебаний он разрешает теперь эстетические и моральные вопросы, выводя на строгий, беспощадный суд реализма лучших русских писателей. Все прошедшие воззрения, юношеская наклонность к красоте и изяществу окончательно исчезают, уступая место духу смелой, но прозаической публицистики, производящих полное замешательства в его критических приемах и суждениях. Статьи его приобретают вызывающий характер, не смягчаемый никакими случайными проблесками эстетического чувства, а слог становится грубо-популярным, подчас вульгарным, несмотря на поэтические темы критической разработки. Его мысли сосредоточиваются в одном направлении, сокращаясь в содержании и, может быть, вследствие исключительных внешних условий, при которых он писал эти статьи, не обогащаясь никакими свежими, яркими, идущими из самой жизни впечатлениями. Образ Базарова, в том патетическом, но узком истолковании, о котором мы уже говорили, завладел его умом. Каждое частное его соображение доказывается теперь ссылкою на Базарова, направляется Базаровым, вдохновляется Базаровым. Общие рассуждения, до бесконечности растянутые, утомляющие своими бесчисленными повторениями, вращаются в магическом кругу одних и тех же вопросов, не затрагивающих сущность и свойства рассматриваемых художественных произведений, но глубоко волнующих настроения прогрессивной толпы. Полемика с «Современником», возникшая по поводу Базарова, разожженная неожиданным преступлением некогда верных вассалов Чернышевского, появление романа «Что делать?», показавшего новых людей в борьбе с обстоятельствами жизни и бросившего заманчивый свет отдаленной утопии на волнения и страсти современности, – все это окончательно закалило молодого критика «Русского Слова». Базаров и Лопухов, Одинцова и Вера Павловна, взгляды Чернышевского на эстетические отношения искусства к действительности – вот тот материал, которым Писарев постоянно пользуется в своих новых статьях. Доведя до крайних выводов главные мысли Чернышевского, он с неукротимою энергиею набрасывается на русскую эстетическую литературу, разнося ударами своего острого ножа пустую, вздутую славу разных литературных авторитетов, усыплявших русскую публику своим сладкогласным пением, разбивая вековые предрассудки в широкой области эстетических пристрастий. Никому никакой пощады, ни с кем никакого союза, кроме истинного властителя современных дум, так же как и он сброшенного волною жестоких событий с видной и твердой жизненной позиции. Никому никакого сочувствия, кроме Чернышевского. Даже Добролюбов в этот кипучий момент его умственной деятельности не внушает ему полной симпатии. «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полной откровенностью, заявляет Писарев в сентябре 1864 года в статье своей Нерешенный вопрос, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте»[21]. Ему представляется, что преследуя эстетиков «меткими и справедливыми насмешками», Добролюбов сам в очень многом сходился со своими всегдашними противниками, восхищался «общими впечатлениями», не всегда отдавался спокойному, разумному анализу. Чтобы наглядным образом показать свое полное разногласие с этим недавно умершим критиком «Современника», Писарев еще в марте 1864 года печатает статью под названием «Мотивы русской драмы». Добролюбов нашел какой-то светлый луч в темном царстве своеволия и насилия. Он поддался порыву эстетического чувства и возвел в перл создания образ заурядной Катерины. Нам придется быть строже и последовательнее Добролюбова, говорит Писарев. Нам необходимо защитить его идеи против его собственных увлечений. Статья его об Островском была настоящею литературною ошибкою. Взгляд Добролюбова на Катерину не верен, потому что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в темном царстве патриархальной русской семьи. Обращаясь к самой драме Островского, Писарев следующим образом низводит Катерину с той высоты, на которую поставил ее Добролюбов. Во всех её поступках и ощущениях, пишет он, нас поражает прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь её организм, самое ничтожное событие, самый пустой разговор производит целый переворот в её мыслях, чувствах и поступках. Кабаниха ворчит – Катерина от этого изнывает, Борис Григорьевич бросил несколько нежных взглядов – Катерина влюбляется. Варвара сказала мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшей женщиной. При свидании с Борисом она сначала кричит: «поди прочь, окаянный человек», а вслед за тем кидается ему на шею. Когда приезжает Тихон, она вдруг начинает терзаться угрызениями совести, доходит до полу сумасшествия, хотя Борис живет в том же городе и, «прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое когда видеться и наслаждаться жизнью». Грянул гром, полоумная барыня прошла по сцене с двумя лакеями, – и Катерина бросается к ногам своего мужа с полным покаянием в грехах. Случайно произнесенное ею слово «могила» возбуждает в ней мысль о самоубийстве: «прыжок в Волгу – и драма оканчивается». Обрисовав таким образом ничтожество Катерины и затем показав её постоянные внутренние противоречия, Писарев схватывается с теми старыми эстетическими понятиями, которые мешают сложиться правильному отношению к человеческим страстям и которые даже такого человека, как Добролюбов, поставили на узкую тропинку, ведущую «в глушь и болото». К людям, а следовательно и к их художественным отражениям в поэтических произведениях надо относиться с точки зрения естественно-научного натурализма, и тогда не трудно будет найти истинное мерило человеческого величия или падения. Критик, чуждый эстетической рутины, следующий в своем мировоззрении за идеями Фохта, Молешотта, Бюхнера, проникшийся учением Дарвина и Бокля, увидит светлое явление только в том человеке, который умеет быть счастливым и приносить пользу себе и другим. Всякого рода карлики и уроды, само собою ясно, только по ошибке могут привлекать к себе симпатии мыслящего человека. Люди, которым обстоятельства подставляют постоянно «разноцветные фонари» под глаза, не могут служить светочами жизни. Способность страдать, ослиная кротость, нелепые порывы бессильного отчаяния – только мешают развитию реалистических идей в обществе. Средневековым людям, даже Шекспиру, было еще извинительно принимать «большие человеческие глупости за великие явления природы», но нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами[22].
Вот как оценивает одно из замечательных русских произведений Писарев. Проводя границу между собственными воззрениями и воззрениями Добролюбова и желая остаться верным принципам строгого и в этом случае совершенно бесплодного индивидуализма, он пересматривает старый литературный вопрос и на ярком художественном примере обнаруживает непреклонную прямолинейность своих убеждений. Но, разойдясь с Добролюбовым, Писарев не проливает ни одного светлого луча на явления жизни, изображенные сильным и характерным талантом. В известной статье Добролюбова слышатся живые публицистические ноты, открываются какие-то просветы из мрачного настоящего к восходящему из-за темной тучи солнцу. При господствующем гражданственном настроении, Добролюбов, со свойственной ему иногда тонкой едкостью, набрасывает несколько блестящих характеристик, прекрасно передающих типические свойства разбираемого произведения. Постоянно держа перед своим сознанием мысль о живой личной работе, он правильно шел от освобождения личности к широкому социальному освобождению. В рассуждениях Писарева о драме Островского, совпадающих с его рассуждениями о «бедной русской мысли», публицистическая идея, вытеснившая окончательно все чисто критические приемы, приводит его к такому бессодержательному индивидуализму, который оставляет без какого-бы то ни было разрешения социальный вопрос. Совершенно не вникая в исторические затруднения, преодолеваемые в борьбе за освобождение, не признавая значения за психологическими протестами отдельных единиц, Писарев всю надежду возлагает на естественно-научное просвещение молодых поколений, на отрезвляющее воздействие анатомических вивисекций. «Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, восклицает Писарев, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек и печатать книги и статьи с анатомическими рисунками». Только это и нужно: «в лягушке заключается спасение и обновление русского народа». Вот ясная дорога к эмансипации общества. А что касается страстей, треволнений любви с её приливами ревности, отчаяния – все это пустые предрассудки старины, прекрасно разоблаченные в романе «Что делать?» Посмотрите на Веру Павловну: она отказалась от корсета, завела мастерскую и смело завладела своим счастьем, великодушно подброшенным ей её реалистически-просвещенным мужем, Лопуховым. Для Веры Павловны, заявляет Писарев, даже немыслимы те огорчения, которые выпадают на долю ординарных женщин. Она знает на перечет все свои нужды, умеет контролировать все свои желания, сама отыскивает средства для удовлетворения своим потребностям. её любовные отношения, без оттенка пустой ревности, протекают среди сознательного труда на свою и чужую пользу. «Я всегда смотрел на любовь, говорит Писарев, не как на самостоятельную цель, а как на превосходное и незаменимое вспомогательное средство». Как настоящий реалист, имеющий высокие положительные задачи, он совершенно застрахован против всяких разочарований и охлаждений. Ощущение ревности обрекает женщину на вечную, унизительную и тягостную зависимость от любимого человека. Это уродливое психическое явление, указывающее «на страшную внутреннюю пустоту» тех людей, для которых любовь составляет «высшее благо и единственную цель существования». У этих несчастных людей нет никакой любимой деятельности. Они не принимают никакого участия в общей работе человечества. Все величайшие усилия человеческой мысли, все колоссальные события новейшей, истории, все животрепещущие надежды и стремления лучших людей совершенно им неизвестны. «Взаимная любовь, замечает Писарев, конечно, дает много наслаждений, больше, чем хороший обед, больше, чем роскошная квартира, больше, чем оперная музыка. Но наполнять всю жизнь взаимною любовью, не видеть в жизни ничего выше и обаятельнее взаимной любви, не уметь, в случае надобности, отказаться от этого наслаждения, – это значит не иметь понятия о настоящей жизни, это значит не подозревать, как велик и силен человеческий ум и какие неисчерпаемые сокровища неотъемлемых наслаждений скрыты в сером веществе нашего головного мозга»[23]. Так рассуждает Писарев о любви и о ревности в статье своей «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» и в том же направлении он рисует, с терпеливою постепенностью, романические отношения Базарова и Одинцовой в «Нерешенном вопросе». Писарев понимает причину, помешавшую Базарову увлечь Одинцову, он признает, что чувство его выразилось некрасиво, в такой форме, которая напугала тонкую, чуткую организацию Одинцовой. Но верный своим реалистическим понятиям, не видя в любви никакого высшего элемента, он с полемическим сарказмом обсуживает поведение Одинцовой, её кокетство, её упорное желание отыскать и разбудить в Базарове скрытую поэтическую силу. Весь этот тонко написанный роман, в котором художник незаметно подтачивает устои Базаровской философии, заставляет на наших глазах колебаться могучую, почти героическую фигуру под напором живой струи непобедимых душевных запросов, в изложении Писарева приобретает узкий смысл, сводится к простой иллюстрации его реалистической программы. Несчастная развязка любви Базарова есть, по мнению Писарева, только результат недомыслия Одинцовой в этом вопросе. Ее связала эстетика: в чувстве Базарова не было той «внешней миловидности, joli à voir», которую Одинцова совершенно бессознательно считает необходимым атрибутом всякого любовного пафоса. Не будь у Одинцовой подобного печального предрассудка, все сложилось-бы так, как это достойно двух мыслящих реалистов. При естественно-научном взгляде на любовь, как на «вспомогательное средство», при самом наивном истолковании глубоких страстей, овладевающих человеческою душою, Писарев должен был легко покончить с тем сложным вопросом, который так трудно разрешается в жизни и в настоящих художественных произведениях отражается во всей своей трагической запутанности. С наивностью, почти невероятною в устах человека, когда-либо жившего сердцем, Писарев совершенно не допускает самой возможности ревности, охлаждения, каких-либо недоразумений или драм в союзе двух людей, связанных между собою, при любви, общими реалистическими убеждениями, общим реалистическим трудом. «Черт знает, что за чепуха! восклицает он. Охладеть к другу потому, что он десять лета был другом. Разочароваться в этом друге потому, что мы вместе с ним постарели на десять лет. Искать себе новой привязанности, когда старый друг живет со мною в одном доме. Скажите, пожалуйста, есть ли человеческий смысл в подобных предположениях»?[24]. Глубоко проникнутый своими понятиями, настоящий реалист, в духе Базарова, как его понимает Писарев, не только не должен, но и не может терзаться какими-бы то ни было любовными неудачами, не только не должен, но и не может ревновать. Таковы были твердые, в своем роде благородные, но лишенные глубины и понимания души, убеждения Писарева в 1864 году, выраженные им с юношескою силою и пылкостью – в статьях, которые он писал в невольном уединении, в тиши каземата, вдали от солнечного света, от настоящей жизни с её прихотливою зыбью на поверхности, скрывающею под собою темную и опасную глубину. Еще за два года перед тем Писарев, быть может, охватывал этот вопрос шире, чем в указанных статьях. Тогда он думал о любви, как человек, хотя и имеющий определенные убеждения, но без той прямолинейности и ограниченности, которая привела его к ряду категорических жизненных выводов, лишенных всякого основания. Коснувшись этого вопроса в статье своей «Бедная русская мысль», Писарев не без тонкости замечает, что при разрешении его приходится иметь дело с целою областью неизвестных, непредвиденных и случайных сил, о которые часто разбиваются заранее придуманные теории. «Кто из нас не знает, например, спрашивает он, что ревность – чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит, и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение… Что же выйдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненно-гуманной философии»[25]? Выражая эти правдивые, искренние сомнения, Писарев был очень близок к пониманию действительной жизни и, может быть, принимал в соображение личный опыт. Он был тогда еще очень не далек от того времени, когда он, потеряв господство над собою, в минуту ревнивого отчаяния, явился на дебаркадер Николаевской железной дороги, скрыв лицо под маской и вооружившись хлыстом, чтобы выместить свою ревнивую злобу на счастливом сопернике. В 1864 году все непосредственные впечатления жизни, не проникая за стены крепостного заключения, уже не шевелили в нем интереса к тем психическим явлениям, которые ум его, лишенный от природы философской или художественной глубины, не постигал в своем чисто теоретическом движении… Мысль его, достигнув известной высоты, еще на первых порах его литературной деятельности, уже больше не развивалась, не обогащалась никакими свежими эмпирическими материалами и потому должна была, в конце концов, выродиться в какую-то бесплодную, радикальную схоластику, с бесконечным повторением одних и тех же доводов и постоянным тяготением к одним и тем же темам, при поразительной бедности поэтических образов и иллюстраций.
В течение нескольких месяцев Писарев завершает путь своего умственного развития. Утвердившись в своем реалистическом мировоззрении, он без всякого труда раскрывает перед своими читателями все детали своей программы. Типические черты человека из нового поколения вырисовываются у него с необычайной отчетливостью, и рассуждения Писарева о нуждах времени, о потребностях данной минуты, приобретают живой колорит эпохи. Реалисты, с их определенным отношением к обществу и фанатическим убеждением, что в естественных науках заключается спасение людей от всех зол, выступают теперь в качестве единственно «светлых личностей», за которыми должна последовать литература, если она не хочет удариться в реакцию. Самое понятие о благородном человеке и полезном труженике суживается в тисках реалистического учения, становится партийным лозунгом известного рода. Писарев входит в определение самых мелких подробностей реалистического образа мысли и жизни. Ничто не должно быть упущено. Все имеет высокий смысл, если лучшие силы должны быть направлены на решительную реформу старых, отживших понятий и привычек. В новом уставе каждый параграф должен иметь строго утилитарный характер, – иначе все движение может улетучиться в случайных проявлениях бессмысленных, личных капризов. У человека с реалистическими убеждениями все должно иметь определенное значение. «Человек строго реальный, говорит Писарев, видится только с теми людьми, с которыми ему нужно видеться, читает только те книги, которые ему нужно прочесть, даже ест только ту пищу, которую ему нужно есть, для того чтобы поддерживать в себе физическую силу. А поддерживает он эту силу также потому, что это кажется ему нужным, т. е. потому, что это находится в связи с общею целью его жизни». Человек с реальным направлением нуждается менее других умных и честных людей в отдыхе и может обходиться без того, что называется личным счастьем. Ему нет надобности «освежать свои силы любовью женщины, хорошею музыкою, смотрением шекспировской драмы или просто веселым обедом с добрыми друзьями». У него может быть разве только одна слабость: «хорошая сигара, без которой он не может вполне успешно работать», хотя он курит вовсе не потому, что это доставляет ему удовольствие, а потому, что курение «возбуждает его мозговую деятельность»[26]. Вся жизнь мыслящего реалиста ясна и разумна. Он трудится только над тем, что имеет близкое или отдаленное отношение к естественным наукам. На любовь он смотрит только как на вспомогательное средство, от которого ему не трудно отказаться при возвышенном образе мысли, устремленной к более важной задаче. У него нет ни единой свободной минуты, а для умственного подкрепления и возбуждения достаточно затянуться хорошей сигарой. Искусство реалист допускает в самом ограниченном виде. Вне реализма он не признает никакой поэзии. «Кто не реалист, говорит Писарев, тот не поэт, а просто даровитый неуч или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка». Быстро подходя к своим крайним, диким выводам, Писарев отказывается признать какую-нибудь пользу от изучения русской литературы. Он протестует против одного романиста за то, что тот приписал своему герою, принадлежащему к молодому поколению, интерес к литературным занятиям. Если в этом человеке должны воплощаться преобладающие стремления теперешней молодежи и если он действительно одарен блестящими способностями, то изучение русской литературы навязано ему совершенно некстати. Передовые силы общества относятся с полным равнодушием к таким деятелям, как Тихонравов, Буслаев, Сухомлинов. Что можно изучать в русской литературе? Какая сторона её может завлечь даровитого представителя современности? С решительностью убежденного варвара, он осмеивает самую возможность интересоваться народным мировоззрением, отражающимся в народной литературе. Люди, посвятившие свою жизнь на изучение памятников народного творчества, как, например, знаменитые братья Гриммы, могут быть уподоблены Рафаэлю, за которого Базаров справедливо не хочет дать медного гроша. Если бы в Италии было десять тысяч художников с талантом Рафаэля, то это нисколько не подвинуло бы итальянский народ ни в каком отношении, даже в умственном. Если бы Германия имела тысячу таких ученых, как Яков Гримм, она не сделалась бы ни богаче, ни счастливее. «Поэтому, с убийственной решимостью заявляет Писарев, я говорю совершенно искренно, что желал бы быть лучше русским сапожником или булочником, чем русским Рафаэлем или Гриммом… Я не могу, не хочу и не должен быть ни Рафаэлем, ни Гриммом – ни в малых, ни в больших размерах». Отрицая интерес древней и народной русской литературы, Писарев за произведениями новейшего искусства признает значение только сырых материалов, на которые нечего тратить время в бесплодных эстетических разглагольствованиях[27]. К тому, что называется русской поэзией в тесном смысле этого слова, он относится с явной иронией. У нас были, говорит он, или зародыши поэтов, или пародии на поэта. К первым относятся Лермонтов, Гоголь, Полежаев, Крылов, Грибоедов, а к числу пародий надо отнести Пушкина и Жуковского. Первые, как бы то ни было, заслуживают уважения, как зародыши, хотя и не развернувшиеся по недостатку благоприятных обстоятельств, чего то полезного для общества. Вторые не заслуживают никакой пощады. Они процветали, «яко крин», щебетали, как певчие птицы, им жилось легко и хорошо и это останется вечным пятном на их прославленных именах. Хотя Писарев еще недавно, в своей «Кукольной трагедии», снисходительно допускал, что Пушкин умен, что стих его легок, что образы картинны, но в «Нерешенном вопросе», при постепенно возраставшем полемическом раздражении и задоре, при постоянно усиливавшемся шуме литературной стихии, яростно гнавшей в одном направлении его легковесный и утлый челн, он уже не знает удержу своему отрицанию. Он окончательно отвернулся от этой ложно вздутой славы, «ничем не связанной с современным развитием нашей умственной жизни». Имя Жуковского уже забыто, говорит он, но Пушкина мы еще как-то не решаемся забыть окончательно, хотя в действительности он уже почти забыт. Эстетические критики пустили в ход о Пушкине разные нелепые слухи, прославив его, как великого поэта, а между тем Пушкин только великий стилист – и больше ничего. Не он, а Гоголь основал новейшую литературу. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками. Затем, как бы чувствуя вокруг себя шепот общего недоумения, Писарев обещает развернуть свои настоящие доказательства по этому вопросу, ошибочно решенному Белинским, в ряде готовящихся статей под названием: «Пушкин и Белинский»[28]. Отделавшись пока от Пушкина обещанием будущего разгрома, Писарев в небольшой главе выражает свой взгляд на искусства «пластические, тонические и мимические». По своей эксцентричной откровенности, поддерживаемой детской наивностью совершенно неразвитого в этом отношении ума, эта страница останется навсегда курьезным памятником странного культурного периода нашей жизни, с её прогрессивными гражданственными стремлениями, освобождением крестьян, судебной реформой и грубо ошибочными, хотя и в высшей степени влиятельными философскими и литературными теориями, уже тогда подрывавшими успехи социального развития. Несмотря на свою краткость, эти рассуждения Писарева о различных искусствах заключают в себе известную силу и привлекательность новизны, которая не могла не произвести впечатления на молодое общество, искавшее новых начал для жизни. Писарев прямо сознается, что он глубоко равнодушен ко всем искусствам, потому что он не верит, чтобы они «каким-бы то ни было образом» могли содействовать умственному или нравственному совершенствованию человечества. Конечно, он понимает самые различные пристрастия вкусов: один любит рюмку очищенной водки перед обедом, другой увлекается взвизгиванием Ольриджа в роли Отелло. «Ну и бесподобно, пускай утешаются». Разнообразие вкусов может, конечно, привести к устройству различных обществ, как, например, общество любителей водки, общество театралов, общество любителей слоеных пирожков, общество любителей музыки – и такие общества станут раздавать патенты на гениальность. «Вследствие этого могут появиться на свет великие люди самых различных сортов: великий Бетховен, великий Рафаэль, Канова, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря». Но зная настоящую цену всем этим обществам с их патентованными героями, людям с просветленным реалистическим сознанием остается только осторожно проходить мимо них, «тщательно скрывая улыбку». Впрочем, для живописи, не нашедшей себе особенного наименования в приведенном перечислении видов искусства, Писарев готов сделать маленькое исключение: черчение планов необходимо для архитектуры, почти во всех сочинениях по естественным наукам требуются рисунки, – и талантливый художник своим карандашом может содействовать архитектору в его деле и ученому натуралисту в распространении полезных знаний[29].



