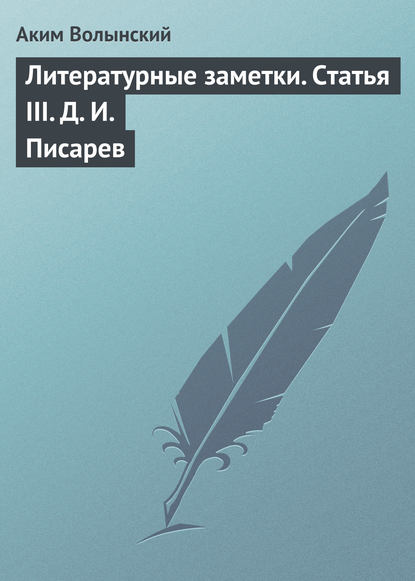 Полная версия
Полная версияЛитературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
И эти два небольших тома сочинений Киреевского, представляющие огромный интерес для понимания русского просвещения, Писарев оценил, как мы видели, с пренебрежением передового мыслителя, которому незачем разбираться в предрассудках и заблуждениях славянофильского писателя. Обвиняя «Современник» в легкомысленном отношении к деятелям славянофильского движения, Писарев сим не обнаруживает ни малейшего знакомства с их лучшими статьями, с их настоящими политическими и философскими стремлениями. Он рубит с плеча вопросы, требующие строгого изучения, самого широкого понимания, вопросы, в самой постановке которых выразилась несомненно прогрессивная потребность общества – осмыслить внутреннюю историю своего развития, уловить, постичь и разгадать черты народной психологии, незаметно направляющей его развитие по известному пути. В таком писателе, как Киреевский, помимо поразительно яркого литературного таланта, помимо огромной научной образованности, нельзя не видеть типических особенностей народного духа, и критический анализ его произведений, сделанный с необходимым беспристрастием, вернее всякой внешней пропаганды, должен открыть дорогу к самому источнику национального самосознания. Эта необычайная искренность его полу-лирических, полу-философских излияний, окруженных волнующимся туманом глубоких намеков, не всегда ясных для ума, но всегда тревожащих душу, этот патетический тон, придающий любимым идеям автора характер убежденной проповеди, – все это постоянно сближает читателя не с теми или другими мелкими вопросами данной минуты, а именно с мотивами внутренней, еще не вполне развернувшейся народной жизни. Никакая разумная, сознающая свою задачу критика не может пройти мимо Киреевского с равнодушием к тому, что волновало его в течение всей жизни, делало его энергичным бойцом за народные верования, вливало в его писания святую страсть миссионерского увлечения. В Киреевских выражается существенная особенность данной национальной культуры, и кто хочет лишить их обаяния в глазах людей, должен бороться с ними в честном бою, лицом к лицу с их действительными философскими взглядами и религиозными верованиями, проникая до глубины их логических доказательств, не оставляя без самого широкого, систематического возражения их основные теоремы, их руководящие убеждения. Можно обойти молчанием какое-нибудь мелкое явление консервативного или условно-либерального характера, но нельзя, без ущерба для литературы, для своего знамени, отделываться холостыми выстрелами дешевого остроумия, привлекая на суд критики людей, подобных Киреевскому, Хомякову и К. Аксакову. Легко блеснуть эффектным изречением, когда терзаешь, как жалкую добычу, какого-нибудь ничтожного журнального крикуна, дерзнувшего вступить в рискованную полемику с любимцем толпы, но только настоящая острота мысли, умеющей прорезаться к средоточию чужой системы, может с успехом состязаться с выдающимся талантом. Но Писарев, так же, как и автор статьи в «Современнике» под названием «Московское словенство», своим банальным глумлением над лучшими представителями славянофильской партии, мог, по закону противоречия, только укрепить то настроение умов, с которым он боролся своими несовершенными орудиями. Обе статьи – «Русский Дон Кихот» и «Московское словенство»[4] – лишний раз показывают, что в прогрессивном движении нашей недавней истории не было тех сил и знании, которые одни могли обеспечить за ним настоящий успех и значение.
Но о героях славянофильского движения, в том числе о братьях Киреевских, судили в русской литературе и люди с большими знаниями и с большой политической и философской прозорливостью – и судили совершенно иначе. В немногих словах Герцена личность Киреевского оживает во всем богатстве её патетической натуры и природных талантов. Благородный ратоборец, Герцен провожал в могилу своих достойных противников торжественным звоном своего колокола, и его надгробная речь, сказанная по поводу смерти К. Аксакова, звучит высокою, светлою правдою. «Киреевские, Хомяков и Аксаков, писал он 15 января 1861 года, сделали свое дело. Долго ли, коротко ли они жили, но закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». С них начинается перелом русской мысли, и хотя между ними и Герценом было огромное различие в некоторых убеждениях, но, по собственному признанию Герцена, всех их соединяла общая любовь. Это было «сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума». В обеих партиях билось одно общее сердце, хотя лица их, как у Януса или двуглавого орла, смотрели в различные стороны. Поклонник свободы и великого времени французской революции, Киреевский не разделял пренебрежения новых старообрядцев к европейскому просвещению, в чем он сам открыто сознавался с глубокой печалью в голосе при разговоре с Грановским. Это был, пишет Герцен, человек с необыкновенными способностями, с умом обширным, политическим, страстным, с характером чистым и твердым, как сталь. О статьях его, напечатанных в № 1 «Европейца» – «Девятнадцатый век», «О слоге Вильменя», «Обозрение русской литературы», «Горе от ума на Московской сцене» – Герцен отзывается в самых восторженных выражениях. Статьи Киреевского – удивительные, пишет он, они опередили современное направление умов в самой Европе. «Какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог…»[5] Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения. Преждевременно состарившееся лицо Ивана Киреевского носило резкие следы страданий и борьбы. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он за издание журнала, но на второй книге «Европеец» был запрещен. В «Деннице» поместил он статью о Новикове, но «Денница» была схвачена и цензор Глинка посажен под арест. Этого твердого и чистого человека «разъела ржа страшного времени»[6].
Так рисует Киреевского и его единомышленников Герцен. Эта характеристика вполне сливается со словами самого Киреевского о той роли, какую, он хотел-бы играть в литературе своего времени и народа. «Мы возвратим права истинной религии, говорит Киреевский в письме к А. И. Кошелеву, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога»[7]. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, говорит он, обращаясь к Погодину, кто не видит и не чувствует, что из неё рождается что то великое, небывалое в мире. «Общественный дух начинает пробуждаться. Ложь и неправда, главные наши язвы, начинают обнаруживаться»… Вся страстная сила Киреевского выразилась в этих ярких строках.
Первый период литературной деятельности Писарева – до приключения с брошюрой Шедо-Фероти, т. е. до заключения его в крепость, – Писарев закончил довольно обширной рецензией на огромное исследование П. Пекарского: «Наука и литература в России при Петре Великом». Это – смело и бойко написанная статья с проблесками свободного, хотя и не вполне оригинального отношения к некоторым историческим вопросам, имевшая большой успех в обществе, даже привлекшая к себе, спустя несколько лет, при выпуске в отдельном издании, пристрастное внимание заинтересованных сфер. Писарев, по обыкновению, не орудует никакими серьезными фактами, ничего убедительно не доказывает, но, давая волю чисто публицистическому порыву, играет дерзновенными афоризмами с протестантской окраской. Самое сочинение Пекарского, в двух томах которого рассыпано множество ценных материалов, осталось в сущности без надлежащего разбора, но Писарев и не считал необходимым входить в подробное изучение того, что он сразу же, без всяких колебаний, окинув орлиным взглядом бесконечную библиографию исследования, отнес к «сухой и дряхлой официальной науке», над которою, по его мнению, «может и должен смеяться всякий живой, энергический человек». Отделав в немногих словах Пекарского, щелкнув по дороге любителей «народной подоплеки» и некстати повторив дрянную клевету Минаева на Юркевича, Писарев приступает к изложению своих собственных взглядов на роль личности в историческом процессе. По его убеждению, все великие исторические деятели только «мудрили» над жизнью народов, потому что, в сущности, в их работе не могло быть ничего оригинального, им самим принадлежащего. Образчики известной эпохи, «безответные игрушки событий», безвинные жертвы случайностей и переворотов, которые выносили их на вершины истории, эти титаны сами по себе только вредили интересам личной свободы и просвещения. Никакая крупная личность не может управлять историческим потоком. Все великие люди, совершавшие реформы с высоты своего умственного величия, все «в равной мере достойны неодобрения». Одни из них были очень умны, другие «замечательно бестолковы», но все вместе насиловали природу вещей, ведя за собою общество «к какой-нибудь мечтательной цели». Все поголовно могут быть названы «врагами человечества». Свобода постоянно приносилась в жертву «разным обширным и возвышенным целям, созревающим в разных великих и высоких головах»… Подводя итог этим общим соображениям, Писарев формулирует основную мысль статьи в следующих трех пунктах: во первых, деятельность всех великих людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевеля и не пробуждая народного сознания, во вторых, деятельность великих людей была всегда ограничена тем кругом идей, в которых вращалась общая мысль эпохи, и в третьих, деятельность великих людей «не достигала своей цели, потому что претензии этих господ постоянно превышали их силы»[8].
Обращаясь к главному предмету статьи, Писарев в резких выражениях оттеняет свое отвращение ко всякого рода цивилизаторам «à la Паншин, или, что то же самое, à la Петр Великий». Любя европейскую жизнь, мы не должны обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая «разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра». С веселым задором Писарев взывает к настоящему европеизму, слегка иронизируя при этом над «остроумными затеями Петра Алексеевича». Деятельность Петра вовсе не имела таких плодотворных последствии, как это кажется его восторженным поклонникам. Его цивилизаторские попытки прошли мимо русского народа. Все, что он сделал, было плодом его личных соображений, не считавшихся с волею людей, которых имела в виду его реформа. Человек, не имевший во всю свою жизнь никакой цели, кроме «удовлетворения крупным прихотям своей крупной личности», он успел «прослыть великим патриотом, благодетелем своего народа и основателем русского просвещения». Нельзя не отдать Петру Алексеевичу полной дани уважения, насмешливо восклицает Писарев, не многим удается так ловко «подкупить в свою пользу суд истории»[9]. Он прослыл великим русским деятелем, хотя «жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась-бы в своих отправлениях», если-бы, например, Шакловитому удалось совершить задуманное им преступление[10].
Такова общая историческая философия статьи, таково применение этой философии к частному историческому явлению. По верному замечанию, так сказать, случайного критика Писарева – Ф. Павленкова, – в рецензии на книги Пекарского нет ничего особенно оригинального, принадлежащего собственным творческим теориям Писарева: то, что высказано Писаревым, в гораздо более резкой и неумолимой форме «можно встретить на каждой странице Бокля, Дрэпера и других». У Бокля мы встретим «буквально то же самое», что так поразило некоторых читателей в произведении Писарева. «Книга Бокля, говорил Павленков, была разобрана в предыдущих номерах Русского Слова, положения его цитировались чуть не в каждой журнальной книжке, затем деятельность Петра тоже была оценена в журнале, – таким образом задача Писарева состояла в обсуждении значения Петра с боклевской точки зрения»[11]. Но хотя Писарев и шел по стопам такого модного для того времени авторитета, как Бокль, тем не менее в его рассуждениях о роли великих людей в истории человечества нет надлежащей отчетливости и сколько-нибудь убедительных логических пояснений. Смешав воедино исторических героев, «состоявших на действительной службе», с теми великими людьми, которые в самом деле управляли судьбами и просвещением народов, не прикасаясь к официальному рулю государств, Писарев не показывает, какими силами совершается прогрессивное движение всякого общества. В каждом народе выдающимися работниками являются постоянно отдельные личности, глубже проникающиеся его духом, его умственными и нравственными понятиями, ярче сознающие его потребности и счастливою отгадкою находящие новые начала для переустройства жизни. они бросают новые идеи в народные массы, взбудораженные общим воздухом эпохи, я без всякого внешнего насилия, не прикасаясь к жезлу и мечу, совершают великие умственные перевороты. Об этих героях никаким образом нельзя сказать, что их деятельность поверхностна и не пробуждает народного сознания. Наивно утверждать, что пропаганда этих людей ограничена кругом современных понятий и никогда не достигала своей цели, потому-что их «претензии постоянно превышали их силы». Не разобравшись серьезно в этом коренном вопросе о значении личности в истории, Писарев отнесся и к деятельности Петра Великого без должной научной осторожности в обобщениях и характеристиках. Его насмешка не глубока и отдает юношескою хлесткостью. Как-бы ни были различны взгляды на роль Петра в русской истории, к каким-бы выводам ни пришла серьезная научная критика, при оценке его реформаторской деятельности, нельзя не видеть, что в бойкой статье Писарева нет серьезного содержания. Он не рисует личности Петра, этой богато одаренной индивидуальности с яркою печатью новаторских стремлений, как это мог-бы сделать человек, глубоко и вдумчиво изучивший эпоху, уловивший сквозь туман исторического отдаления живые настроения современного общества. Можно держаться по отношению к Петру I и такого мнения, какого держится, например, как это нам известно, граф X Толстой, широко изучивший документы времени для некогда задуманного им романа, но тогда весь центр тяжести должен быть перенесен от личности Петра в глубину общества, потому-что нельзя не видеть резких и многознаменательных социальных переворотов этого яркого исторического момента. Есть минуты в жизни Петра, писал Киреевский, когда, действуя иначе, он был-бы согласнее сам с собою, согласнее с тою мыслью, которая одушевляла его в продолжение всей жизни. Но общий характер его деятельности, но образованность России, им начатая, – «вот основания его величия и нашего будущего благоденствия». Будем осмотрительны, продолжает Киреевский, когда речь идет о преобразовании, им совершенном. Не забудем, что судить о нем легкомысленно есть дело неблагодарности и невежества[12]. Не представив никаких доказательств, совершенно не изучив самостоятельно не только документов эпохи, но даже и обширного труда Пекарского, Писарев не пошел по тому пути, по которому мог-бы с огромным успехом идти такой талант, как Толстой, и не обнаружил той осмотрительности, которую проповедовал Киреевский. Отрицая всякое значение за деятельностью Петра Великого и не признавая в то же время во всей прошедшей жизни русского общества ничего отрадного, прогрессивного, деятельного, Писарев даже не выдерживает своей мысли до конца и, соглашаясь с крайними славянофильскими мнениями относительно личности Петра, отрекается от тех посылок, которые давали смысл и даже некоторую силу их историческим выводам. Мы не думаем, говорит Писарев, чтобы «мыслящий историк» мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни. «Мы не думаем, чтобы он нашел что-нибудь, кроме жалкого подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения»[13]. Но если таково было до Петра прошедшее России, то каким образом при нем что-нибудь могло сложиться в темной жизни русского общества? Из каких элементов, спрашивается, образовалась эта новая прогрессивная сила, которая без Петра I сломила-бы то, что разбито им ради новых форм государственного существования? Писарев не видит, что решительно отрицая всякий смысл в допетровской жизни, он этим самым неизбежно возвышает значение и силу Петра и впадает в явное противоречие с самим собою. Писареву кажется, что русский народ должен проснуться сам собою и что всякая инициатива в этом направлении со стороны не имеет никакого смысла, «Мы его не разбудим, говорит он, воплями и воззваниями, не разбудим любовью и ласками… Если он проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности». Среди множества примеров, показывающих в Писареве отсутствие деятельного социального инстинкта, это один из самых типических, не требующий никаких комментариев.
II
Мы разобрали все более или менее важное, напечатанное Писаревым в течение первых лет его литературной деятельности. С 3-го июля 1862 года по 18-ое ноября 1866 года и затем, с этого последнего момента до его смерти, перед нами проходит вся его умственная работа, напряженная, кипучая, смелая, – сначала в крепости, потом на свободе. Не покидая литературной критики, Писарев печатает целый ряд статей по историческим, естественно-научным, философским и педагогическим вопросам, которые, по-видимому, занимали его ум, хотя и не увлекали его к серьезному изучению науки. Он популяризирует европейских авторов, передавая их мысли в ясных выражениях, нигде не критикуя их по существу, никогда не поднимаясь выше или даже на один уровень с их идеями. Писарев сам сознавал ограниченность своих знаний и, со свойственной ему откровенностью, не стеснялся признаваться в этом перед своими читателями в тех самых статьях, которые должны были ввести их в круг новейших научных идей. «Я не специалист, и читал до сих пор очень мало по естественным наукам», пишет он на заключительных страницах своих пространных очерков о Дарвине под названием «Прогресс в мире животных и растений». Он отлично понимает, что при наличных сведениях он не может быть признан образцовым популяризатором. Не видя кругом себя людей, которые могли-бы выполнить по отношению к обществу истинно просветительную задачу, он готов «изобразить своей особой деревянную ложку, которую немедленно можно и даже должно бросить под стол, когда на этот стол явится благородный металл». Но при всей ограниченности научной подготовки, Писарев не перестает занимать своих читателей бесконечно длинными компиляциями, написанными прекрасным слогом, но без широких обобщений, без определенного исторического или философского плана. В этих пространных статьях, составленных в большинстве случаев по двум-трем книгам, разбросано множество своеобразных характеристик и не везде выдержана последовательность основных логических соображений. Исторические темы интересовали Писарева почти столько же, сколько и темы естественно-научные. Напечатав еще в 1861 году свое студенческое сочинение об Аполлонии Тианском, не представляющее, несмотря на превосходный материал, живого изображения этой замечательной, несколько загадочной личности, Писарев сейчас же вслед за этой работой помещает в «Русском Слове» довольно бойкую характеристику Меттерниха. Спустя несколько месяцев он публикует свои «Очерки из истории печати во Франции» – почему-то под псевдонимом И. П. Рагодина – и затем исторические статьи становятся его постоянным вкладом в первый отдел журнала. В обширной компиляции «Очерки из истории труда» он излагает идеи американского писателя Кэри, в длинной статье, озаглавленной «Историческое развитие европейской мысли» он идет по стопам известного исследования Дрэпера, в других своих компиляциях он передает важные, но общеизвестные факты, относящиеся к перелому в умственной жизни средневековой Европы, и, наконец, в целом ряде эскизов он рисует события, предшествовавшие французской революции и создавшие ее. Несмотря на темперамент крайнего индивидуалиста и даже вопреки собственному убеждению, Писарев во всех этих статьях остается в высшей степени объективным повествователем, лишь иногда выражающим определенные, субъективные суждения о явлениях и лицах, приобретших широкую историческую известность. Определив однажды задачу историка, как «осмысление события с личной точки зрения»[14], Писарев в первой главе своих «Исторических эскизов» сам же вооружается против всякого излишнего субъективизма в такого рода работах. «Дело историка, пишет он, рассказать и объяснить. Дело читателя передумать и понять предлагаемое объяснение»[15]. В настоящем историческом рассказе нет места ни для похвал, ни для порицания, и вот почему можно сказать, что вся «колоссальная знаменитость» Маколея основана, в сущности, на ложном приеме. Он рисует исторические портреты и торжественно произносит над историческими деятелями оправдательные или обвинительные приговоры, хотя такая адвокатская или прокурорская декламация должна быть признана вопиющею нелепостью. В том месте, где Писарев сделал впервые определение исторической науки, он простирает свой субъективизм до того, что дает каждой политической партии право иметь свою собственную всемирную историю, потому что «история есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, составившихся путем жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем»[16]. В своих «Исторических эскизах» он уже не считает возможным что-либо оправдывать или обвинять в жизни народов с современной точки зрения, потому что он пришел к твердому убеждению, что «всякое отдельное событие, как бы оно ни было ужасно или величественно, есть только неизбежное и очень простое следствие таких же неизбежных и простых причин»[17].
Не большею самостоятельностью отличаются, как мы это уже отчасти знаем, и статьи Писарева по естественно-научным и философским вопросам. Вся его обширная пропаганда идей Дарвина в статье «Прогресс в мире животных и растений» не заключает в себе ни одной самостоятельной мысли и при том пестрит совершенно наивными и ненужными излияниями по адресу читателя. Превознеся Дарвина в выражениях, не обнаруживающих настоящей, научной компетентности, и поглумившись в заключение над его немецкими оппонентами, которые фамильярно обзываются при этом «милашками» и приравниваются к Пульхерии Ивановне и купчихе Кабановой, Писарев уверенным взмахом руки повергает во прах гениального в своем роде Ламарка и Жофруа-Сент-Иллера. Разрушая старые воззрения в естествознании, Писарев молодцевато прогуливается вокруг побежденной им системы, восклицая: «Принцип, принцип! Каково ты себя, друг мой, чувствуешь?» В другом месте Писарев, желая развить самостоятельную мысль в духе Дарвина, делает следующую игривую оговорку, обличающую однако некоторую неуверенность в своей научной правоспособности: «Если Дарвин, пишет он, позволяет медведю превратиться почти в кита, то, пожалуй, почему бы и моему воробью не превратиться, не говорю в крота, а в подземное и, разумеется, совершенно не летающее и не совсем зоркое животное? Pourquoi pas? Однако я все-таки не решусь этого сказать. Дарвину хорошо храбриться, он знает, что не наврет. А я на этот счет, при сильной наклонности моей к широким умозрениям, побаиваюсь за себя ежеминутно»[18]. В статье под названием «Подвиги европейских авторитетов» Писарев передает знаменитый спор Пастера с французскими учеными, защищавшими теорию произвольного зарождения – Пуше, Жоли и Мюссе, при чем рисует в комических чертах Пастера, отрицавшего за их учением научную солидность. Писареву представлялось, что механическая теория навеки обеспечила за собою полное господство, и знаменитые возражения Пастера, основанные на блестящих экспериментах, кажутся ему какими-то подозрительными происками ловкого чиновника от науки, не дорожащего её истинными, прогрессивными интересами. По непривычке к осторожности, необходимой в разрешении научных споров, он в решительные минуты изменяет скромному сознанию своей некомпетентности и систематически гнет в сторону гетерогенистов, не давая при этом никаких материалов для анализа их воззрений и в то же время грубо размалевывая портрет их противника. Заметим, кстати, в этом пункте, что вопрос, не перестававший волновать умы лучших европейских ученых, можно сказать еще на этих днях был представлен в его настоящей стадии в брошюре талантливого русского профессора И. П. Бородина «Протоплазма и витализм». Если бы науке, пишет Бородин, удалось неопровержимым образом доказать возможность зарождения хотя бы наипростейшего живого существа из бездушных веществ мертвой природы, если бы ей удалось уничтожить грань, отделяющую в природе живое от мертвого, подобно тому, как она блестяще стерла границы, разделявшие некогда растительное и животное царства, то пошатнулся бы один из важнейших оплотов витализма. Но механическое воззрение теряет постоянно доверие ученых и, говоря словами профессора К. Тимирязева, вся история попыток открыть самозарождение организмов должна быть признана рядом более и более решительных поражений. После блестящих опытов Пастера, заявляет Бородин, угасла всякая надежда на возможность самозарождения даже мельчайших живых существ – бактерий. Наука все решительнее и громче провозглашает, что живое порождается только живым. Но изображая в таком виде положение главного вопроса, затронутого в свое время на страницах «Русского Слова», профессор Бородин делает при этом некоторую фактическую ошибку – по отношению к Писареву. «Когда велся знаменитый спор Пастера с гетерогенистами, пишет профессор Бородин, симпатии всего нашего либерального лагеря, с покойным Писаревым во главе, были решительно на стороне Пастера, а Пуше, Жоли и вообще всю компанию гетерогенистов громили ретроградами, обскурантами. Вот уже истинно своя своих не познаша»[19]. Профессор Бородин прекрасно понимает, что Писареву, при его миросозерцании, естественно было держать сторону оппонентов Пастера, и, приписывая ему солидарность с Пастером, он отказывает ему в логической последовательности. Но Писарев в настоящем случае не изменил себе, и статья его «Подвиги европейских авторитетов», напечатанная в июньской книге «Русского Слова» 1865 года, служит тому неопровержимым доказательством.



